Текст книги "Ницше"
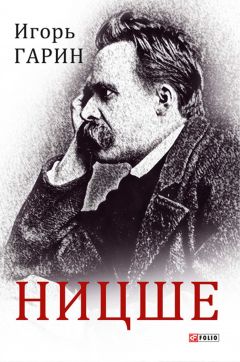
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
Ницше слег в конце 1875-го и проболел до марта, так до конца и не оправившись.
Ницше – Герсдорфу:
Я пишу с трудом и потому буду краток. Я никогда еще не переживал такого грустного, такого тяжелого Рождества, никогда не переживал такого страшного предчувствия. Я теперь более не сомневаюсь, что болезнь моя имеет чисто мозговое происхождение; глаза и желудок страдают от другой, посторонней причины. Мой отец умер тридцати шести лет от воспаления мозга. Весьма возможно, что у меня процесс пойдет еще быстрее. Я терпелив, но будущее мое полно всяких неожиданностей.
Д. Алеви:
С приближением весны Ницше пожелал уехать из Базеля. Герсдорф предложил составить компанию, и друзья поселились вместе на берегу Женевского озера в Шильоне. Ницше прожил там пятнадцать дней, и все это время дурное настроение его не покидало. Нервы его не выносили малейшего изменения температуры, малейшей сырости и присутствия электричества в воздухе. В особенности же он страдал от föhne, мягкого мартовского ветра, от дуновения которого начинают таять альпийские снега. Мягкая сырость действовала на него самым угнетающим образом; нервы его не выдержали, и он признался Герсдорфу в своей душераздирающей тоске и сомнениях. Герсдорф должен был возвращаться в Германию, ему пришлось покинуть друга в большой тревоге за его здоровье.
Впрочем, Ницше еще не утратил реабилитационной способности. Оставшись в одиночестве, он прочитал двухтомник Мальвиды фон Мейзенбуг «Воспоминания идеалистки». Он был глубоко привязан к этой пожилой женщине, как к собственной матери, с которой делился многими сокровенными мыслями. У нее было большое сердце, и для Ницше она стала воплощением идеального женского типа.
Чтение «Воспоминаний идеалистки» как бы воскрешает Ницше; мадам Мейзенбуг примиряет его с жизнью; к нему возвращается спокойствие духа и даже физическое здоровье.
В 1876 году Ницше пишет последнее из «Несвоевременных размышлений» – «Вагнер в Байрёйте». Самое поразительное в этом полном энтузиазма панегирике то, что он создается в момент, когда полностью развеяны все иллюзии Ницше в отношении старшего друга. Проницательный читатель чуть ли не на каждой странице этого эссе обнаружит скрытое неодобрение, преподанное в форме гимна. Ницше воздает хвалу художнику, не упоминая о нем как о философе. Нет ни слова о воспитательном значении его произведений. Сам дух панегирика радикально отличается от мыслей, высказанных в «Рождении трагедии» и все еще разделяемых Ницше, что придает работе скрыто иронический характер:
Для нас Байрёйт – это освящение храма во время битвы. Таинственный голос трагедии звучит для нас не как расслабляющее и обессиливающее нас очарование, она налагает на нас печать покоя (?). Высшая красота открывается нам не в самый момент битвы, но мы сливаемся с нею в момент спокойствия (?), предшествующий битве и прерывающий ее; в эти мимолетные мгновения, когда, оживляя в своей памяти прошлое, мы как бы заглядываем в тайну будущего, мы проникаемся глубиною всех символов, и ощущение какой-то легкой усталости, освежающие и ободряющие грезы нисходят на нас. Завтра нас ждет борьба, священные тени исчезают, и мы снова бесконечно отдаляемся от искусства; но, как осадок утренней росы, в душе человека остается утешительное сознание о пережитом истинном слиянии с искусством.
В книге есть и более открытое выражение изменившегося чувства: «Вагнер – не пророк будущего, как это можно было бы думать, но истолкователь и певец прошлого». Ясно, что Ницше уже не мог скрыть тех глубинных процессов внутреннего прозрения, которые происходили в нем все последние годы, но еще был не в силах громогласно заявить о разрыве, о расхождении путей. Но Вагнер не умел читать между строк и по-прежнему видел в Ницше только оруженосца. Его реакция на работу ускользающего из-под гипнотического влияния друга выражена в кратком письме:
Друг мой, какую чудесную книгу Вы написали. Когда Вы успели так хорошо узнать меня? [Надо полагать, глубоко трагический подтекст этого вопроса не осознавался автором письма.] Приезжайте скорее и оставайтесь с нами все время, начиная от репетиций до начала представлений.
Ваш Р. В. 12 июля.
Согласно признанию самого Ницше, в момент написания «Вагнера в Байрёйте» он уже полностью разуверился в его искусстве и идеях (для проницательного читателя это ясно и без комментария). Зачем же, вопрошает Л. Шестов, Ницше потребовалось писать «гимн» уже свергнутому кумиру? Ницше объяснил это тем, что, прощаясь со своим учителем, он хотел выразить ему признательность за все прошлое.
Внешне панегирический характер «Вагнера в Байрёйте» Лев Шестов объяснил тем, что Ницше все еще продолжал ощущать на себе гипнотический взгляд учителя и не находил в себе сил бороться с его влиянием:
Ницше был гордым человеком. Он не хотел выставлять напоказ свои раны, он хотел скрыть их от посторонних взоров. Для этого пришлось, конечно, притворяться и лгать, для этого пришлось писать горячие хвалебные статьи в честь Шопенгауара и Вагнера, которых в душе он уже почти ненавидел, ибо считал их главными виновниками своего страшного несчастья.
Несчастьем этим была несвобода, зависимость, лишение самостоятельности. Резкость поворота Ницше в отношении к своим учителям, собственно, объясняется длительным накоплением потенциала отречения и последовавшим разрядом.
Не покорности, как того требовала философия Шопенгауэра, но переоценки жаждала душа гиперборейца! Ницше нашел в себе силы отречься и от романтических увлечений молодости, и от пессимизма, и от последствий собственного оранжерейного воспитания, и от авторитетов, и от своей филистерски-профессорской среды. Эволюция Ницше была процессом такого рода отречений, все большим отходом от традиционного мышления к нонконформизму.
В поздних своих книгах Ницше интерпретировал «Вагнера в Байрёйте» как предчувствие «Заратустры»: можно, писал он, во всем тексте заменить слово «Вагнер» словом «Заратустра», не боясь искажения.
Весь образ дифирамбического художника есть образ поэта-предшественника «Заратустры», нарисованный с величайшей глубиной, не затрагивая ни на минуту вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. – Точно так же «Идея Байрёйта» превратилась в нечто, что не будет загадочным понятием для знатоков моего «Заратустры»: в тот великий полдень, когда самые избранные посвящают себя величайшей из всех задач – кто знает? призрак праздника, который я еще переживу… Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос: взгляд, о котором идет речь на седьмой странице, есть истинный взгляд «Заратустры»; Вагнер, Байрёйт, все маленькие немецкие жалкие вещи суть облако, в котором отражается бесконечная фата-моргана будущего.
Все в этом сочинении вперед возвещено: близость возвращения греческого духа, необходимость другого Александра, который снова завяжет однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры… На 71-й странице описан и предвосхищен с поразительной уверенностью стиль «Заратустры»; и никогда не найдут более великолепного выражения для события «Заратустра», для этого акта огромного очищения и признания человечества священным, чем на 43—46-й страницах.
В середине июля Ницше приехал в Байрёйт на начавшиеся репетиции тетралогии. О том, что он переживал в это время, свидетельствуют письма сестре:
Я жалею, что приехал сюда; до сих пор все имеет чрезвычайно жалкий вид. В понедельник я был на репетиции и до такой степени остался недоволен, что ушел, не дождавшись конца.
Мне психически необходимо жить совершенно одному и отказываться от всяких приглашений, даже от самого Вагнера.
Я только и думаю об отъезде: совершенно бессмысленно оставаться здесь дальше. С ужасом думаю о ежедневных тягостных музыкальных вечерах и все-таки не уезжаю. Я не могу больше оставаться здесь; я уеду даже раньше первого представления, сам не знаю куда, но уеду непременно; здесь мне все невыносимо.
Что узрел Ницше в Байрёйте летом 1876 года? Он узрел «титана», окруженного толпой фанов, парализованных поп-звездой (современный язык прекрасно передает зрелище, разворачивающееся перед философом в самый переломный момент его жизни, накануне «переоценки всех ценностей»). Он узрел масс-культуру в момент ее зарождения и ужаснулся тем, во что всё это может вылиться. Он узрел крушение своего понимания трагического, страдательного, дионисийского в культуре. Он узрел крушение, которое позже назвал «падением Вагнера».
Гегельянцы, последователи Шопенгауэра, идеалисты – все сливались в общем чувстве триумфальной гордости. Они праздновали успех. Иметь успех?! Ницше молчаливо слушал эти странные слова. Кто из людей, какой народ имели когда-нибудь успех? Этого не может сказать про себя даже Греция, упавшая с головокружительной высоты античной культуры. Разве все усилия не оказываются рано или поздно бесплодными? И оставляя в стороне театр, Ницше стал наблюдать за самим Вагнером: в душе у него, у этого источника восторгов, было ли достаточно величия, чтобы на вершине своего триумфа не забыть о муках и страдании творчества? Нет, не было. Вагнер был счастлив, потому что видел перед собой только удачу. Самодовольство такого человека еще больше оскорбляло и убивало радость, чем торжество грубой толпы.
Ницше не выдержал шквала переполнявших его противоречивых чувств и бежал. Правда, недалеко. Он бежал из Байрёйта в близлежащую деревеньку Клингенбрунн, бежал, дабы не заболеть, дабы не впасть в тот кризис, который с недавних пор стал ему ведом. Мне кажется, чтобы понять происходящее, необходимо увязать байрёйтские события со зреющим в Ницше Köhre, с рождением, собственно, того нового великого философа, которым он вот-вот должен был стать. Возможно, именно Байрёйт оказался той последней точкой, которая завершила этап «хождения в учениках» и открыла (окончательно оформила) новаторство зрелости.
Ницше бежал из Байрёйта, дабы справиться с волной новых захлестнувших его чувств. Вскоре он вернулся, но, судя по всему, бежал один человек, а вернулся другой. Этот другой присутствовал на премьере, слушал восторженные похвалы, посещал друзей, но был отстранен от всего происходящего. Между ним и другими пролегла пропасть, которой с этого момента предстояло только расширяться.
Сидя на премьере среди восторженной толпы почитателей, Ницше думал о том… Увы, никому не дано знать, о чем думал тогда Ницше. Еще не родился такой Джойс, который смог бы описать поток сознания человека, слушающего музыку, а поток сознания Ницше, слушающего «Кольцо», наверное, вообще неописуем, как неописуемо то, что происходит с избранниками человечества в момент, когда они становятся избранными.
Я не буду представлять Ницше человеком «перелома» или «просветления», потому что считаю, что Ницше изначально носил в себе свое будущее (о чем речь впереди). И все же байрёйтские торжества Ницше можно уподобить ульмской ночи Декарта или арзамасскому ужасу Толстого. В конце концов, после этих событий ведь тоже не возникло нового Декарта или нового Толстого. Просто что-то произошло…
В Базель из Байрёйта Ницше вернулся совершенно разбитым, тяжело больным. Он почти ослеп и мог писать только благодаря помощникам, благо последние еще были. Взамен отпадающим поодиночке старым друзьям-однокашникам он завел двух новых, молодых. Таковыми стали Пауль Рэ, талантливый литератор еврейского происхождения, с которым Ницше познакомился в 1874-м, и Петер Гаст (это прозвище, а не имя, настоящая фамилия этого студента Ницше – Кёзелиц). Благодаря им Ницше смог разобраться в записях, сделанных в Клингенбрунне, и продолжить работу над новыми произведениями. В Пауле Рэ Ницше привлекали не только человеческие качества, но и литературный дар. Чтение Паулем своих «Психологических наблюдений» отвлекало Ницше от тягостных размышлений о произошедшем в Байрёйте, и было просто интересно. На дворе стояла осень, но в душе «отступника» веяло льдом Коцита…
Ницше упросил университетское начальство предоставить ему годовой отпуск по состоянию здоровья. В том положении, в каком он находился, читать опостылевшие лекции было невозможно. В конце октября Ницше в сопровождении А. Бреннера и П. Рэ направился на отдых в Неаполь на виллу, нанятую госпожой Мейзенбуг. Ницше жаждал уединения, но и здесь, в Италии, снова оказался в свите Вагнера, также приехавшего в Сорренто и поселившегося по соседству. Бог все больше смахивал на рок…
Свите Вагнера Ницше явно предпочел общество Пауля Рэ. Естественно, это вызывало негодование первого, не скрывавшего своего антисемитизма и даже предупреждавшего ускользающего друга о нежелательности «порочащей» связи. Благо, вскоре Вагнеры уехали из Капри и началась милая, размеренная жизнь маленького кружка духовно близких людей с чтением вслух, обсуждением прочитанного, прогулками, творческой работой по утрам…
Человек, панически стеснявшийся своего происхождения, Пауль Рэ писал книги по нравственной философии, в которых обосновывал этику принципами утилитарности, рациональности и дарвинизма. Как и сам Ницше, он отличался страстностью и непрактичностью. У него также случались приступы черной меланхолии, связанные с проигрышами в рулетку. В чем-то он напоминал персонажи Ф. М. Достоевского.
Возможно, именно в эти спокойные и милые дни в душе Ницше совершился окончательный переход, обратный тому, который произошел с блаженным Августином, в страшном внутреннем страдании обретшим наконец своего Бога: «Вдруг точно свет тихий проник в мое сердце. Тьма сомнений моих рассеялась».
Скажи мне, из сострадания Твоего, скажи мне, Господи, Бог мой, что Ты для меня. Скажи душе моей – вот Я, спасение твое. Скажи так, чтобы я услышал. Вот сердце мое перед Тобою, Господи, и готово внимать Тебе. Открой его, скажи душе моей – вот Я, спасение твое.
Я отнюдь не случайно вспомнил Августина: при всей взаимоисключительности двух характеров, при прямо противоположном результате духовных исканий – Ницше и Августин одинаковые психологические типы, в страдании, экстазах и тяжелейшей внутренней борьбе обретшие собственную веру.
На вилле, арендуемой Мальвидой фон Мейзенбуг, Ницше работал над книгой, в которой постепенно вырисовывались контуры его грядущей философии и этики. Незадолго до отъезда он вручил своей старшей подруге кипу листов со словами: «Прочитайте, здесь я записал то, что передумал, когда сидел под этим деревом; я никогда не сидел под ним без того, чтобы не обрести какой-нибудь новой мысли».
Прочитав афоризмы и стихи Ницше, г-жа Мейзенбуг пришла в ужас: первая свидетельница еще несложившегося, но уже в контурах прорисованного ницшеанства, сразу поняла, какой динамит она держит в руках. «Не печатайте этого, – посоветовала она, – не горячитесь, подождите, обдумайте…». Но Ницше уже давно все обдумал, он уже выбрал свою судьбу и не собирался предавать себя.
В мае, убегая от итальянской жары, Ницше уехал лечиться на воды в Розенлау. Здоровье становилось все хуже, и он с ужасом думал о приближении занятий, лекций, ненавистной работы… Он питал надежду на то, что университетские власти учтут состояние его здоровья, продлят отпуск, может быть, дадут пенсию. Госпожа Мейзенбуг советовала ему уйти из университета, Элизабет, наоборот, требовала его возвращения «на службу».
Ф. Ницше – М. Баумгартен:
Я прекрасно знаю и чувствую, что меня ждет более высокое будущее. Я могу, конечно, работать как филолог, но я нечто большее, чем простой филолог. Я сам исказил себя. Я постоянно думал об этом последние десять лет. Теперь, после того, как я целый год прожил вдали от людей, – все стало для меня чрезвычайно простым и ясным (я не могу выразить вам, насколько я чувствую себя – наперекор всем моим страданиям – творцом радости). Теперь я могу с полной уверенностью сказать, что возвращаюсь в Базель не для того, чтобы там остаться. Что будет дальше, я не знаю, но (как бы ни были скромны мои материальные условия) я завоюю себе свободу.
Подтекстом слов «я завоюю себе свободу» следует считать произошедшее к этому времени полное освобождение Ницше от прошлых ценностей и кумиров – эллинства, христианства, Шопенгауэра, Вагнера. Позже, характеризуя свою первую подлинно ницшеанскую книгу – «Человеческое, слишком человеческое», – Ницше напишет:
«Человеческое, слишком человеческое» есть памятник кризиса. Оно называется книгой для свободных умов: почти каждая фраза в нем выражает победу – с этой книгой я освободился от всего неприсущего моей натуре. Не присущ мне идеализм: заглавие говорит: «Где вы видите идеальные вещи, там вижу я – человеческое, ах, только слишком человеческое!..» Я лучше знаю человека… Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово «свободный ум»: освободившийся ум, который снова овладел самим собою. Тон, звук голоса совершенно изменились: книгу найдут умной, холодной, при обстоятельствах даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность аристократического вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти Вольтера как бы извиняет издание этой книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего grandseigneur духа: так же, как и я. – Имя Вольтера на моем сочинении – это был действительно шаг вперед – ко мне…
Ницше уподоблял себя Вольтеру, но в этот период видел в себе еще и Сократа, овода, осмеятеля, воина…
Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных побед, пафоса и вывихнутых членов – всё это было бы еще идеализмом, одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается – он замерзает. Здесь, например, замерзает «гений», немного дальше замерзает «святой», под толстым слоем льда замерзает «герой», в конце замерзает «вера», так называемое «убеждение», даже «сострадание» значительно остывает – почти всюду замерзает «вещь сама по себе».
Книга произвела впечатление взрыва, а вагнерианцами была воспринята как проявление психической болезни. Козима Вагнер весной 1879-го писала Элизабет Ницше:
Книга твоего брата опечалила меня; я знаю, он был болен, когда сочинял все эти в интеллектуальном отношении столь ничтожные, а в моральном столь прискорбные афоризмы, когда он, человек глубокого ума, трактовал поверхностно все серьезное и говорил о вещах, ему неизвестных; хоть бы Небо дало ему тогда настолько здоровья, чтобы, по крайней мере, не публиковать этого печального свидетельства своей болезни!..
Появление «книги для свободных умов», а проще говоря, бомбы, в клочья разорвавшей все связи человека, «увеличившего независимость в мире», объясняют двумя причинами: пагубным еврейским влиянием Пауля Рэ и завистью неудачливого ученика к знаменитому учителю. Мол, несостоявшийся музыкант воспылал злобой к Вагнеру, однажды пренебрежительно отозвавшемуся об одной музыкальной композиции Ницше. Что до влияния на Ницше молодого Рэ, то охлаждение к вагнерианству началось у него задолго до знакомства с автором «Происхождения моральных чувств» – книги, вышедшей за год до «Человеческого, слишком человеческого» и подаренной Ницше с автографом: «Отцу этой книги с благодарностью от ее матери».
Реализм «Человеческого, слишком человеческого», навеянный идеями Пауля Рэ, понуждает автора во многом идти против самого себя: место Диониса здесь вновь занимает охранитель храма новой истины, Сократ; мудрое бесстрастие возвышается над вакхическим бурлением страсти; даже наука оказывается «дальнейшим развитием художественного», художник же – «отсталым существом»…
Чувство не последнее, не коренное в человеке, за чувствами стоят суждения и оценки, которые уже переходят к нам по наследству в форме чувств.
Ницше временно жертвует даже культом гения, уступающим «степени разума и силы». Даже презираемой массе он отдает долги. Даже вожди оказываются «людьми упадка».
Теперь даже истинное величие кажется ему роковым, потому что оно стремится «подавить собой много более слабых сил и зародышей», между тем как более справедливо и желательно, чтобы жили не только великие натуры, но чтобы и более «слабым и нежным было бы достаточно воздуха и света». «Предпочтение величия – истинный предрассудок. Люди преувеличивают все большое и выдающееся. Крайности обращают на себя слишком много внимания, а между тем преклонение перед ними – признак более низкой культуры».
Конечно же, появление удивительной, парадоксальной книги Ницше никак не связано с чьим-то влиянием или местью – просто он наконец открыл себя, «освободился от всего неприсущего своей натуре».
Ф. Ницше:
То, что тогда у меня решилось, был не только разрыв с Вагнером – я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называйся они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. Нетерпение к себе охватило меня; я понял, что настала пора сознать себя. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено – как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Я стыдился этой ложной скромности… Десять лет за плечами, когда питание моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Тщательно, с больными глазами пробираться среди античных стихотворцев – вот до чего я дошел! – С сожалением видел я себя вконец исхудавшим, вконец изголодавшимся: реальностей вовсе не было в моем знании, а «идеальности» ни черта не стоили! – Поистине, жгучая жажда охватила меня: с этих пор я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук… «Человеческое, слишком человеческое», – этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесенному в меня «мошенничеству высшего порядка», «идеализму», «прекрасному чувству», «Богу» и прочим женственностям, – было во всем существенном написано в Сорренто.
Это признание – один из ключей к разгадке не только «Человеческого, слишком человеческого», но и последующих сочинений философа, осознавшего, что только собственный путь и глубина самовыражения гарантируют человеку вечность.
Книга действительно удивительна и парадоксальна: упреждая «переоценку ценностей», он опровергает все то, что защищал ранее, науку ставит выше поэзии, Сократа, развенчанного ранее, – выше Эсхила. И главное, – низвергает с воздвигнутых им же пьедесталов двух собственных кумиров – Шопенгауэра и Вагнера.
Еще в начале 1877 года Ницше получил от Вагнера «Парсифаля» и еще сильнее ощутил пропасть, что их разделила.
Ф. Ницше – барону фон Зейдлицу:
Первое впечатление от поэмы – больше похоже на Листа, чем на Вагнера, веет духом контрреформации; для меня, слишком привыкшего к греческой атмосфере, все это кажется лишь крайне ограниченным христианством; психология крайне фантастична; нет плоти, но слишком много крови (очевидно, Тайная Вечеря слишком для меня кровава); я не люблю истерических горничных… Сам язык кажется мне переводом с иностранного.
Ницше понимал, что Вагнер ждет его реакции на поэму, но что он мог ему сказать?.. Два месяца он молчал. Книга «Человеческое, слишком человеческое» была уже отпечатана, но он просил издателя задержать обнародование. Ницше сознавал, какой взрыв негодования вызовет его книга у байрёйтских «святош», приученных к низкопоклонству. Видимо, он страшился содеянного, испугался собственного эпатажа, начал строить фантастические планы. Книга выйдет анонимно, никто, кроме самого Вагнера, не узнает имени автора, только ему, поруганному, он откроет свое авторство. Сохранился проект письма, адресованного, но, видимо, так и не отосланного в Байрёйт:
Я посылаю Вам эту книгу [ «Человеческое, слишком человеческое»] и открываю Вам и Вашей достойной жене с полной откровенностью мою тайну, но она должна быть также и Вашей. Автор этой книги – я… Я нахожусь сейчас в положении офицера, взявшего редут; он ранен, но взобрался на верхушку вала и размахивает знаменем. В душе моей, несмотря на весь ужас окружающего, больше радости, гораздо больше радости, чем горя. Я Вам уже говорил, что не знаю решительно никого, кто был бы действительно согласен с моей философией. Тем не менее я льщу себя надеждой, что я мыслил не как отдельный индивид, но как представитель взглядов определенной группы; своеобразное ощущение синтеза, личного и общественного… Самый быстрый герольд [именно герольдом ощущает себя Ницше!] не знает в точности, мчится ли за ним кавалерия и существует ли она в действительности…
Я полагаю, слабость «анонима» была минутной. К тому же издатель категорически отказался выпускать книгу анонимно.
Наконец он решился; в мае 1878 года Европа собиралась праздновать сотую годовщину смерти Вольтера. Ницше решил, что книга его выйдет именно в момент этого торжества и что он посвятит ее памяти великого памфлетиста.
Легко можно себе представить реакцию Вагнера на «Человеческое, слишком человеческое», если даже неупоминание его имени в памфлете «О вреде и пользе изучения истории» вызвало гнев семьи и деликатный выговор Козимы.
Мосты были сожжены. Наступила зловещая тишина, какая случается перед сражением или бурей. Оторопевшие «соратники» маэстро онемели от ярости. Сам Вагнер злорадствовал над тем, что книга не имеет успеха и не расходится среди публики. «Вот видите, – подтрунивал он над издателем, – Фридриха Ницше читают лишь тогда, когда он защищает наши идеи, в противном случае им никто не интересуется».
В августе 1878 года Вагнер, не выдержав молчания и не дождавшись поддержки «королевской рати», разразился агрессивной статьей «Публика и популярность». Не называя имени «первого ученика», но явно подразумевая именно его, он расценил книгу как следствие болезни, а афоризмы – интеллектуально ничтожными и морально прискорбными.
Каждый немецкий профессор должен хоть раз в жизни написать книгу для того, чтобы достигнуть некоторой степени известности; но так как не каждому удается отыскать истину, то он – для достижения желанного эффекта – доказывает полную бессмыслицу взглядов своего предшественника. Эффект тем больший, чем значительнее поносимый им мыслитель.
Вагнер резко разорвал отношения с лучшим другом, не удосужившись поинтересоваться причиной резкой перемены к нему самого горячего из поклонников, даже не поняв, что птенец обратился в орла. «Книга для свободных умов» обнаружила всю глубину человеческой несвободы: разрыв с Вагнером открыл перспективу абсолютного одиночества, отныне земля все чаще начала трещать под ногами Ницше…
С «Человеческим, слишком человеческим» Ницше начал терять друзей. Э. Роде не одобрил книгу, Герсдорф прислал из Парижа посылку с бюстом Вольтера и язвительной запиской: «Душа Вольтера приветствует Фридриха Ницше», Элизабет была в шоке: будучи шовинисткой, она не могла примириться, что «истинный ариец» взял в руки знамя «лягушатника». В кругу Вагнера Ницше расценили неблагодарным подлецом, к тому же безумцем.
Единственным человеком, одобрившим книгу Ницше, вновь оказался Якоб Буркхардт – именно ему принадлежат приведенные выше слова о том, что она «увеличила независимость в мире». «Ни одна книга не могла разбудить во мне стольких мыслей, как ваша, – сказал Буркхардт Ницше, – это точно разговоры Гёте с Эккерманом».
Буркхардту, этому поклоннику Ренессанса и певцу личности, импонировало предостережение Ницше против социализма, который «жаждет такой полноты государственной власти, какою обладал только самый крайний деспотизм, и он даже превосходит все прошлое тем, что стремится к формальному уничтожению личности; последняя представляется ему неправомерной роскошью природы, и он хочет реформировать ее, превратив в целесообразный орган коллектива».
Для Ницше началась странная, призрачная жизнь изгоя, тяжело раненного одинокого волка, которого лучше избегать, «не замечать». Даже человек, одобривший его книгу, Якоб Буркхардт, старался уклониться от дружбы – боялся за собственную репутацию.
«Я, как настоящий корсар, охочусь за людьми – не для того, чтобы взять их в плен, но, чтобы увести их с собой на свободу». Дикая, предлагаемая им свобода не увлекает юношей. Один студент, М. Шеффер, оставил интересные воспоминания: «Я слушал лекции Ницше, которого знал совсем немного. Однажды после лекции мы разговорились и пошли вместе… Светлые облака плыли по небу. «Как быстро несутся эти прекрасные облака», – сказал он мне. «Они похожи на облака с рисунков Паоло Веронезе», – ответил я. Вдруг он внезапно схватил меня за руку. «Послушайте, скоро вакация, я на днях уезжаю, поедемте со мною любоваться облаками в Венеции». Я был застигнут врасплох и пробормотал что-то неопределенное. Ницше отвернулся; лицо его стало холодным, замкнутым, точно мертвым. Он ушел, не сказав мне ни одного слова».
О чем свидетельствует эпизод? О многом слишком человеческом: о затравленности Ницше, о бесконечном одиночестве, о вакууме, сложившемся вокруг него, о страстной тяге к человеческому, о другом…
В этом пребывании наедине с собой, в этом пребывании наедине против самого себя – самый глубокий смысл, самая священная мука жизненной трагедии Фридриха Ницше: никогда не противостояла такому неимоверному избытку духа, такой неслыханной оргии чувств такая неимоверная пустота мира, такое металлически непроницаемое безмолвие. Даже сколько-нибудь значительных противников – и этой милости не послала ему судьба, и напряженная воля к мышлению, «замкнутая в самой себе, вскапывая самое себя», из собственной груди, из глубины собственного трагизма извлекает ответ и сопротивление. Не из внешнего мира, а из собственных кровью сочащихся ран добывает судьбой одержимый жгучее пламя и, подобно Гераклу, рвет на себе Нессову одежду, чтобы нагим стоять перед последней правдой, перед самим собой. Но какой холод вокруг этой наготы, каким безмолвием окутан этот ужасный вопль духа, какие молнии и тучи над головой «бого-убийцы», которого не ищут противники, который не находит противников и поражает самого себя, «себя познающий, себя казнящий без состраданья».
Мне всегда импонировала мысль о гениях, переговаривающихся между собой сквозь времена и пространства. Августин – Паскаль – Киркегор – Ницше – Фрейд – Хайдеггер – Шестов… Люди разных судеб, разных парадигм, разных ментальностей и… такие близкие по духу. Потрясающая встреча из истории как если бы: взыскующий Христа Киркегор и «антихристианин» Ницше… Что случилось бы, что изменилось бы в жизни Ницше, если бы взамен множеству Зоилов-Виламовицев он обрел бы хоть одного друга масштаба Достоевского?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































