Текст книги "Ницше"
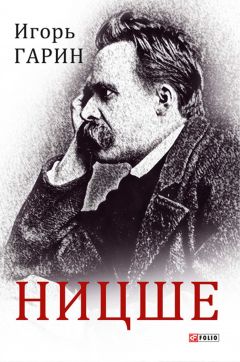
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц)
Я сказал, что занимаю место по ту сторону добра и зла. Разве это означает, что я хочу освободиться от всякой моральной категории? Вовсе нет! Я отвергаю идеализацию покорности, которую называют добром, и поношение энергии, называемое злом. Но существует ведь история человеческого сознания, а знают ли моралисты о ее существовании? Эта история открывает нам множество иных моральных ценностей других способов быть добрым, других средств быть злым, она дает многочисленные оттенки чести и бесчестия. Здесь реальность обманчива и инициатива свободна: надо искать, надо находить новое.
Только за три года (1885–1887) Ницше истратил около 500 талеров на печатание своих книг. Конечно, никаких гонораров, согласие на отказ от авторских прав, все мыслимые и немыслимые унижения, с которыми сталкиваются начинающие авторы у издателей. Но Ницше уже 43 года, он автор 15 книг, и у него – последняя вера: «Может быть, когда-нибудь мои издатели и восторжествуют. Я же хорошо знаю, что в тот день, когда меня начнут понимать, я “не получу за это никакой прибыли”».
П. Дёйссен, посетивший комнату Ницше в крестьянском доме (1887 г.), оставил следующее воспоминание:
Обстановка была самая скромная, какую можно себе представить. На простом деревенском столе, в невообразимом беспорядке лежали рукописи рядом с туалетными принадлежностями, тут же валялась яичная скорлупа, стояли кофейные чашки, немного дальше торчал на подставке сапог, кровать была неубрана.
Осенью 1887 года Ницше начал работу над давно задуманным «главным сочинением» жизни – речь идет об «Опыте переоценки всех ценностей». Он давно задумал эту книгу и представлял ее своей самой «совершенной книгой». В записях, относящихся к ноябрю 1887 года, находим:
Совершенная книга: для этого принять во внимание:
1. Форма. Стиль. Идеальный монолог. Ученый подтекст. Все проявления глубокой страсти, беспокойства, а также самоотдачи. Солнечные пятна, счастье, высшая ясность. Быть выше всяких объективностей; быть абсолютно личным, не употребляя первого лица. Нечто вроде мемуаров: говорить о наиболее отвлеченных вещах конкретно и нелицеприятно. Изложение должно иметь вид пережитого и выстраданного лично… По мере возможности быть конкретным, давать примеры… Никаких описаний: все проблемы должны быть перенесены в область чувства, до страсти включительно.
2. Выразительные термины. Преимущество военных терминов. Найти выражения для замены философских терминов.
Перед нами план этой книги, набросанный в начале 1888-го:
Книга первая. Антихристианин. Опыт критики христианства.
Книга вторая. Вольный дух: критика философии как нигилистического движения.
Книга третья. Имморалист: критика невежества самого фатального рая, повседневной морали.
Книга четвертая. Дионис: философия вечного возвращения.
Всего Ницше написал 372 фрагмента, разложенных по четырем рубрикам, четырем будущим томам: европейский нигилизм, критика высших ценностей, принцип новой оценки ценностей, дисциплина и отбор. Большая часть фрагментов не обработана автором и не доведена до вида искрящихся афоризмов, как в предыдущих книгах. Именно эти фрагменты неоконченной книги были затем положены в основу скомпонованной Элизабет Фёрстер и «Архивом Ницше» подделки, вышедшей под названием «Воля к власти». Книга сфабрикована из 5 тысяч листов рукописного наследия философа, поданных в тенденциозном плане: к вышеупомянутым фрагментам добавлено еще около 700 вырванных из контекста мыслей, так что искажена не только общая модальность задуманного Ницше произведения, но и его замысел в целом.
Я еще вернусь к вопросу о фальсификации задуманной Ницше книги, поскольку на протяжении многих десятилетий «Волю к власти» включали в корпус философского наследия Ницше, что радикально искажало представления о философе вплоть до абсурдного зачисления его в предтечи фашизма – абсурдного по причине абсолютной несовместимости элитарно-аристократического мировоззрения с плебейской, ориентированной на чернь идеологией завсегдатаев мюнхенских пивных. Сам Ницше определил цель своей недописанной книги, не оставив никаких сомнений относительно ее замысла:
Исследовать все пространство современной души, в каждом уголке вкусить мою радость, мою пытку, мою гордость. Превозмочь пессимизм и посмотреть, наконец, на мир гётевским взглядом, полным любви и доброй воли.
Ницше сам называет имя человека, вдохновившего его на этот труд. Это – Гёте. По Гёте сверял Ницше свои мысли, с Гёте увязывал идеалы.
Гёте не унизил ни один вид человеческой деятельности, не изгнал ни одной идеи из своего духовного мира; как добрый хозяин, он распорядился бесконечно обильным наследием человеческой культуры. Таков последний идеал Ф. Ницше, его последняя мечта. Зная о судьбе, что его ожидает, он хочет в конце жизни наподобие заходящего солнца сохранить наиболее нежные лучи: всюду проникнуть, все рассудить, все осветить, без единой тени на поверхности души, без грусти в ее глубине.
И вот этот благородный замысел Элизабет превратила в откровенный вандализм, в гимн насилию, в настольную книгу чудовищ, уже появившихся на свет…
Работа над «Опытом переоценки» была для Ницше «сплошной пыткой». Он признался П. Гасту, что не в состоянии даже думать о продолжении работы. «Через десять лет дело пойдет лучше», – пишет Ницше, не подозревая жути иронии, вложенной в эту трагическую надежду.
Как часто жаркой утренней порой
Мысль о тебе печаль мою врачует,
А жадный гриф летает надо мной,
Как будто вправду мертвечину чует.
Уймись, стервятник, – я пока не труп.
Сегодня пира у тебя не выйдет:
Еще слова с моих слетают губ,
Еще мои глаза глядят и видят:
Я не пронзаю ими небосклон,
Где в облачных волнах ныряют птицы:
Я вглубь смотрю, где вечный мрак и сон, —
И светом взора бездна озарится!
Как варвар перед идолом-божком,
Так я пред Меланхолией склонялся
Не раз, не два, и был ее рабом,
И вспоминал, и каялся, и клялся,
И радовался: вот летает гриф,
И радовался: гром трубит тревогу,
А ты, богиня, тайну тайн открыв,
Меня судила праведно и строго.
Гриф – твой урок, чтоб я полет постиг.
Гром – твой урок, чтоб я постиг пространство.
Мне объяснил безмолвный твой язык
Мою ничтожность и непостоянство.
Жизнь продолжает вечную игру:
Горит цветок, и расцветает пламя,
И бабочки слетаются к костру,
Смертельными прельстившись лепестками.
Есть жажда смерти – вот еще урок,
И в этой правде сомневаться надо ль?
Я – бабочка, я – пламя, я – цветок,
Стервятник в небе и под небом падаль!
Пою тебя – и нету слов нежней
На празднике, на самой светлой тризне
Во имя славы истинной твоей,
Во имя смерти и во имя жизни!
Богиня, не сочти моей виной,
Что этот гимн красотами не блещет:
Весь мир трепещет под твоей рукой,
Весь мир от взгляда твоего трепещет,
И сам я, содрогаясь, бормочу
В невольном страхе строчку за строкою.
Ни силы я, ни воли не хочу —
Пошли мне долю быть самим собою!
До туринской катастрофы пройдет еще год, но в письмах и текстах Ницше все явственнее проглядывает спускающийся на его сознание мрак. Одно из свидетельств тому – бесконечные самоуверения в полном психическом здоровье («ум мой не болен, все здорово, кроме моей страдающей души…»).
Уже весной 1888-го у него пропадают какие бы то ни было сдерживающие начала: тексты становятся все более циничными и разрушительными.
В письме П. Гасту (февраль 1888 г.) он признается, что находится в состоянии хронической раздражительности, над которой уже не в силах взять реванш: «…Все это имеет вид чрезмерной жестокости…» В таком состоянии, видимо, писались его последние произведения «Случай (или казус) Вагнер», «Антихрист», «Сумерки кумиров».
«Случай Вагнер» написан под влиянием двух обстоятельств, которые имеют собственные имена – Георг Брандес и Козима Вагнер. Брандес дал Ницше основание еще глубже прочувствовать собственное изгойство в Германии, поклонявшейся иным кумирам, прежде всего – Вагнеру. Что до Козимы, то в мерцающем сознании Ницше пробудилась иллюзия тайной любви к нему этой замечательной женщины, доставшейся отнюдь не тому, кому ей было предназначено достаться.
Это была тщательно продуманная, блестяще написанная работа, пропитанная ядовитым и уничтожающим сарказмом.
Прежде всего Ницше отметил болезненный характер музыки Вагнера: «Вагнер – художник декаданса… Я далек от того, чтобы безмятежно созерцать, как этот декадент портит нам здоровье – и к тому же музыку! Человек ли вообще Вагнер? Не болезнь ли он скорее? Он делает больным все, к чему прикасается, – он сделал больною музыку».
Ницше утверждал, что Вагнер разработал новую систему музыки лишь потому, что чувствовал свою неспособность тягаться с классиками. Его музыка просто плоха, поэтому он прикрывает ее убожество пышностью декораций и величием легенды о Нибелунгах. С помощью грохота барабанов и воя флейт он стремится заставить всех остальных композиторов маршировать за собой. Поэтому вагнерианство – форма проявления идиотизма и раболепия: «Ни вкуса, ни голоса, ни дарования: сцене Вагнера нужно только одно: германцы… Определение германца: послушание и длинные ноги… Глубоко символично, что появление и возвышение Вагнера совпадают по времени с возникновением «империи»: оба факта означают одно и то же – послушание и длинные ноги».
Памфлет – итог длительных и мучительных раздумий Ницше над великой проблемой искусства, под которым он имел в виду прежде всего музыку. У Вагнера романтизм доходил до своего идеала и предела. Для Ницше романтизм – всего лишь веха на пути к нигилизму, так же как и христианство. Как раз в то время он записал знаменитые свои «пять нет»: чувству вины; скрытому христианству (перенесенному в музыку); XVIII в. Руссо с его «природой»; романтизму; «преобладанию стадных инстинктов». Именно тогда, когда Вагнер повернул к прославлению древнегерманского пантеона богов и немецкого рейха, отношения между ним и Ницше начали быстро ухудшаться.
В памфлете «Случай Вагнер» налицо признаки болезни: сдерживающие центры парализованы, текст изобилует грубыми выпадами и явными бестактностями, неслыханными для прежнего творчества Ницше. Он явно стремится унизить и опозорить своего учителя: декадент, комедиант, современный Калиостро. Я пропел Вагнеру все возможные дифирамбы, теперь я погублю его, – таково намерение заболевающего Ницше.
Каждая новая книга усиливала горечь одиночества Ницше, отрезала и без того немногочисленных последователей.
Уединенное
Звериный бег
И птичий лет в родную тьму.
Повалит снег —
Блажен, кто спит в своем дому.
Лишь ты, беглец,
Бредешь в отчаянье вперед.
Зачем, глупец, —
Что означает твой уход?
Ты мир искал,
Но мир – врата в пески пустынь.
Кто потерял
С твое – тому тоска и стынь!
Теперь дрожишь,
На зимний подвиг обречен.
Как дым бежишь —
Все холодней небесный склон.
Лети, птенец,
Туда, где тигром возревешь!
Упрячь, глупец,
Кровь праведности в лед и ложь!
Звериный бег
И птичий лёт в родную тьму.
Повалит снег —
Блажен, кто спит в своем дому.
Не взрывом светлого восторга встретили Ницше современники; но ученый синклит одобрительно следил за деятельностью юного профессора, чтобы потом отвернуться от гениального поэта и мудреца; и только старик Якоб Буркхардт благословил его деятельность; да снисходительно недоумевал замечательный Дёйссен. Одиночество медленно и верно вкруг него замыкало объятья. Каждая новая книга отрезала от Ницше небольшую горсть последователей. И вот он остался в пустоте, робея перед людьми.
Трогателен рассказ Дёйссена о том, с какой искательной робостью передал ему Ницше, одиноко бедствующий в Швейцарии, свое «Jenseit», прося не сердиться. Или Ницше, вежливо выслушивающий самоуверенную болтовню Ипполита Тэна (см. переписку Ницше с Тэном). Или Ницше, стыдливо следующий за Гюйо в Биарицце, боясь к нему подойти. Или Ницше, после ряда замечательных исследований, уже больной, снисходительно замеченный господином Брандесом!
Поздняя слава не вскружила голову Ницше; слава Ницше началась как-то вдруг; последние книги его уже никем не раскупались; и вдруг – мода на Ницше, когда, больной, он уже ничего не понимал, больной на террасе веймарской виллы.
И над нашей культурой образ его растет, как образ крылатого Сфинкса. «Смерть или воскресение»: вот пароль Ницше. Его нельзя миновать: он – это мы в будущем, еще не осознавшие себя.
Вот что такое Ницше.
Я уже писал, что в конце лета 1886 года Ницше послал свою книгу «По ту сторону добра и зла» двум выдающимся литературным критикам Европы – Г. Брандесу и И. Тэну. Тогда Брандес почему-то ему не ответил, но двумя годами позже откликнулся на прочитанные книги[10]10
По одной версии, Г. Брандес откликнулся на присланную ему Ницше книгу «К генеалогии и морали», по другой – на книги Ницше, присланные его издателем Фричем.
[Закрыть] Ницше письмом, которое можно расценить как высшую оценку великого писателя великим критиком. С этого письма, собственно, начинается европейское признание Ницше:
Я вдыхаю с Вашими книгами новый, оригинальный дух. Я не всегда понимаю то, что читаю, я не всегда понимаю то, куда именно Вы идете, но очень многие Ваши черты согласуются с моими мыслями и симпатиями: подобно Вам, я мало чту аскетический идеал; демократическое меньшинство внушает мне, как и Вам, глубокое отвращение; я вполне понимаю Ваш аристократический радикализм.
Я ничего не знаю о Вас и с удивлением узнаю, что Вы – доктор, профессор. Во всяком случае примите мои поздравления за то, что своим умом Вы так мало напоминаете профессора. Вы принадлежите к тому небольшому числу людей, с которыми мне хотелось бы говорить…
Георг Брандес действительно стал первооткрывателем Ницше. Он был потрясен тем, что в Скандинавии никто не знает столь великого мыслителя и решил подготовить курс лекций о его философии для Копенгагенского университета. В связи с этим он попросил Ницше прислать ему автобиографию и последнюю фотографию, ибо, будучи физиогномистом, хотел заглянуть через глаза во внутренний мир незнакомого человека.
Можно сказать, что признание пришло к Ницше на пороге безумия, возможно, подтолкнуло к нему. Здесь начинается очень странная история, свидетельствующая о том, что уже во время переписки с Брандесом Ницше стоял на пороге безумия. Автобиография, посланная им Г. Брандесу, пестрит вымыслами, начиная с уверения, что первое и подлинное его имя – Густав-Адольф. Значительная ее часть посвящена описанию состояния здоровья и настойчивым уверениям в том, что у него никогда не было симптомов душевного расстройства. В ней ничего не говорится о творчестве, хотя Брандес, естественно, интересовался именно последним. Ведь он, собственно, и просил Ницше написать не столько о жизни, сколько о книгах и дальнейших планах.
По непонятным причинам Ницше переадресовал просьбу Брандеса о присылке фотографии своей матери в Наумбург. Мать проигнорировала эту просьбу, и Брандес вторично попросил Ницше сфотографироваться. Почему-то он не хотел этого делать и вновь переадресовал матери просьбу выслать Брандесу любую из его прошлых фотографий, даже если она окажется единственной.
Посвященные творчеству Ницше лекции Брандеса, прочитанные в Копенгагенском университете, собрали большую аудиторию[11]11
В 1888 г. Брандес информировал Ф. Ницше о своем намерении прочитать аналогичный курс в России (зимой 1888/89). Брандес впервые поднял тему «Достоевский и Ницше», предполагая посвятить ей одну из лекций в России. Увы, замысел остался нереализованным, книги Брандеса были запрещены в России, а монография «Главные течения литературы XIX» осуждена к публичному сожжению. Тем не менее Брандес проявил огромную энергию, дабы привлечь внимание своих русских друзей к имени Ницше.
[Закрыть]. Узнав об этом, Ницше испытал, возможно, самую большую радость в своей жизни, однако чувство это было омрачено горечью непризнания на родине, где все, даже ближайшие друзья, его не понимали (незадолго до этого Ницше поссорился с одним из последних, сохранявших ему верность друзей – Эрвином Роде).
Жизнь Ницше – это не только череда творческих всплесков и болезненных спадов, но и следующих друг за другом разрывов – с кумирами, друзьями, людьми. Болезнь уничтожала мозг поэта изнутри, непризнанность, уязвленность, аутсайдерство, изгойство – извне. Небо и земля ополчились против великого человека в стремлении его уничтожить, хотя достаточно было порыва сырого ветра, одного жалящего слова… Стоит ли удивляться психическому срыву человека, «внезапно приходящего в ярость и бьющего посуду, опрокидывающего накрытый стол, кричащего, неистовствующего, и, наконец, отходящего в сторону, стыдясь и злобствуя на самого себя», – так сам Ницше в аллегорической форме описал свое состояние времени создания «Случая Вагнер».
Крушение разума
О, что за гордый разум сокрушен!
У. Шекспир
Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреться в тебя.
Ф. Ницше
Исследователь я? А ну, Ответик вам вверну: Я погружаюсь в глубину, Но я иду ко дну!
Ф. Ницше
В конце сентября 1888 года Ницше выехал из Сильс-Марии в Турин. Это была вторая в этом году поездка в этот город (первая в апреле – из Ниццы, когда потерялся его багаж и он писал Гасту, что не может больше путешествовать в одиночку: «Это слишком волнует меня, и все действует на меня нелепейшим образом»).
Чем занимался Ницше в Турине в последние месяцы сознательной жизни? О чем думал? Какими были его последние устремления? Об этом свидетельствуют его одиозные поступки, его тексты, даже его последнее чтение – законов Ману, воспринятых чуть ли не как собственное произведение.
В Турине физическое состояние Ницше внезапно улучшилось. Он приписал это благоприятному климату, но, возможно, налицо было то состояние эйфории, которое нередко наблюдается у психически больных людей накануне кризиса. На время у него исчезла бессонница, головные боли, прошли мучившие его последние 15 лет приступы тошноты. Настало время «последнего штурма» – безумной работы, дававшейся теперь без сопряженных с нею страданий.
С. Цвейг:
Пять осенних месяцев 1888 года – последние творческие месяцы Ницше – явление небывалое в летописях творчества. Никогда, может быть, на протяжении столь краткого промежутка времени гений единичного человека не совершал такой огромной, такой напряженной, такой величественной и гиперболической работы; никогда человеческий мозг не был так наводнен мыслями, пронизан образами, опьянен музыкой, как мозг этого в те дни уже отмеченного судьбой человека. Для этого избытка, для этого бурно изливающегося экстаза, для этой фанатической ярости творчества история духа всех времен не знает примера в своих необъятных далях – кроме, может быть, одного – в современности: в том же году, под той же широтой, переживает другой художник такой же неистовый, уже загнанный в безумие подъем творчества: в саду и в сумасшедшем доме в Арле; с той же стремительностью, с той же исступленной одержимостью светом, с той же маниакальной избыточностью творчества, создает свои картины Ван Гог. Едва закончит он добела раскаленную картину, как уверенный штрих уже ложится на новое полотно – без обдумыванья, без промедленья, без размышлений. Творчество стало диктовкой, демоническим ясновидением и быстровидением, непрерывной цепью видений. Друзья, покинувшие его час тому назад, вернувшись, с изумлением видят новую законченную картину, а он, с еще невысохшей кистью, с горящими глазами уже принимается за третью: демон, схвативший его за горло, не дает передышки, не терпит перерывов; что ему до всадника, чье пышащее огнем, пылающее тело будет растоптано копытами бешено скачущего коня! Так создает и Ницше произведение за произведением, без остановки, без передышки, с той же неповторимой ясностью и быстротой. Десять дней, две недели, три недели – вот сроки создания его последних произведений; зачатие, созревание, рождение, первоначальный набросок и окончательная форма – все эти стадии пролетают здесь с быстротой пули. Нет инкубационного периода, нет остановок, исканий, нащупываний, нет изменений и поправок: все выливается сразу в окончательную, неизменную, совершенную, горячую и тут же застывающую форму. Никогда не развивал человеческий мозг такого мощного электрического напряжения, сверкающего в каждом судорожном слове, никогда не сплетались ассоциации с такой волшебной быстротой; едва возникшее видение – уже слово, мысль – сама прозрачность, и, несмотря на эту неимоверную полноту, не чувствуется ни малейшего труда, ни малейшего усилия – творчество давно перестало быть для него деятельностью, работой; это – чистое laissez faire, непроизвольное тайнодеяние высших сил. Потрясенному духом достаточно поднять взор – дальновидящий, «дальномыслящий» взор, – чтоб открылись ему (как и Гёльдерлину в последнем взлете к мифическому созерцанию) необъятные просторы времени в прошлом и в будущем: и он, одержимый демоном ясности, с демонической ясностью видит свою добычу. Достаточно ему протянуть руку – горячую, быструю руку, – чтобы схватить их; и едва прикоснется он к ним, как они наполняются кровью, трепещут музыкой, оживленные и одушевленные. И этот поток мыслей и образов не останавливается ни на миг в течение этих поистине наполеоновских дней. Дух затоплен разливом, предан насилию – насилию стихийных сил.
«Быть может, вообще никогда и ничто не создавалось таким избытком силы», – в экстазе говорит Ницше о своих последних произведениях; но ни одним словом он не обмолвился о том, что эта сила, так щедро его одаряющая, так ярко его озаряющая, исходит от его существа. Напротив, в благоговейном упоении он видит в себе лишь «мундштук потусторонних императивов», лишь носителя высшей, священной, демонической стихии.
Если судить по эпистолярию этого периода, Ницше перестает контролировать свои поступки и без всяких на то оснований начинает рвать последние дружеские связи. Своей доброй и снисходительной подруге Мальвиде фон Мейзенбуг, горячей поклоннице Вагнера, он пишет письмо, в котором налицо признаки надвигающейся мании величия:
Я дал людям глубочайшую книгу [речь идет о «Случае Вагнер»], но это дорого стоит… Иногда для того, чтобы стать бессмертным, надо заплатить ценою целой жизни! На моей дороге постоянно стоит байрёйтский кретинизм. Старый соблазнитель Вагнер, хотя и мертвый, продолжает похищать у меня тех людей, которые могли бы понять мои творения. Но вот в Дании меня понимают и чествуют! Доктор Георг Брандес, у которого живой ум, осмелился говорить обо мне в Копенгагенском университете! И с блестящим успехом! На лекциях собиралось более трехсот слушателей, устроивших овацию! В Нью-Йорке готовится нечто подобное! Ведь у меня самый независимый ум во всей Европе, и я единственный немецкий писатель. Это что-нибудь да значит.
В постскриптуме к письму содержится прозрачный намек в адрес корреспондентки: «Для того чтобы выносить мои произведения, надо иметь великую душу. Я очень счастлив, что восстановил против себя все слабое и добродетельное».
Еще не понимая, что с Ницше происходит нечто неладное, снисходительная госпожа Мейзенбуг отвечает:
Все слабое и добродетельное, говорите Вы, против Вас? Не будьте парадоксальны! Добродетель не слаба, это сила, об этом достаточно сказано. И сами Вы разве не представляете собою живое противоречие тому, что Вы говорите? Вы добродетельны, и пример Вашей жизни, если бы люди могли только его знать, убедил бы их скорее, чем Ваши книги…
Ницше не довольствуется сказанным и, посылая г-же Мейзенбуг «Случай Вагнер», произведение, которое может причинить ей только боль, не довольствуется содеянным, но, чуть ли не с издевкой, просит осведомиться у зятя, мужа ее приемной дочери Ольги Герцен, Габриэля Моно, кто бы мог издать памфлет во Франции. Но терпение его приятельницы безгранично: она отвечает с прежней вежливостью, уклоняясь, однако, от ответа на просьбу Ницше. Тут-то и происходит нечто невозможное для прежнего философа-поэта. Одно за другим он посылает подруге два оскорбительных письма: «Эти сегодняшние людишки с их жалким выродившимся инстинктом должны быть счастливы, имея того, кто в неясных случаях говорит им правду в глаза». Они нуждаются «в гении лжи. Я же имею честь быть антиподом – гением истины». Во втором письме читаем:
В своей жизни Вы разочаровывались почти в каждом, немало несчастий, в том числе и в моей жизни, идет отсюда… Наконец Вы осмелились встать между Вагнером и Ницше! Когда я пишу это, мне стыдно ставить свое имя в таком соседстве. Итак, Вы даже и не поняли, с каким отвращением я 10 лет назад отвернулся от Вагнера… Разве Вы не заметили, что я более 10 лет являюсь голосом совести для немецкой музыки, что я постоянно насаждал честность, истинный вкус, глубочайшую ненависть к отвратительной сексуальности вагнеровской музыки? Вы не поняли ни единого моего слова; ничто не поможет в этом, и мы должны внести ясность в наши отношения – в этом смысле «Случай Вагнер» для меня счастливый случай.
Ницше явно сжигает мосты, связывающие его с прошлым. В это время он пишет еще одно письмо – директору берлинской филармонии Гансу фон Бюлову, вовремя не отозвавшемуся на его просьбу о покровительстве П. Гасту в постановке на гамбургской сцене оперы «Венецианские львы»:
Вы не ответили на мое письмо. Обещаю Вам, что отныне навсегда оставляю Вас в покое. Я думаю, Вы понимаете, что это пожелание выразил Вам лучший ум века.
Ницше ощущал свою мегаломанию как наступление звездного часа. В письме к Августу Стриндбергу он писал: «Я достаточно силен для того, чтобы расколоть историю человечества на две части». Но – с присущей ему скептичностью – сомневался, признает ли мир когда-либо его гениальные пророчества, его переоценку всех ценностей. Словно в лихорадке, в кратчайшее время он пишет «Сумерки кумиров, или Как философствуют молотом» – памфлет, который должен привлечь к нему умы и приготовить их к главному творению его жизни. «Сумерки кумиров», одна из самых полемических книг Ницше, охватывает большинство тем его философии, главная из которых – воля к могуществу как сущность бытия. «Кумиры в ее заглавии – это попросту все то, что до сих пор называли истиной, «Сумерки кумиров» – старым истинам приходит конец…» Это – памфлет, направленный уже не против одного конкретного человека, но против всех идей, когда-либо изобретенных людьми для оправдания их поступков.
Нет мира метафизического, и рационалисты только мечтатели, нет и мира морального, и моралисты только предаются мечтаниям. Что же остается? «Мир видимостей, может быть? Нет. С миром истины мы разрушили мир видимостей».
Существует и реальна только непрерывно обновляемая энергия: «Incipiet Zaratoustra»[12]12
Начало Заратустры (латин.).
[Закрыть].
«Сумерки кумиров» – последнее произведение, опубликованное самим Ницше. Характеризуя его в письме Георгу Брандесу, он писал: «Это сочинение – моя философия in nuce: радикальное до преступления». Лучше не скажешь: это действительно самая дерзкая и бескомпромиссная книга, объявляющая войну всем укоренившимся ценностям, «идолам-истинам». Поскольку за каждой такой истиной скрывается «кумир», то разрушение идолов-истин есть также свержение с постаментов этих кумиров, Сократа, Платона, Руссо, Канта, Гегеля, Шопенгауэра, творцов научных и социалистических идей, еще – разрушение вековой прикованности европейского сознания к декадентам и их идеалам, определяющей кризис европейской культуры.
Величайший порок культуры – консервация истины, авторитаризм типа: «Я, Платон, есмь истина». Древнейшее из заблуждений – само существование «истинного мира», тормозящего развитие. Упразднение «истинного мира» и его апологетов-кумиров – это возвращение человеку его достоинства, права на новое строительство, обретение человеком ответственности перед миром. Не кумиры и «истинный мир», но свобода выбора, не метафизическая мораль, а полнота жизни и воля к могуществу.
Одержимый пафосом «свержения» кумиров, Ницше низвергает носителей «современных идей», выстраивая ряд современников – Ренан, Сент-Бёв, Джорж Элиот, Жорж Санд, братья Гонкуры, Карлейль, Дарвин… Хотя хлесткие характеристики Ницше не всегда справедливы, порой болезненны, может быть, объяснимы болезнью, ход мысли вполне понятен: за масками современности все они так или иначе скрывают иезуитское нутро, трусость и нерешительность, псевдообъективность, мстительность, внутреннюю испорченность…
Особо нетерпим Ницше к Джону Стюарту Миллю, считавшему долгом человека добиваться победы добра и исчезновения зла. «Я ненавижу вульгарность этого человека, когда он говорит: “Что правильно для одного человека, то правильно и для другого”». Основываясь на этих принципах, охотно установили бы все человеческие отношения на взаимных услугах, так что каждое действие являлось бы платой наличными за что-то, сделанное для нас. Эта гипотеза низка до последней степени. Здесь принимается не требующим доказательства, что имеется некоторый род равенства ценности моих и твоих действий.
Особую ненависть вызывают у Ницше современники, тяготеющие к социализму. Декларируя на словах идеалы равенства и свободы, они прячут за ними свою «волю к отрицанию жизни». Социализм, пишет Ницше, «до конца продуманная тирания ничтожнейших и глупейших, то есть поверхностных, завистливых, на три четверти актеров». Социализм – это внутренний анархизм, отсутствие чувства ответственности перед собой, болезнь, ищущая выхода в «благородном негодовании», дающая простор извращенному чувству власти. Это концентрация мести, страстное желание сделать такими же несчастными всех окружающих: «“Если я каналья, то и ты должен ею стать” – с такой логикой совершают все революции».
Возвращаясь в «Сумерках кумиров» к проблеме трагического, к определению дионисийства, Ницше писал:
Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая в жертве своими высшими типами собственной неисчерпаемости – вот что назвал я дионисовским, вот в чем угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением – так понимал это Аристотель, – а для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, быть самому вечной радостью становления – той радостью, которая заключает в себе также и радость уничтожения…
Пессимистической мудрости Ницше противопоставляет трагическую, жизнеутверждающую, становящуюся:
Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач, – более высокое воспитание человечества и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на земле тот переизбыток жизни, из которого должно снова вырасти дионисовское состояние.
Едва завершив в спешке «Сумерки кумиров», он решает наконец взяться за «Опыт переоценки всех ценностей». Он придумывает новые названия: «Мы имморалисты», «Мы гиперборейцы». Менее чем за месяц он пишет первую часть, «Антихриста», и одновременно завершает работу над «Дионисийскими поэмами». Работа несет на себе следы той спешки, которая может быть объяснена уже явными предчувствиями близкого конца, о котором он говорит сам:
Солнце садится! Скоро, мое сожженное сердце, ты уже не будешь болеть! В воздухе чувствуется прохлада, я ощущаю дыхание неведомых уст, надвигается сильный холод…
Эта ночь, не бросила ли она на меня тайного соблазнительного взгляда? Сердце мое, крепись! Не спрашивай зачем! Вечер моей жизни настал!.. Солнце зашло.
В «Антихристе» христианским ценностям противопоставляются обретенные самим Ницше: Христу – Дионис, «спасению» – «вечное возвращение», состраданию – страдание, христианскому «обожению» – сверхчеловек. В основание собственной философии, как следует из «Антихриста», Ницше кладет:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































