Текст книги "Ницше"
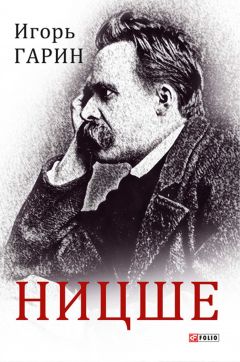
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 42 (всего у книги 45 страниц)
Ницше в России
Первым публикациям текстов Ницше в России (1898–1899 гг.) предшествовали переводные монографии Лу Саломе-Андреас, Риля, Штейна, Зиммеля, Лихтенберже, позволившие русскому читателю ознакомиться с идеями творца «Заратустры». В конце прошлого века появились работы В. Преображенского, Н. Михайловского, В. Соловьева, Н. Федорова, Л. Лопатина, Н. Грота, В. Чуйко, А. Волынского, Д. Цертелева – большей частью отрицательные: «вздор», «пухлое многословие», «неприятные вычурные обороты речи» – такой была оценка крупнейшего европейского стилиста. Впрочем, и на Западе Ницше являлся пробным камнем, лакмусовой бумагой для теста «на современность», «на модерн». Было бы в высшей степени странным, если бы страна соборности, хлыстовства, скопчества и старолюбия приняла ницшеанский модернизм с раскрытыми объятиями. Если бы не русское возрождение, не наступающий Серебряный век…
В 1900 году вышло первое восьмитомное собрание сочинений Ф. Ницше под редакцией А. Введенского (второе издание 1909 г. под редакцией Ф. Зелинского, С. Франка и др. осталось незавершенным).
В высшей степени показательно, что проблема восприятия философии Ницше в России изучена западными, а не отечественными исследователями. Этой проблеме посвящены международные конференции в Фордхаме 1983, 1988 годов. В Принстонском университете вышел сборник «Ницше в России», в Висконсинском университете Э. М. Лэйн защитила докторскую диссертацию «Ницше и русская мысль, 1890–1917 гг.», ницшеанские влияния прослежены Дж. Кляйном в монографии «Религиозная и антирелигиозная мысль в России». В самой же России, насколько мне известно, кроме недавно опубликованной подборки статей о Ницше деятелей Серебряного века, появилась единственная диссертационная работа Ю. В. Синеокой «Философия Ницше в России» (1996 г.).
Следует иметь в виду, что знакомству русских читателей с произведениями Ф. Ницше во многом препятствовала цензура. Даже после отмены цензурных запретов на книги немецкого философа они печатались со значительными купюрами. После публикации «Антихриста» издательством М. В. Пирожкова в 1908 году издатель был привлечен к суду и приговорен к двухнедельному заключению. До начала 90-х годов XIX в. Ницше был практически неизвестен в России: его имени нет в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1885 г.), а в книге И. Гейнце «История новой философии» (1890 г.) фигурируют фамилии Ф. Нитче и Ф. Ниче как двух разных писателей.
Идеи Ф. Ницше входят в оборот «русской мысли» в начале девяностых годов: первооткрывателем часто называют Н. К. Михайловского, хотя еще раньше (в 1892–1893 гг.) журнал «Вопросы философии и психологии» опубликовал посвященные Ницше статьи Преображенского, Лопатина, Грота. В начале века о Ницше писали Е. Трубецкой, А. Бобрищев-Пушкин, В. Битнер, Г. Рачинский, Н. Авксентьев, Д. Мережковский, Ф. Зелинский, В. Розанов.
Мы осведомлены, что Ницше получил популярность в России Серебряного века, но мало знаем о том, что Россия Аввакума и Толстого встретила автора «Заратустры» в штыки: большевистским погромам предшествовал остракизм Ницше русской интеллектуальной элитой – В. Соловьевым, Е. Трубецким, Л. Лопатиным, Н. Гротом, Л. Толстым, В. Чуйко, Д. Цертелевым, А. Погодиным, А. Волынским, Н. Федоровым, П. Бергом, Н. Михайловским, Ф. Булгаковым.
Можно сказать, что, за исключением первой русской оценки философии Ницше В. Преображенским (1892 г.), почти все авторы, писавшие о Ницше в конце XIX века, были в той или иной мере последователями Нордау. «Злополучный безбожник», «циник, разрушитель общественного порядка», «декадент», «проповедник зла», «ниспровергатель всего святого», «несчастный гордец». Концепции сверхчеловека, вечного возврата, amor fati подверглись яростным нападкам со стороны Н. Федорова, договорившегося до того, что Ницше насаждал «древо смерти» (что особенно пикантно звучит в устах склонного к некрофилии человека, любовно оперирующего с «прахом» отцов).
Даже чуткий к литературной фальши Н. Минский умудрился обвинить творца «Заратустры» в «рабской преданности» – страсти «менять одного властелина на другого, возиться с цепями, надевать их и разбивать» (рабская преданность не очень вяжется с этим контекстом).
Надо признать, что вульгаризация идей Ницше в России возникла задолго до большевистских его фальсификаций – буквально с самого начала знакомства русской публики с входящим в моду писателем в начале 90-х годов. В немалой степени этому способствовало плохое знание и понимание самих этих идей, запоздалые и некачественные переводы, предвзятые комментарии, совершенно неправомерное и абсурдное уподобление и даже отождествление идей Ницше и Маркса. Поэт И. Ясинский, например, даже не скрывал, что в своем стихотворном цикле «Из отблесков Ницше» «придавал его сверхчеловеку облик большевика». По словам М. Кореневой, возникновение такого сверхчеловека большевистского толка не было чем-то случайным: «его «явление» было вполне подготовлено не только литературной критикой, разработавшей этот образ Ницше, – он опирался прежде всего на определенную литературную традицию, точнее – тенденцию, которая наметилась в русской литературе середины 1890-х годов: подобно тому как образ Ницше-монстра, созданный усилиями критиков, «подкреплялся» соответствующей псевдоницшеанской литературой, так и образ Ницше-революционера, Ницше-демократа находил опору в соответствующей литературе с ярко выраженной демократической направленностью».
Имеются все основания отождествить фашистскую и большевистскую вульгаризацию идей Ницше – завсегдатаями мюнхенских пивных и «сверхбосяками» М. Горького.
Л. Н. Толстой, со свойственным ему культурным и этическим ригоризмом, отреагировал на «Заратустру» и «Антихриста» гневной отповедью в редакцию «Die Zeit». Здесь весь комплекс прямолинейных обличений, заимствованных большевистскими «чистильщиками»: «признак озверения», «главный толкователь и восхвалитель этого озверения», «отрицание всех высших основ человеческой жизни и мысли» и т. п. «Каково же общество, если такой сумасшедший, и злой сумасшедший, признается учителем?»; «Страшно подумать о том, что было бы с человечеством, если бы такое искусство, воспевающее персональность, нонконформизм, распространилось в народных массах».
Увы, читая «Вырождение» Нордау, я все время думал о Льве Николаевиче Толстом: о русском нигилизме и ксенофобии, об охранительстве и категорическом отрицании любых форм модернизма, об удивительном совпадении вкусов и почти полном единодушии в отношении к предтечам культуры XX века…
Толстой, знавший Ницше, в основном, из вторых рук, считал его ответственным за декаданс и символизм в искусстве и говорил, что ложное отношение к искусству обязано пророку Ницше и его последователям.
Хотя в «Религии и нравственности» Толстой воспроизвел ницшеанскую критику морали, в отличие от творца «Заратустры», он видел спасение от этического лицемерия лишь в возврате к чистым евангельским истокам. На «Антихриста», направленного против толстовского всепрощения, Толстой, можно сказать, ответил работой «Что такое искусство», в которой устроил настоящий погром всем европейским «декадентам» и «аморалистам», включая Ницше.
Толстой и Ницше – это разные ментальности, разные парадигмы охранительства и ниспровержения всех ценностей, разные этические установки и разное отношение к истине. «Замолчанные истины становятся ядовитыми», – Ницше вопил об этом, Толстой не хотел этого знать.
Слава богу, писал Толстой, ницшеанство не распространилось в России, «соборность» спасла ее от «тлетворного влияния». Одна только незадача: Толстой взял верх над Ницше в этой стране, толстовство восторжествовало над ницшеанством. Откуда же тогда все это озверение? Или все же «Бог играет в кости» и прав Ницше, а не Толстой?
Несовместимость корпусов идей Толстого и Ницше – только одна сторона сравнения. Есть и другая. При всей несовместимости Толстого и Ницше, их многое объединяет. Я имею в виду отнюдь не то, что у Ницше можно обнаружить вполне толстовские места о необходимости любви и доброты или желании порадовать «хоть одного человека», я имею в виду «пафос отрицания», свидетельствующий о глубинном сходстве психических структур.
В конце концов, Толстой тоже оказался «нигилистом», переоценившим все ценности, отказавшимся от 90 % мировой культуры и в этом отношении далеко опередившим самого Ницше, «отказы» которого часто оказывались апологиями.
Будучи диссидентом православной церкви, как Ницше – протестантской, Толстой тоже не верил в таинство Евхаристии, отказывался принять причастие и критиковал церковь, причем, почти по тем же мотивам, что и Ницше. В «Человеческом, слишком человеческом» (афоризм 113) Ницше изумлен:
Бог, который производит на свет детей от смертной женщины; мудрец, который призывает не работать больше, не чинить суда, но внимать знамениям предстоящего конца мира; справедливость, принимающая жертву невинного как всеискупительную жертву; некто, велящий своим ученикам пить его кровь; молитвы о свершении чуда; грехи, содеянные против Бога и отпущенные Богом; страх перед потусторонним, вратами которого оказывается смерть; образ креста как символ в некое время, не ведающее больше назначения и позора креста, – как загадочно веет от всего этого на нас, как из гробницы древнейшего прошлого! Можно ли поверить, что в нечто подобное еще верят?
Вряд ли подобную фразу мог произнести Толстой, но разве богоискательство Толстого не есть иная форма отказа от догматизма, разве оно напрочь лишено ницшеанских мотивов?
Владимир Соловьев несовместим с Ницше, но их объединяет одинаковое понимание искусства как теургии. «Вселюся в них и буду ходить в них, и буду их Богом», – говорит Господь. Теургия рождает пророков, «вкладывает в уста их слово, дробящее скалы».
Первая реакция В. Соловьева на сверхчеловека Ницше была благожелательной: статья «Идея сверхчеловека» открывается ницшеанской мыслью, что всякое заблуждение может содержать в себе несомненную истину. Одним из первых в России Соловьев осознал, что сверхчеловек – не «ограниченное и пустое притязание», но «голос глубокого самосознания, открытого для лучших возможностей и предваряющего бесконечную будущность». Человеку естественно хотеть быть лучше и больше, чем он есть в действительности, писал Соловьев, ему естественно тяготеть к идеалу сверхчеловека. Ничто не мешает человеку подняться над дурной действительностью и стать относительно ее сверхчеловеком. Сверхчеловеческий путь, на который, увы, вступают немногие избранники человечества, – путь истинного и высокого назначения, ведущий вступивших на него к бессмертию.
Прочитав «Заратустру», В. Соловьев резко изменил отношение к Ницше. Не восприняв мифологичность этого образа, он противопоставил первого сверхчеловека (Иисуса) – «словесным упражнениям» филолога, «не испытавшего по-настоящему никакой жизненной драмы».
…Эта истина о высшем, сверхчеловеческом начале в нас, о нашем сродстве с абсолютным и тяготении к нему, была уже не нова, когда апостолу Павлу пришлось напоминать ее афинянам (Деян. ап., XVII). Теперь Ницше возвестил ее как великое новое открытие. Спасибо и на этом. Но вот беда: апостол Павел напомнил афинянам о высшем достоинстве и значении человека только для того, чтобы сейчас же указать на действительное осуществление этого высшего в действительном праведнике, воскресшем из мертвых; говоря о сверхчеловеке, он называет Его, тогда как новейшему проповеднику сверхчеловека не на что указать в действительности и некого назвать.
Ницшеанский человек – просто декадент, подменивший истину словесностью, демагог, совращающий полуобразованную толпу красотой пустых звуков. Удивительно, что эти слова произносит мыслитель, понимавший философию как требование «истину из безразличного понятия превратить в живой замысел», мыслитель, восставший против «однодумов».
Потрясенный «кощунствами» Заратустры, само имя которого вызвало отвращение великого философа, Соловьев безосновательно уличает Ницше в притязании стать основателем религии. Болезнь и сумасшествие Ницше, считает он – расплата за богоборчество, искупительная жертва честного человека, который «устыдился и ужаснулся своего подлога истины, когда увидал его пустоту и бесплодность».
Самое парадоксальное во взаимоисключающих соловьевских оценках сверхчеловека Ницше – это их одновременность (обе даны незадолго до смерти и фактически одна исключает другую). Свидетельство ли это настроения минуты, беспамятства или незначительности феномена? Так или иначе, Ницше не стал для Соловьева поворотной точкой культуры, только одаренным стилистом, опасным совратителем юношества, симптомом времени словесности, подменяющей истинность.
Я полностью солидарен с А. Белым, что В. Соловьев проглядел сущность Ницше, не разглядел за маской, за «Ницше в цилиндре» – богостроителя, учителя жизни, мистика, узревшего в туманной дали призрак Нового Человека, Личности, спустившегося с небес Христа, уже не зовущего за собой…
Просто удивительно, что такой тонкий и чувствительный человек, как В. Соловьев, уличает Ницше в жизненном спокойствии, «кабинетности», книжности, филологичности. Г. Рачинский в «Трагедии Ницше» привел, мне представляется, самую точную оценку «сомнительной характеристике», данной Ницше Соловьевым в статье «Словесность или истина», вошедшей затем в «Три разговора»:
В ней, рядом с поразительно сжатой и верной оценкой скрытого смысла моральных взглядов Ницше в период создания им типа Заратустры, встречаем ироническую характеристику его как педанта-профессора, даровитого, но «исключительно» кабинетного ученого – «сверхфилолога». Основываясь на том, что Ницше «не испытал по-настоящему (?) никакой жизненной драмы», Соловьев утверждает, что он о «земной человеческой природе помимо книг имел лишь очень одностороннее и элементарное познание»; смеется над тем, что он пишет «Заратустра», а не «Зороастр» (а сам Соловьев писал же не «Магомет», а «Мухаммед»); и переводит слова Ницше «Ich lehre euch den Übermenschen!» – «Я намерен преподавать сверхчеловека», объясняя, что для Ницше «сверхчеловек есть лишь предмет университетского преподавания – вновь учреждаемая кафедра (курсив подлинника) на филологическом факультете». И все это говорится о человеке, вся жизнь которого, за вычетом пяти-шести лет молодости, была одно сплошное физическое страдание и одна раздирающая душевная драма, который провел на кафедре всего что-то около пяти лет, всю остальную жизнь путешествовал и жил в общении и дружбе с самыми разнообразными и, по большей части, весьма замечательными людьми, был поэтом и композитором, отличался редкой наблюдательностью и писал книги о сверхчеловеке, похожие на что хотите, только не на курс лекций с кафедры филологического факультета. Совершенно верно замечая, что «для филолога быть основателем религии так же неестественно, как для титулярного советника быть королем испанским», и что «самому гениальному филологу невозможно основать хотя бы самую скверную религиозную секту», Соловьев как будто не замечает, что ницшеанство если на что похоже, так уж скорее на «скверную секту», а с университетских кафедр, насколько мне известно, еще никогда не преподавалось. Я понимаю всю безграничную антипатию Соловьева к Ницше; но здесь факты говорят сами за себя. Опасно и неосторожно презирать врага, не отдавая всего должного его уму и духовной силе. Когда Соловьев в своих критических замечаниях (между прочим, например, в «Мире искусства») смеется над теми, кого он называет в другом месте «трепещущими и преклоняющими колена перед именем Заратустры психопатическими декадентами и декадентками в Германии и России», то этому можно только посочувствовать: не рассуждать же, в самом деле, с такими господами.
Первая и, надо признать, крайне неудачная систематизация философии Ницше в России принадлежит князю Е. Трубецкому, для которого она – бесконечный лабиринт противоречий, двойственный масштаб ценностей, неудачный эксперимент с истиной.
Здесь самоуверенность разума, крайнее его самоутверждение вдруг переходят в скептицизм и отчаяние. С одной стороны, Ницше проникнут радостным сознанием могущества человеческой мысли; с другой стороны, для него недостоверность составляет как бы общую печать нашей умственной деятельности. В жизни человека разум – самое ценное и вместе с тем самое бесценное, достойное презрения: он – источник высших наших радостей и вместе с тем наша казнь, как бы проклятие нашего существования; он – цель нашей жизни и вместе с тем – злейший ее враг.
Можно ли упрекать в нелогичности и непоследовательности человека, обнаружившего, что они всегда присутствуют в процессе мышления, приводя мыслителя в отчаяние? И столь уж взаимоисключающи приводящие Е. Трубецкого в негодование ницшеанские оценки разума – одновременно как средства познания и орудия слепых инстинктов? Или человека как части природы и существа, противостоящего ей? Или культа личности и могущества силы? Или ценности познания и его опасности для человека? Или отрицания ценностей и признания высшей ценностью – могущества жизни? Или отрицания разума и веры в него?
Кстати, Ницше отрицал не разум, а догматизм разума, не этику как таковую, а догматическую мораль, не отсутствие ценностей, а их исторический характер.
Вчитаемся в Е. Трубецкого без комментариев:
Очевидно, что мы имеем здесь дело с коренным противоречием в точке зрения Ницше. Противоположность между человеком и внешней природой представляется ему одновременно и как нечто несуществующее и как нечто существующее, но недолжное, подлежащее устранению.
Если человек есть явление природы, столь же необходимое, как и все прочие явления мировой энергии, то обращаться к нему с какими бы то ни было требованиями столь же нелепо, как проповедовать камням. В особенности нелепо требовать от него уподобления природе, возвращения к ней, если он по существу является частью этой природы.
Последовательный имморализм есть прежде всего отрицание всякого долженствования и всякого вообще идеала. И действительно, Ницше многократно высказывается в этом смысле. О долге, учит он, можно говорить только в предположении общей всему человечеству и общепризнанной цели; но такой цели не существует: правда, можно рекомендовать человечеству цель, но в таком случае цель не обязательна: каждый может по своему усмотрению ею руководствоваться или не руководствоваться. И, однако, от того же Ницше мы узнаем, что имморалисты суть также «люди долга», что и у них есть священные обязанности, от которых они не могут уклониться, например обязанность правдолюбия и непримиримой вражды против пережитых воззрений. Все вообще учение Ницше о ценностях есть беспрерывное колебание между признанием и отрицанием объективных норм долженствования, не зависящих от человеческого произвола.
В этом учении сталкиваются два противоположных тезиса. Первый из них сводится к тому, что в природе нет вообще никаких ценностей. Всякая ценность предполагает какую-нибудь цель, а так как в природе нет никаких целей и, следовательно, никакого масштаба для оценки существующего, то в ней нет и никаких ценностей: в нашем понятии «ценности» выражается помрачение нашей мысли: оно есть чисто человеческое измышление и иллюзия, нечто такое, что человек привносит в жизнь. Противоположный тезис, однако, гласит, что в жизни есть объективные ценности, что человек должен отрешиться от своих субъективных иллюзий, чтобы принять те ценности, которые даны самой природой.
Оценивая философию Ницше как протест против измельчания и вырождения современного человека, видя в этом причину ее популярности, Е. Трубецкой делает внезапный кульбит:
Нам наскучили «хмурые люди», бесконечной вереницей проходящие перед нами. Наши нервы утомлены однообразною картиной окружающей нас житейской пошлости, и наш выродившийся вкус жаждет сильных ощущений! «Сверхчеловек» доставил нам зрелище, которое нас развлекло и как будто наполнило на время один из пробелов нашего существования. Но теперь мы довольно развлеклись, и пора сорвать с него маску.
Что же видит князь под маской? Пустоту, бессодержательность, позу, оптический обман…
Его «Заратустра» играл для него роль зеркала, украшенного изображением его собственной личности. В нем Ницше хотел воплотить идеал своего собственного величия; но сам же он и развенчал это величие: от него самого мы узнаем, что в великом человеке он видит «всегда только актера своего идеала». И в самом деле, в каждом слове, в каждом движении Заратустры чувствуется, что он разыгрывает роль, в которую сам плохо верит.
И уж никак нельзя согласиться с представлением морали Ницше как восхваления гордости, высокомерия, воинственных животных инстинктов: «обожествление страсти, мести, коварства, гнева, сладострастия, жажды приключения…»
Е. Трубецкой категорически не приемлет ницшеанский индивидуализм, персональную мораль, множественность морали, личное усмотрение человека в выборе этических норм, разнообразие ценностей как таковое. Нет безусловных ценностей – нет морали. Но тождественно ли отказу от морали почти бесспорное утверждение, что не существует ни одной ценности, которую бы многократно не оспаривали философы и этики разных эпох?
Е. Трубецкой воспринимал философию Ницше как дерзкий вызов современности, протест против сложившихся идеалов, отрицание наличного человека во имя человека несуществующего. «Среди людей он не находит человека, который бы оправдывал существование человека и нашу веру в него».
Крупнейший философ России, упреждая большевистские оценки, видел в ницшеанстве только отрицание смысла жизни, ослабление и утомление мысли, выражение отвращения к человеку, отсутствие логического единства и скудость результатов.
Отрекаясь от того, чем жива всякая мысль, чем дышит разум, философия отрекается от себя самой, осуждает себя на неизбежное вырождение.
Софистическое учение Ницше представляет собою завершение упадка новейшей философской мысли и, надо надеяться, крайний его предел.
В конце концов, философия Ницше перестает говорить человеческим языком и начинает рычать по-звериному: последний ответ Заратустры на философские запросы современного человечества есть львиный рев, который разгоняет всех ищущих и вопрошающих. Дальше, кажется, трудно идти по пути одичания и вырождения мысли.
Вполне одуевские определения. Один из многих примеров глубинной связи между «русской идеей» и большевизмом, соборностью и коллективизмом колхозного толка…
Возмутительной бестактностью, душевной черствостью является привязка Е. Трубецким болезни Ницше к философской «дьявольщине» его учения:
Философия для Ницше есть прежде всего эксперимент над собственной жизнью. Он чувствует, что его мысль подкашивает основные предположения его существования и спрашивает себя: «Возможно ли жить с истиною?» Мы знаем, что этот эксперимент окончился для Ницше умопомешательством. Да иначе оно и не могло быть. Он вложил всю свою душу в учение, которое отрицает цель жизни.
Примером восприятия идеи сверхчеловека в России XIX века является книга П. Берга «Сверхчеловек в современной литературе ХIХ века», цитируя которую Ю. Веселовский писал: «Бывали случаи, когда люди принимались похищать чужую собственность, соблазнять девушек, предаваться пьянству, – и все это, чтобы осуществить теории Ницше о свободе индивидуума, который стоит выше нравственных предписаний». В значительной мере сказанное можно отнести и к русским «ницшеанским» романам конца XIX – начала XX века, беллетризующим тематику имморализма в духе вседозволенности, «жизни по-новому», полной вульгаризации идей Ницше. Комментируя восприятие идей Ницше русскими «патриотами», Н. А. Бердяев в 1915 году писал:
Поистине судьба Ницше после смерти еще более трагична и несчастна, чем при жизни. Одно время всякие пошляки возомнили себя вдруг Заратустрами и сверхчеловеками, и память Ницше была оскорблена популярностью во стаде. Стадами начали ходить одинокие сверхчеловеки, вообразившие, что им все дозволено.
Примазались к Ницше и те, у кого была воля к хищению, к власти, к выгоде в земельных долинах.
И все-таки я не знаю ничего более чудовищного по своей внутренней неправде, чем это желание связать с Ницше современную милитаристическую Германию. Это значит читать буквы, не понимая смысла слов.
* * *
Вопреки несовместимости менталитетов, вопреки «холодному душу» идеологов «русской идеи», в начале XX века Ницше стал одним из самых влиятельных западных мыслителей в России, оказавшим значительное воздействие на «то движение, которое мы называем Возрождением религиозной и моральной философии в России» (Г. Штамлер). По мнению этого исследователя, Ницше следует признать «святым заступником и отцом» Серебряного века русской культуры.
Русских модернистов Ницше привлекал страстностью духовных исканий, их экзистенциальной направленностью и абсолютной новизной. В признании Ницше деятели Серебряного века усматривали возможность выхода из провинциализма, преодоления культурной отсталости. Приобщение к ницшеанству казалось им сакральным посвящением в европейцы.
По мнению А. Эткинда, в России Ницше встречали как романтика, мифотворца, пророка, принимающего весь мир, видящего «присутствие бесконечного в конечном» (В. Жирмунский). Именно у романтиков «жизнь и поэзия сближаются; жизнь поэта похожа на стихи;…жизнь в эпоху романтизма подчиняется поэтическому чувству… Переживание становится темой поэтического изображения и, через это изображение, пережитое получает форму и смысл». В. Жирмунский видел в этом «массовый бред», «но с психологической точки зрения… бред является таким же состоянием сознания, как другие».
Причина приятия Ницше в стране несовместимого с ницшеанством менталитета, по мнению М. Михайлова, в том, что впервые в западноевропейской истории властитель дум во весь голос повторил то, что уже было добыто русской мыслью в лице Достоевского, тем самым санкционировав правильность и значительность молодой русской мысли.
К тому же, по воле судьбы, Ницше попал в Россию в тот момент, когда самые талантливые мыслители русского марксизма стали от него отходить – в поисках других, более глубоких идей, которые давали бы им ответы на всё усложнявшуюся действительность. Им, воспитанным в западноевропейской философской традиции и в то же время на романах Достоевского и Толстого, необходим был авторитетный (а это значит – западноевропейский) уверенный голос, который бы подтвердил, что зародившаяся русская мысль и есть тот выход из духовного и философского тупика, в который попало человечество. Таким могучим и авторитетным голосом для этих мыслителей стал голос автора «Так говорил Заратустра». В Ницше они признали «своего».
Ницше писал: «Великие эпохи нашей жизни начинаются тогда, когда мы приобретаем смелость переименовать в добро то, что мы в себе считали злом». Такую эпохальную переоценку благодаря моральной поддержке Ницше и совершили мыслители русского религиозно-философского ренессанса.
Сверхчувствительная к морализму русская мысль воспринимала прежде всего этические аспекты его философии – «я» человека как единственный носитель морального начала.
Ницше – вместе с французскими символистами – открывал художникам Серебряного века мифологические глубины бессознательного, «мифологические были», как писал А. Белый.
Передо мною мир стоит
Мифологической проблемой…
А. Блок и Ф. Сологуб недаром штудировали Ницше: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду, ибо я – поэт», – строки эти вряд ли могли бы появиться без таких штудий… Ницше «возвратил миру Диониса» не для одного Вяч. Иванова – дионисийский дух витает над «оргийностью» всего русского декадентства (я думаю, что выразился правильно вопреки негативному отношению самого Мифотворца к тому, что скрывается за этим понятием).
Я хочу внезапно выйти
И воскликнуть: Богоматерь!
Для чего в мой черный город
Ты Младенца привела? —
разве это не Ницше говорит словами Блока?
Новую, во многом ницшеанскую, концепцию культуры развивали авторы «Северного вестника», «Весов», «Мира искусства» А. Волынский, В. Брюсов, А. Белый, В. Иванов, А. Бенуа, Н. Метнер, Эллис, Б. Садовский. Героев-ницшеанцев мы встречаем в «Санине» Арцыбашева, «Вавочке» А. Вербицкой, «Альме» и «При свете совести» Н. Минского, в книгах З. Гиппиус, Боборыкина, Андреева, Крыжановской, Горького, Ропшина, Винниченко, Набокова, Каменского…
Бальмонт – сам вполне «сверхчеловеческий тип», «Люцифер небесно-изумрудный», «предавший все для счастья созиданья»…
Не для меня законы, раз я гений…
Я знаю только прихоти мечты…
Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.
Я вечно другой.
Я каждой минутой сожжен.
Я в каждой измене живу.
Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить.
А вот теория черни Ницше и Ле Бона, положенная на стихи Бальмонтом:
Человечек современный, низкорослый, слабосильный,
Мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин,
Весь трусливый, весь двуличный, косодушный, щепетильный,
Вся душа его, душонка – точно из морщин.
Идею Ницше о трагедии, «рожденной из духа музыки», то есть трагедии как сущности бытия, глубже других воспринял И. Анненский. «Романтик Ницше, – писал он, – возводил ребячью сказку в высшие сферы духовной жизни». И сам творил свои «вакхические драмы» на поэтике, восходящей к древним трагикам, следуя заветам Аристотеля об ужасах и страданьях как главных трагических элементах человеческих ощущений.
В книге «По ту сторону добра и зла» Ницше высказывает идею о подчиненности объективного человека (ученого) субъективному человеку (философу). Отличительные черты «объективного человека» – это способность зеркально отразить чуждые ему образы (события) и стать орудием или гибкой формой, лишенной собственного содержания. Любопытно, что эту идею И. Анненский перенес на автора и его персонажей: есть «скудельный сосуд» божества, орудие для пророчеств, и есть марионетка, кукла, подчиненная творцу и отражающая душу автора.
Богоискательство Дмитрия Мережковского имело определенные пересечения с «властителем дум» Европы. В «Юлиане Отступнике» много дионисийства, борьбы религии духа (христианства) с религией плоти (поклонения телу). Внутреннее тяготение к Ницше сочеталось у него с категорическим отрицанием сверхчеловека, поднятого на щит «русскими босяками». Мережковский принимал критику Ницше в адрес христианской морали, но не его иммораль в виде Заратустры. «Христос и Антихрист» – синтез Голгофы и Олимпа, обновление религии, но не путем полного отрицания христианства, а – отыскания истоков грядущей нравственности в его глубинах. В «Третьем завете» Мережковский не преодолевает Христа, а синтезирует дух и плоть в обновленной религии грядущего.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































