Текст книги "Ницше"
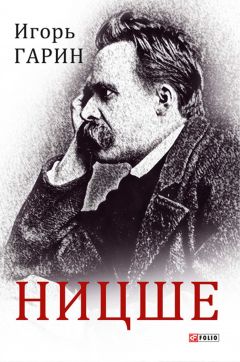
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 45 страниц)
Максим горький о Фёдоре Достоевском
Достоевскому приписывается роль искателя истины. Если он ее искал – он нашел в зверином, животном начале человека и нашел не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать… Как личность, как «судью мира и людей» его очень легко представить в роли средневекового инквизитора.
Если бы гении продумывали свою мысль до конца со всеми возможными последствиями этой мысли, не было бы ни мыслей, ни гениев.
Никакая философия не может заранее гарантировать свою безобидность или безопасность. Великая идея велика тем, что насыщенна – черпай, кто и что хочет. Приписывать Мавру или Ницше ужасы коммунизма или фашизма – значит не понимать сущности власти. Она может прикрываться философией, но главное орудие тоталитарной власти – кнут.
Нет, Ницше не причастен к фашизму. Национал-социализм имеет иные корни. Его причина не в злокачественном перерождении идей, а в естественном состоянии массы людей – в темной, привыкшей властвовать и подчиняться, ненавидящей и жаждущей власти в глубине своих душ. Трагедия культуры не в гениях-экстремистах, а в почве, что их порождает. Почва эта не чернозем – чернь. До тех пор, пока наши души не очистятся от нее, угроза тирании не исчезнет. Ибо фашизм приходит не из Ницше – из темных глубин нашего существа.
Тоталитаризм может вырасти из любого учения, необходим лишь избыток рвения и недостаток ума. Можно и по-другому: политическое учение, проведенное до логического конца, есть фашизм. Западный либерализм, посаженный в восточную почву, наверняка подтвердил бы не Менделя, а Лысенко. К тому же время – само по себе, почти без вмешательства извне – великий преобразователь идей. Оправданный вчера клич к национальному единству сегодня легко превращается в оправдание шовинизма и ксенофобии, а влетающие в рот жареные рябчики Кокейна – в перманентную, не имеющую решений продовольственную программу.
Между прочим, Ницше восхищался Буркхардтом, а Буркхардт поддерживал шлоссеровское: власть сама по себе есть зло. Да и у самого Ницше находим: «Более сильный далеко не лучший». И еще: «Слишком дорого приходится платить за силу; сила оглупляет».
Кто как не Ницше рисует в «Несвоевременных размышлениях» язвительную картину прусской действительности, бесчувственной ко всему значительному, превозносящей поверхностность и безвкусицу, скрывающей за демонстрируемым энтузиазмом свое безразличие ко всему?
Разве в «Слишком человеческом» не говорится о несовместимости насилия с высокой культурой? А у какого другого моралиста после апостола Петра столь часто фигурирует это атавистическое понятие – совесть?
Ницше называл себя Дон Жуаном познания, никогда не довольствующимся «одной». Концентрация внимания на насилии, воле к власти – умышленное извращение его идей. Итог его жизни – не фальсифицированная Е. Фёрстер-Ницше «Воля к власти», но «Eссе Hоmo», рисующее трагический путь поэта и утверждающее подлинные ценности жизни.
И сверхчеловек – не разнузданность инстинктов, а как раз наоборот – воля к обузданию. И «высшая раса» – вовсе не раса приказчиков и богемных неудачников, но стимул мельчающему обществу, протест против застоя, школа энергии и кипения жизни. Проще будет сказать, писал Андре Жид, что всякий великий творец, кто утверждает жизнь, и есть тот, кого мы называем ницшеанцем.
Ницше культивировал личность, а не рабство. Хотя в его книгах часто встречается слово «раб», его не следует понимать буквально. Рабы для Ницше – не-личности, а поскольку личность для него святыня, то рабы – осквернители святынь. Только так я интерпретирую его антитезу «господин – раб»: личность – нелюдь.
В получивших распространение классических стандартах гуманизма Ницше претила созерцательно-бесстрастная наблюдательность. Но нельзя быть гуманистом, признавая, что все действительное разумно. Философия риска гуманна хотя бы как заслон филистерству и стадности. Да и может ли быть антигуманной – жизнь? Антигуманна ли правдивость ребенка? Антигуманен ли мудрец, принимающий жизнь, «как она есть»?
Гуманизм Ницше – тоска по цельному, гармоничному человеку, не скованному предрассудками прописей, не подавляющему свою человечность. Отсутствие такой цельности, апатия, покорность, растерзанность вызывали в нем страх. Ведь жизнь велика не прописями, а тем, что – Жизнь! Морально не то, что противостоит природе и натуре, но то, что укрепляет жизнь.
Слышал ли кто когда-нибудь, чтобы мать хотела быть вознагражденной за свою любовь?.. Пусть ваша добродетель будет вашим существом, а не чем-то чужим, не кожею, не одеянием. Так говорил Заратустра.
Хотя фашизм и коммунизм прикрывались именами Гегеля, Ницше или Маркса, убивали все же не безответственные речи, не слова, а палачи, кстати, вербуемые именно среди тех, кто не способен понять, о чем они вещали. Если уж говорить об ответственности речей и слов, то – тех, которые способны понять люмпены, а это отнюдь не речи и слова философов – кличи фюреров и вождей, продажной прессы, потерявших совесть учителей и беспринципных наставников.
Несомненно, что не эвримену история обязана своими взлетами, но все равно, если взять все вместе, гениальность и глупость, героизм и безволие, она есть история миллионов стимулов и противодействий, свойств, решений, установлений, страстей, знаний и заблуждений, которые он, средний человек, получает со всех сторон и раздает во все стороны. В нем и в ней смешаны одни и те же элементы; и потому она, в любом случае, представляет собой историю среднего уровня или, в зависимости от того, как посмотреть, средний уровень миллионов историй, и даже если ей суждено вечно колебаться вокруг посредственного, что может быть нелепее, чем обижаться на средний уровень за его среднесть!
Утопия Ницше состояла в его вере в возможность преодоления этой исключительной стабильности среднего, в гипертрофии влияния ярких вспышек сверхновых на слабое свечение небес. В сущности своей влияние гения на историю и культуру ограничено, ибо, чтобы влиять, надо иметь широкую область влияния, а не узкую ε-окрестность, медленно расширяющуюся со временем. В том причудливом хаосе случайности, который представляет собой история, выбросы остаются только редкими флуктуациями, крайними значениями, мало влияющими на статистику, и это является глубинной причиной непрочности всех односторонних построений, опирающихся на непомерные требования. Ницше был прав, будь большинство гениями, но будь все гениями, были бы правы и все другие утописты, реакцией на которых стало ницшеанство.
Артист языка
Стиль должен доказывать, что веришь в свои мысли и не только мыслишь их, но и ощущаешь.
Ф. Ницше
Ф. Ницше – Э. Роде:
Я хочу тебе, как homo litteratus, сделать следующее признание: у меня есть предположение, что своим Заратустрой я в высшей степени улучшил немецкую речь. После Лютера и Гёте оставался еще третий шаг; обрати внимание, мой старый, милый товарищ, было ли когда-нибудь в нашем языке такое соединение силы, гибкости и красоты звука…
Мой стиль похож на танец; я свободно играю всевозможными симметриями, я играю ими даже в моем выборе гласных букв.
Ф. Ницше, «Ессе Ноmо»:
Вместе с тем я делаю еще общее замечание о моем искусстве стиля. Поделиться состоянием, внутренней напряженностью пафоса путем знаков, включая сюда и темп этих знаков, – в этом состоит смысл всякого стиля; и, ввиду того, что множество внутренних состояний является моей исключительностью, у меня есть много возможностей для стиля – самое многообразное искусство стиля вообще, каким когда-либо наделен был человек. Хорош всякий стиль, который действительно передает внутреннее состояние, который не ошибается в знаках, в темпе знаков, в жестах – все законы периода суть искусство жеста…
Ощущая себя реформатором немецкого языка, сравнимым с Лютером, Ницше всегда стремился к преодолению языковых границ – к латинскому периоду, ясности французских лингвистических конструкций, ритмической эйфонии, языковым преобразованиям, расширяющим жизненное пространство речи и углубляющим сознание в сторону бессознательного, невыразимого, несказанного.
Стихия Ницше – метафора, символ, царство Аргуса, напластование смыслов, множественность перспектив: «Видеть для Ницше – это значит видеть многими глазами, усиливать, расширять пределы и возможности видения, полагать мир в бесконечном горизонте конкурирующих перспектив».
Языковая чистота и множество перспектив – характеристики в такой же мере стиля Ницше, в какой – его физической жизни. Отсюда – любовь к Энгадину, горным пейзажам и ясным дням. Сильс-Мария, эйфория горного ландшафта и голубого неба – в такой же мере относятся к земным странствиям Ницше, в какой – к его стилю, ритму, языку.
Свою жизнь и свое творчество Ницше воспринимал как набор высоты, подъем, очищение, небесный огонь.
Стиль Ницше проникнут свойственным ему динамизмом, изобретательством, пафосом порождения…
Пафос порождения проникает повсюду: в фразу, в сочетание слов, в само слово: каждый знак должен быть творящимся, но не сотворенным. Это был общий поток, общее чувство смыслового истончения бытия, его иссякновения. Ницше стоит у основания этой новой эстетики.
Он говорил о себе, что обладает «большим числом всевозможных стилей», и отрицал существование какого-то единственного «стиля в себе». Великий стиль – многостильность, многокрасочность, гибкость.
Ницше воспринимал речь не просто как способ общения, но как жизненный мир. Человек живет в речи, она должна быть аутентичной жизни, длительности, переживанию жизни. Речь – существенная жизненная проблема. Речь ставит определенные границы переживанию жизни, внутренней длительности. Она обобщает. Проблематичность использования речи заключается в необходимости выразить неповторимые и персональные экзистенциальные переживания общеупотребительной речью: «речью, изобретенной для среднего, вульгаризируется говорящий». Речь должна соответствовать экзистенции, прокомментирует М. Хайдеггер, иначе она не будет соответствовать самой жизни.
Одним из первых Ницше поставил проблему сообщения новых идей и переживаний речью, не имеющей соответствующих им слов. Он писал в «Утренней заре» о том, как трудно мыслить о новом, выражать новые мысли старым языком. Полнота бытия – это полнота языка о бытии. Невозможно жить в речи, которая не способна выразить внутреннюю длительность переживающей жизнь экзистенции.
Экзистенциальное осмысливание речи ведет к тому, что локальный мир межсубъективности требует своей речи, речи со своими ударениями и нюансами для того, чтоб сделать возможным разговор. Локальность межсубъективности речи обусловлена экзистенцией беседующих. Сам Ницше пытался не только показать, но и сделать речь своей, расширяя ее описаниями собственных переживаний. Переживания жизни делают возможным реализовать самую жизнь (Бытие), и поэтому значение усовершенствования речи трудно переоценить. Ницше в определенной мере расширил внутренний мир человечества, излагая свои идеи обогащения его речью. Вот как охарактеризовал Томас Манн в статье «Германия и немцы» становление немецкого языка: «Лютер своим блестящим переводом Библии заложил основы литературного немецкого языка, который позже обрел совершенство под пером Гёте и Ницше». Язык Ницше потому велик, что он выразил новый опыт жизни.
Другая экзистенциальная проблема, поставленная Ницше в связи с языком, – проблема коммуникации, межсубъективности. Коммуникация – всегда выбор: говорящий выбирает круг слушателей, общение невозможно без созвучности, сонастроенности, сродства душ.
…Аристократический разум и наклонность, желая высказаться, выбирает себе и своих слушателей; выбирая их, он в то же время отгораживается от «других». Здесь берут свое начало все наиболее утонченные законы стиля: они одновременно держат на расстоянии, они создают расстояние, они запрещают «вход», понимание, как мы уж сказали, – вместе тем открывают уши, сродные нашим ушам.
Увлеченность музыкой, упражнения в стихосложении, внутренняя поэтичность выработали в нем прекрасного стилиста, настоящего артиста языка. Каково бы ни было отношение к содержательной части его философии, даже самые яростные ненавистники вынуждены признать литературные достоинства его текстов, утонченность формы, филигранную стилистическую отделку. Ницше придал музыкальную выразительность немецкому языку.
Его не привлекала философская мысль, лишенная лирического вдохновения. Он стал поэтом, музыкантом и филологом в философии и философом в поэзии, музыке и филологии. «Наука, искусство и философия, – пишет Ницше, – столь тесно переплелись во мне, что мне в любом случае придется однажды родить кентавра».
Большое внимание Ницше уделял суггестивному воздействию слова, выбору языковых форм, пауз, ударений – всего того, что он называл жестами, ритмикой, нюансами, мозаикой слов, их энергией: «Мозаика слов, где каждое слово, звучание его, место, понятие, свою силу выплескивает справа налево и поверх целого; минимум в объеме и числе знаков, при этом достигающий максимума в их энергии, – всё это римское, если хотите мне поверить, благородное par excellence».
Поэтический образ, как его понимал Ницше, всегда должен быть живой видимостью, в которой созидательный принцип жизни: время, бурлящая, клокочущая, пульсирующая и разрываемая противоположностями жизнь – постоянно дает о себе знать, что не означает аморфности, текучести, неопределенности образа, а, наоборот, предполагает ясную определенность и завершенность. Именно они и дают ощущение жизни. Такой образ выглядит всегда как застывшее движение, он имеет структуру оксюморона. Поэтический образ у Ницше строится по гераклитовскому принципу лука и лиры. Здесь всегда напряжение, где за всеми конечными, отделенными друг от друга вещами, за противоположностями мыслится охватывающее их целое, беспокойная мировая жизнь. Если прекрасные звуки лиры возникают благодаря борьбе противоположных сил, действующих на каждую струну, а лук, оружие борьбы, стреляет и попадает в цель от натягивания тетивы, общим для обоих – лиры и лука – будет напряжение, с той лишь разницей, что задача лиры – создание прекрасной звуковой гармонии, а лук всегда должен попасть в цель. Поэтому красота и точность, две стороны поэтического образа, мыслятся Ницше выходящими из одного истока.
Лу Саломе:
Ницше создал в известном отношении новый стиль в философии, в которой господствовали до сих пор или научный тон, или поэтическая речь экстаза. Он же создал характерный стиль, который, выражает не только самую мысль, но и все богатство настроений отзывчивой души, со всеми тонкими и тайными соотношениями чувств. Благодаря этой особенности Ницше не только овладевает языком, но и преступает границы, доступные языку, отражая в настроении то, что обыкновенно остается немым в словах.
По существу своей духовной природы Ницше был менее всего систематик и более всего поэт, «слышащий неслышимое», чуткий к голосу бытия, ловящий его ритмы.
Своей способности слушать и вслушиваться он придавал большое значение, и нет такой фразы в его книгах, к которой не применимо было бы то, что он писал в одном письме: «Я всегда занят тонкостями языка; чтобы окончательно установить текст, нужно самым добросовестным образом «переслушать» каждое слово и каждую фразу. Скульпторы называют эту последнюю работу ad unguem[58]58
Со всей тщательностью (латин.).
[Закрыть]».
Его мало трогала непрерывная последовательность мысли, складывающаяся в систематический порядок, его философия – только отдельные вспышки, гирлянды, калейдоскопические картинки, сложенные из поэтических фраз. И философию свою он писал, как поэт – поэму.
Ницше любил звучные слова, нередко шел на поводу красот языка, воображаемого мира, собственной фантазии.
«Не бойся ошибаться и мечтать», – говорил Шиллер, и Ницше повторяет этот совет. Счастливые, смелые греки опьяняли себя божественными историями, героическими мифами, и это опьянение вело их к великим целям.
Проблема стиля занимала Ницше уже в годы обучения в Лейпцигском университете. Он всегда старался писать красиво, уже где-то в возрасте 22–23 лет «принципы хорошего стиля, данные нам Лессингом, Лихтенберже и Шопенгауэром», начали звучать в его ушах:
Утешая себя, я мог только вспомнить, что все они единодушно соглашались с тем, что писать хорошо чрезвычайно трудно и для того, чтобы приобрести стиль, необходимо много предварительной, усидчивой работы. Прежде всего я хочу, чтобы мой стиль был легок и носил веселый оттенок. Я применю к выработке стиля ту же систему, которую я применяю к моей игре на рояле: это будет не только воспроизведение заученных пьес, но и насколько возможно свободная фантазия, всегда логичная и красивая.
Ницше часто сравнивал стиль с танцем: «Мой стиль – танец, игра симметрий всякого рода, перескоков и осмеяний этих симметрий». Философия тоже должна быть танцем: «Именно танец является его [философа] идеалом, его искусством, его, наконец, единственным благочестием, его богослужением». Давая разъяснения, он писал:
Действительно, танец во всякой его форме не отделить от благородного воспитания, способности танцевать ногами, понятиями, словами: я должен еще прибавить, что можно танцевать и пером – что следует учиться писать!
Пришпоривающий стиль Ницше в широком смысле слова – это доходящая до экзальтации и экстремизма предельная заостренность поднимаемых проблем, лихорадочная взвинченность, экстатическая эмоциональность, темпераментность, яркая личностная окрашенность мысли, интеллектуальная ее провокативность, «наслаждение притворством», подчеркнутая бессистемность, скрывающая ориентацию на бессознательность.
Мне неведома радость берущего; и не раз думал я: стократ блаженнее крадущий, нежели дающий.
В том бедность моя, что вовек не устанет дарить рука моя; в том ревность моя, что вижу я взоры жаждущих и тьму, просветленную желанием.
О злосчастье дарящих! О затмение солнца моего! О томление страсти! О неутолимый голод пресыщения!
Они берут у меня: но затрагиваю ли я душу их? Пропасть – между «дарить» и «брать»; а самая малая пропасть преодолевается в последнюю очередь.
Голод родится из красоты моей: навлечь беды на вас, освещенных мной, обобрать приявших дары мои – во зло стремится алчность моя.
Отдернуть руку свою, когда чужая протянута к ней; медлить, словно водопад, продлевающий падение свое, – во зло стремится алчность моя.
Такую месть измышляет избыток мой; такое коварство источают ключи одиночества моего.
Радость дарящего охладевает в дарении, добродетель моя устала от обилия своего!
Вечно дарящий утратит и стыд. У раздающего – руки и сердце в мозолях.
Одна из причин популярности Ницше среди нефилософов – близость его стиля обыденному мышлению, далекому от дискурса. В Ницше привлекали не только необычные идеи, но и форма их выражения, отказ от «объективности», непредвзятости, упорядоченности, логичности. Ницше нарушил дурную традицию дистанцирования от собственного «я» и свойств «я», прервал ханжескую традицию «объективации» – захвата права «господами-мыслителями» глаголить от имени Бога. Раз «Бог умер», философ не может больше претендовать на объективность, теряет право говорить так, будто он всеведущ или является рупором Бога. Философ начинает говорить от собственного имени, укрепляя сказанное только собственными чувствами, собственным пафосом.
Особенность философствования «последнего ученика Диониса» в абсолютном слиянии внутреннего душевного мира с работой мысли. Перед нами яркий пример неотделимости философии от личности, переноса в философию всех тончайших оттенков собственных качеств.
А. Белый определил стиль Ницше как стиль новой души, ориентированной в грядущее, соединившей Запад с Востоком, унаследовавшей лучшие образцы мировой культуры.
Ницше – изысканнейший стилист; но свои утонченные определения прилагает он к столь великим событиям внутренней жизни, что изысканность его стиля начинает казаться простотой. Ницше честен, прост в своей изощренности.
Между гениальнейшим лирическим вздохом Гёте (этого самого великого лирика) и раскатом грома какого-нибудь Шанкары и Патанджали – какая пропасть! После Ницше этой пропасти уже нет. «Заратустра» – законный преемник гётевской лирики; но и преемник «Веданты» он тоже. Ницше в германской культуре воскресил всё, что еще живо для нас в Востоке; смешно теперь соединять Восток с Западом, когда сама личность Ницше воплотила это соединение.
Стиль Ницше полностью адекватен «плюралистическому универсуму» его философии, изначально отбросившей академичность, системность, неприступность и завершенность. Поэтому все попытки «завершить» Ницше, облечь его взгляды в целостный, систематический вид противостоят духу Ницше.
В. Кауфман:
Речь идет о «плюралистическом универсуме», где всякий афоризм – микрокосм. В одном и том же разделе Ницше нередко занят этикой, эстетикой, философией истории, теорией ценностей, психологией и, быть может, еще полудюжиной других сфер. Поэтому усилия издателей Ницше систематизировать его записи должны были потерпеть неудачу.
Не случайно Ницше тяготел к афористической форме. Афоризм как философский инструмент изначально предполагает «перспективизм», наличие разных точек зрения, риск, свободу, многозначность… Ницше постоянно подчеркивал негативное отношение к традиционным, академическим формам философствования, противопоставлял собственное мифотворчество системотворчеству «казенных» мудрецов.
В. Б. Кучевский:
…Бессистемность философии Ницше в его текстах имеет свою особую опредмеченную в языке форму, а именно афоризм, в котором при минимуме слов порой удается зафиксировать в предельно сжатом виде максимум интеллектуального и эмоционального содержания. Его труды – это цепь относительно замкнутых и не связанных друг с другом фрагментов, набросков, эскизов, афоризмов с широким использованием мифов, легенд, проповедей и иносказаний. Следует отметить, что именно при формулировании афоризмов Ницше и предстает настоящим художником и утонченным мастером слова.
Афоризм выступает основным способом и стилем вербального выражения мысли Ницше и вместе с тем существенной отличительной чертой его образа философствования, при котором процесс мышления предстает в виде спонтанно возникающего квантованно-дискретного и многоаспектного действия.
В. Подорога:
Воля к афоризму, заявляемая Ницше, – иная воля, воля к асистемности: текстовое пространство плюрализуется, утрачивает центр и уникальную перспективу, конец и начало; его уже не прочитать привычным ходом глаз слева направо, не встречая других направлений и ритмов чтения. Сила афористического письма является внешней себе и не локализуется ни в каком выделенном месте текста, имени или утверждении, она словно озабочена тем, как на минимальном пространстве высказываемого создать избыток смысла, которым читатель не в силах овладеть без остановки и замедления чтения. В книгах Ницше, которые так мало претендуют на то, чтобы считаться «книгами», трудно отыскать некое деспотическое авторское «я», которое соединяло бы в единую перспективу завершенного философского опыта все мыслимое и до конца управляло бы всеми языковыми силами и экспериментами: авторское честолюбие заключается в том, чтобы «не появляться в своем индивидуальном облике».
Мыслить для Ницше – это прежде всего создавать письмо, мыслить афоризмами. Книга афоризмов должна воплощать строение самого бытия, ведь бытие – такое, какое оно есть в вечном потоке становления, – остается невидимым, если не предпринято интерпретационное усилие, если нет игры языка, которая должна не столько описывать или представлять его причудливый состав, сколько сама быть определенным состоянием бытия в его интерпретированном статусе, ибо другого, отличного от интерпретированного, истинного бытия просто не дано. Философская книга должна вторить и мгновенно воплощать в своей внутренней архитектонике ограниченность и дискретность всякого интерпретированного бытия; афоризм – это «кусочек» интерпретированного бытия, лишь на мгновение он появляется на поверхности потока письма, чтобы тут же уступить свое место другому, но с тем, чтобы потом вновь предстать через десятки страниц, или в другой книге, или в письме – в том же самом облачении знаков, но уже другим афоризмом, в ином ритмическом и физиологическом сцеплении.
Ницше не сразу пришел к афористике. Своеобразие его стиля возникло вместе с записями отдельных интуиций, то есть одновременно с открытием для себя афористического метода, сочетающего в себе остроту интеллектуального переживания, лиричность и личностность. Такой «стилистический поворот» можно датировать 1876 годом.
Гораздо позже, уже в «Заратустре», он выскажет заветное желание поэта-избранника, чьи пламенные сентенции боговдохновенны: «Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть».
Как поэт, как противник «системы» Ницше видел в афоризме форму, адекватную его стилю философствования: «Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы «вечности»; мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, что всякий другой говорит в целой книге, – чего всякий другой не скажет в целой книге».
Афоризмы – не просто кванты мысли, но парадоксы, интуиции, яркие всплески, вспышки, прозрения.
Философия Ницше – это стиль Ницше, концентрированный поиск стиля: плюрализму идей соответствовал стилистический плюрализм: «Задача: видеть вещи, как они есть! Средство: смотреть на них сотней глаз, из многих лиц». Афоризм как раз и оказался таким средством, каждое высказывание – отдельной философией, каждая мысль – лицом…
Если хотите, афористичность адекватна асистемности, перспективизму, плюралистическому толкованию бытия. Называя афоризмы формами вечности, Ницше, среди прочего, мог иметь в виду прагматизм истины: множественность ее трактовок, богатство символики, возможность сотворения каждым своего мира-мозаики из набора афоризмов-форм: сколько читающих афоризмы – столько миров. Афористичность – это всегда незавершенность, недоговоренность, хаотичность.
Систематика чужда человеку, говорящему афоризмами. Последовательность, однозначность, непротиворечивость – тоже. Человек, мыслящий афоризмами, не должен быть последовательным, ибо последовательность – свойство машины, а не человека. Система – это всегда свидетельство убожества: жалкая попытка втиснуть бытие в убогую мысль. Афористика – редкостная способность дискретного многовидения, отвечающего дискретному многообразию бытия. Это не просто литературный жанр, но способ видения мира, а в приложении к Ницше – еще и «парабола всей его жизни», по словам К. А. Свасьяна.
Афоризм рождался не из ущерба, а из избытка; небывалость ницшевского опыта, ницшевской оптики воплощалась в этот жанр как в единственно соразмерную ей форму выражения. Что есть афоризм? Скажем так: отнюдь не логика, а скорее некая палеонтология мысли, где по одному оскалившемуся «зубу» приходится на собственный страх и риск воссоздавать неведомое и, судя по всему, довольно опасное целое – «заводить знакомство с господином Минотавром». Можно сказать и так: некая неожиданная инсценировка мысли на тему схоластических quod libet, подчиняющаяся, поверх логических норм и запретов, неписаным канонам какой-то диковинной хореографии; афористическая мысль относится к систематизированной мысли, как векториальная геометрия к метрической геометрии, как кочевник к домоседу, прыжок канатоходца к правилам уличного движения, мужицкая дубинка к закованному в латы рыцарю, лукавое подмигивание к всесторонне взвешенному доводу, лабиринт к стрелке с надписью «выход».
Афористичность текстов Ницше, начиная с «Человеческого, слишком человеческого», является результатом не столько того, что полуслепой и страдающий от нечеловеческих головных болей человек вынужден был в периоды просветлений записывать отдельные мысли или набрасывать отдельные фрагменты, сколько – образом свободного и оригинального мышления философа нового стиля, чуждого систематики, последовательности и непротиворечивости.
Он всегда если не поэт, то чародей формы, столь богатой жанрово-тематическими переплетениями, что его афоризмы необычайно многослойны. Они не фиксируют строго очерченную мысль, а, скорее, нюансирует все, что приходит на ум, предлагают не жесткую формулу, а широкое поле для осторожного обдумывания всего предполагаемого.
Ницше не писал книг – упорядоченных текстов, следующих наперед заданным принципам. Предельно далекий от системотворчества, он – формой и содержанием – ориентировал читателя на свободу, многоплановость, полет фантазии, сопричастность. Среди многочисленных интерпретаций выражения «смерть Бога» есть та, что с единственностью покончено раз и навсегда, что библий больше не будет, что философии, теологии, искусству, науке как чему-то общему, общеобязательному и единому пришел конец. Отныне универсум, единство, общность – это множественность, фрагментарность, иерархичность, конкурентность, плюралистичность,
Задолго до Джойса Воспитатель свободы осознал, что автору необходимы символы-маски, что возможность множества интерпретаций обогащает письмо, что текст должен содержать потенциал расширения смысла, что гениальность имеет только одну меру – безмерность вкладываемых в произведение идей, вечное сотрудничество автора с «потребителями», открытие все новых и новых пластов, в том числе – не предвиденных самим творцом.
Текст – реальность sui generis, это всегда доинтерпретационная реальность. И текстовое пространство организуется таким образом, чтобы не быть разрушенным сменой режимов чтения; напротив, их постоянная смена просто необходима, чтобы чтение могло продолжаться. То, что можно было бы назвать книгой Ницше, образует такую смысловую протяженность, которая становится все более открытой миру в зависимости от смены режимов чтения; книга, пока ее читают, пишется непрерывно.
Символы, предупреждал Заратустра, «не говорят, а только намекают, молча указывая. Глупец тот, кто в названиях ищет знания». Символы – не просто знаки, эмблемы, но способы выражения невыразимого, еще до конца не понятого, неоднозначного. Они необходимы всегда, ибо всегда существуют загадки, парадоксы, неочевидности, неоднозначности, призрачные границы, отделяющие крупицы знания от океана проблем.
Используемые Ницше «концептуальные персонажи», такие как Заратустра, Аполлон, Дионис, Ариадна, Тесей, необходимы ему как личностно значимые носители символов, противостоящие понятиям. Философия Ницше и есть философия символов, а не понятий, подразумевания, а не утверждения, сгустка смыслов, а не решений. Решения конформны и окончательны, символы открыты и расходятся в бесконечность.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































