Текст книги "Основы метафизики нравственности"
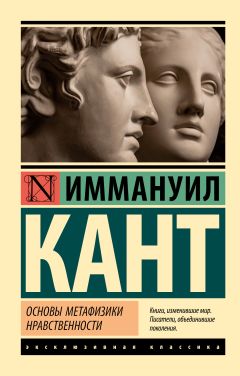
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
О проницательности, или способности исследования
§ 56. Чтобы что-то открыть (что лежит скрытым или в нас самих, или вне нас), для этого во многих случаях нужен особый талант – нужно знать, как искать; это природное дарование высказывать предварительные суждения (iudicii praevii), в которых можно было бы найти истину, нападать на след вещей и пользоваться малейшими признаками сходства, чтобы открыть или найти искомое. Школьная логика этому совершенно не учит. Но Бэкон Веруламский в своем «Органоне» дал блестящий пример такого метода, на основании которого можно с помощью эксперимента открыть скрытые свойства вещей в природе. Но даже этот пример недостаточен для того, чтобы дать нам наставление по определенным правилам, как нужно искать, рассчитывая на удачу, ибо при этом надо сначала нечто предполагать (исходить из гипотезы, откуда и следует начинать свои поиски; и это должно быть сделано в соответствии с принципами и исходя из тех или иных признаков; и все дело именно в том, как выведать эти признаки. Попытаться идти вслепую, наудачу, когда спотыкаются о камень и находят кусок руды и тем самым открывают рудную жилу, – это, право, плохой путь исследования). Тем не менее есть люди, обладающие талантом как бы с волшебным жезлом в руках отыскивать сокровища познания, хотя они этому не учились; но и других научить этому они не могут; они могут только показывать им, ведь это дар природы.
Об оригинальности познавательной способности, или о гении
§ 57. Изобрести что-то – это совсем не то, что открыть, ведь то, что открывают, предполагается уже существующим до этого открытия, только оно еще не было известным, например Америка до Колумба; но то, что` изобретают, например порох, не было никому известно до мастера, который его сделал. И то и другое может быть заслугой. Но можно [42]42
Порохом пользовались задолго до монаха Шварца, еще при осаде Альхесираса. Изобрели его, по-видимому, китайцы. Но очень может быть, что тот немец, которому этот порох попался в руки, стал делать опыты, чтобы разложить порох на его составные части (например, выщелачиванием находящейся в нем селитры, смыванием угля и выжиганием серы), и таким образом открыл его, хотя не изобрел.
[Закрыть]найти нечто такое, чего и не искали (как один алхимик нашел фосфор), и тогда в этом нет никакой заслуги. Талант к изобретению называют гением, однако это имя всегда дают только мастеру, следовательно, тому, кто умеет что-то сделать, а не тому, кто только много знает и понимает. Но дают его не тому мастеру, который только подражает, а тому, который умеет создать свое произведение первоначально. Наконец, и этому мастеру дают это название только в том случае, если его произведение окажется образцовым, т. е. если оно заслуживает быть примером (exemplar) для подражания. Следовательно, гений человека есть «образцовая оригинальность его таланта» (в отношении того или другого вида произведений искусства). Но и того, у кого имеются задатки этого, называют гением, ибо тогда это слово обозначает не только природное дарование данной личности, но и самое эту личность. Гений, проявляемый кем-то во многих отраслях, называется всесторонним (например, Леонардо да Винчи).
Истинная сфера для гения – это сфера воображения, ибо оно бывает творческим и меньше, чем все другие способности, находится под гнетом правил, но именно поэтому ему больше доступна оригинальность. Правда, механизм обучения, постоянно принуждая ученика к подражанию, несомненно, оказывает вредное действие на пробуждение гения, если иметь в виду его оригинальность. Но каждое искусство все же нуждается в некоторых основных механических правилах, а именно в соответствии произведения с его идеей, т. е. в истине при изображении предмета, который имеют в мысли. Этому следует научиться со всей школьной строгостью, и оно, несомненно, есть следствие подражания. Освободить воображение и от этого принуждения и дать особому таланту действовать и увлекаться без всяких правил, даже вопреки природе, – это, быть может, приведет к оригинальному безумию, но оно, конечно, не будет образцовым и, следовательно, его нельзя причислять к гениальности.
Дух – это оживляющий принцип в человеке. Во французском языке дух (Geist) и остроумие (Witz) обозначаются одним словом – esprit. В немецком языке это иначе. Говорят: речь, произведение, дама в обществе и т. д. прекрасны, но лишены духа. Много остроумия здесь ничего не значит, ибо остроумие в конце концов может опротиветь, так как после себя оно не оставляет ничего прочного. Для того чтобы все указанные вещи и лица можно было назвать проникнутыми духом, они должны возбуждать интерес, и именно посредством идей. В самом деле, этим воображение приводится в движение, и оно видит перед собой большой простор для подобных понятий. Так было бы, если бы мы стали французское слово génie обозначать словами особенный дух, так как наш народ склонен думать, будто французы заимствовали для этого из своего собственного языка такое слово, какого мы в своем языке не имеем и которое мы должны заимствовать от них, тогда как они сами заимствовали это слово из латинского языка (genius), которое и обозначает именно особенный дух.
Но причина, почему образцовую оригинальность таланта называют этим мистическим именем, заключается в том, что тот, кто обладает ею, не может объяснить себе ее проявления и не в состоянии самому себе растолковать, как он дошел до искусства, которому он не мог научиться. Невидимость (причины для действия) есть побочное понятие о духе (о genius, который уже от рождения сопутствует талантливому человеку), внушению которого он как бы только следует. Но душевные силы должны при этом посредством воображения приходить в движение гармонически, иначе они будут не оживлять друг друга, а только мешать одна другой; и эта [гармония] дается только природой субъекта, ввиду чего гения можно назвать также талантом, «посредством которого природа дает искусству правила».
§ 58. Здесь можно оставить без рассмотрения вопрос, получает ли мир в общем особенную пользу от великих гениев, поскольку они часто пролагают новые пути и открывают новые горизонты, или же больше всего способствуют росту искусств и наук механические умы (хотя они и не составляют эпохи) с их будничным рассудком, который медленно продвигается, следуя опыту (правда, ни один из них не возбуждает нашего удивления, но ни один из них и не вносит путаницы). Но одна порода их, так называемые гениальничающие люди (вернее, гениальничающие обезьяны), встала под вывеску, под которой действуют люди, исключительно одаренные от природы; эта порода объявила нестоящим кропотливое изучение и исследование, и хвастается, будто она сразу схватила дух всех наук, и предлагает его в небольших концентрированных и сильных дозах. Люди этой породы, подобно знахарям и шарлатанам, очень мешают успехам научного и морального образования, когда они решительным тоном с высоты своей премудрости изрекают свои мысли о религии, политике и морали, словно посвященные или власть имущие, и таким образом пытаются скрыть скудость своего духа. Что же делать с такими людьми, как не смеяться над ними и терпеливо продолжать свой путь прилежно, в строгом порядке и с полной ясностью, не обращая внимания на этих фигляров?
§ 59. Гений, по-видимому в зависимости от национальности и той почвы, на которой он вырос, содержит в себе различные первоначальные зачатки и развивает их различным образом. У немцев эта гениальность больше идет в корень, у итальянцев – в крону, у французов – в цветок, у англичан – в плод.
Обыкновенный ум (который воспринимает все разнообразные науки) отличается, кроме того, от гения как человека изобретательного ума. Первый может проявиться в том, что` можно изучить; а именно – он может обладать историческим познанием (быть полигистором) того, что до сих пор было сделано в области всех наук; таков Юлий Цезарь Скалигер. Гений – это человек великого духа не столько по объему, сколько по интенсивности; он составляет эпоху во всем, за что он берется (таковы Ньютон, Лейбниц). Архитектонический ум, методически усматривающий связь всех наук и их взаимную поддержку, – это только второстепенный гений, но не гений в общем смысле слова. Бывает, однако, и гигантская ученость, которая часто есть ученость циклопическая, а именно в том смысле, что ей не хватает зоркости истинной философии, чтобы при помощи разума целесообразно использовать эту груду исторического знания, груз сотни верблюдов.
Самородки, самоучки (élèves de la nature, autodidacti) в некоторых случаях также могут прослыть гениями, так как они, хотя кое-что из того, что они знают, могли бы узнать от других, многое нашли сами и гениальны в том, что` само по себе не есть дело гения; так, в Швейцарии имеется много изобретателей в механических искусствах. Но преждевременно развитый эфемерный ум вундеркинда (ingenium рrаесох), как в Любеке Гейнеке или в Галле Баратьер, – это отклонение природы от своих правил, это редкости для кабинетов естественно-научных коллекций; хотя их преждевременной зрелости можно удивляться, но часто об этом глубоко жалеют те, кто этому содействовал.
Так как в конце концов для собственного споспешествования познавательной способности даже в теоретическом познании все ее применение нуждается в разуме, дающем правило, по которому только и можно поспешествовать ей, – то притязания разума на нее можно выразить в трех вопросах, соответствующих трем разновидностям этой способности:
Чего я хочу? (спрашивает рассудок).[43]43
Хотение здесь понимается в чисто теоретическом смысле: что` я хочу утверждать как истинное.
[Закрыть]
От чего это зависит? (спрашивает способность суждения).
К чему это ведет? (спрашивает разум).
Люди очень различны по способности давать ответ на каждый из этих трех вопросов. Первый вопрос требует лишь ясного ума, чтобы понять самого себя; и это природное дарование при некоторой культуре встречается довольно часто, в особенности в том случае, если на это обращают внимание. Гораздо реже дается дельный ответ на второй вопрос, ибо предлагаются разные способы определения имеющегося понятия и мнимого разрешения задачи; каков же тот единственный способ, который точно соответствует ей (например, в процессах или при составлении того или иного плана действий для [осуществления] одной и той же цели)? Для этого существует талант выбора того, что верно как раз в данном случае (iudicium discretivum); такой талант весьма желателен, но встречается весьма редко. Адвокат, который приводит много доводов в пользу своего утверждения, затрудняет для судьи его приговор, ибо сам он действует ощупью; но если он в соответствии с определением того, чего он хочет, сумеет угадать тот пункт (а такой пункт может быть только единственным), в котором все дело, – то все решается быстро, приговор разума следует сам собой.
Рассудок положителен и разгоняет мрак невежества; способность суждения больше негативна: она предохраняет от ошибок, возникающих при смутном свете, в котором предметы являются. Разум закрывает источники ошибок (предрассудки) и тем самым дает рассудку уверенность через всеобщность принципов. Книжная ученость хотя и расширяет познание, но не расширяет понятий и понимания там, где ей не помогает разум. Но ее надо отличать еще от умствования – от игры с одними лишь попытками применения разума без соблюдения его законов. Когда ставится вопрос, следует ли мне верить в привидения, то я всячески могу умствовать по поводу их возможности; но разум запрещает суеверное допущение возможности явления, т. е. без принципа объяснения этого явления по законам опыта.
Благодаря огромному различию умов в способе рассмотрения одних и тех же предметов, равно как и друг друга, благодаря взаимному их столкновению, соединению и разъединению природа дает крайне любопытный спектакль на сцене созерцателей и мыслителей бесконечно различных видов. Следующие максимы (которые были уже упомянуты выше как приводящие к мудрости) можно сделать незыблемыми законами для класса мыслителей:
1) Думать самому.
2) Мыслить себя (в общении с людьми) на месте любого другого.
3) Всегда мыслить в согласии с самим собой.
Первый принцип негативный (nullius addictus iurare in verba magistri) – принцип образа мыслей, свободного от принуждения; второй положительный – принцип широкого образа мышления, сообразующегося с понятиями других; третий – принцип последовательного образа мышления; для каждого из них, а еще больше для противоположного ему, антропология может привести много примеров.
Важнейшая революция во внутреннем [мире] человека – это «выход его из того состояния несовершеннолетия, в котором виноват он сам». Вместо того чтобы, как это было до сих пор, другие думали за него, а он только подражал или позволял водить себя на помочах, он теперь решается самостоятельно идти вперед на почве опыта, хотя еще не твердо.
Книга вторая
Чувство удовольствия и неудовольствия
Деление
1) Чувственное, 2) интеллектуальное удовольствие. Первое – через [внешнее] чувство (наслаждение) или через воображение (вкус); второе (именно интеллектуальное) – или через изобразимые понятия, или через идеи. Таково же деление и противоположного, [т. е.] неудовольствия.
О чувственном удовольствииО чувстве приятного, или чувственном удовольствии, в ощущении предмета
§ 60. Наслаждение есть удовольствие через [внешнее] чувство; и то, от чего чувство испытывает удовольствие, называется приятным. Страдание есть неудовольствие через [внешнее] чувство, и то, что вызывает его, неприятно. Они противопоставлены друг другу не как приобретение и отсутствие (+ и 0), а как приобретение и потеря (+ и – ), т. е. не только как противоречие (contradictorie, s. logice oppositum), но и как противоположность (contrarie s. realiter oppositum). Выражения нравится или не нравится и то, что находится между ними, [т. е.] безразлично, слишком широки, ибо они могут относиться и к интеллектуальному, и тогда они уже не совпадают с наслаждением и страданием.
Эти чувства можно пояснить и через то действие, которое ощущение нашего состояния производит на душу. То, что непосредственно (через [внешнее] чувство) побуждает меня оставить мое состояние (выйти из него), мне неприятно, причиняет мне боль; а то, что побуждает меня сохранять это состояние (оставаться в нем), мне приятно, доставляет мне удовольствие. Но нас неудержимо увлекают поток времени и связанная с этим смена ощущений. Хотя оставление одного момента времени и вступление в другой есть один и тот же акт (смены), тем не менее в нашей мысли и в осознании этой смены имеется временна`я последовательность, сообразная с соотношением причины и действия. Спрашивается, что возбуждает в нас ощущение удовольствия – сознание ли оставления данного состояния или перспектива вступления в будущее состояние? В первом случае это удовольствие есть не что иное, как прекращение страдания и нечто негативное; во втором оно было бы предчувствием чего-то приятного, следовательно, увеличением состояния удовольствия, стало быть чем-то положительным. Но уже заранее можно догадаться, что бывает только первое, ибо время влечет нас от настоящего к будущему (а не наоборот); и причиной нашего приятного ощущения может быть только то, что мы прежде всего вынуждены выйти из настоящего состояния, не зная, в какое другое [состояние] мы вступим, но зная, что оно непременно будет другим.
Удовольствие есть чувство, споспешествующее жизни, а страдание – чувство, затрудняющее ее. Но жизнь (животного), как уже заметили врачи, представляет собой беспрерывную игру антагонизма между тем и другим.
Следовательно, всякому удовольствию должно предшествовать страдание; страдание всегда первое. В самом деле, результатом беспрерывного повышения жизненной силы, которая ведь не может подняться выше определенной степени, была бы только быстрая смерть от радости.
Не может также одно удовольствие непосредственно следовать за другим, между одним и другим всегда должно появиться страдание. Небольшие помехи жизненной силе с промежуточными моментами ее повышения – вот что составляет здоровое состояние, которое мы ошибочно считаем беспрерывно ощущаемым хорошим состоянием; на самом деле оно состоит только из приятных ощущений, рывками (всегда с промежуточными моментами страдания) следующих друг за другом. Страдание – это стимул для нашей деятельности, и прежде всего в нем мы чувствуем нашу жизнь; без него наступило бы состояние безжизненности.
Страдания, которые проходят медленно (как постепенное выздоровление от болезни или медленное приобретение утраченного ранее капитала), не имеют своим следствием большого удовольствия, так как переход незаметен. Под этими положениями графа Верри я подписываюсь с полным убеждением.
Почему игра (особенно на деньги) так заманчива и, если она затеяна не с корыстными целями, представляет собой лучшее развлечение и лучший отдых после продолжительного напряжения мышления (ведь от ничегонеделания мы поправляемся лишь медленно)? Потому что игра есть состояние беспрерывной смены страха и надежды. Ужин после игры вкуснее и лучше переваривается. Почему спектакли (все равно, трагедии или комедии) так интересны? Потому что в каждом из них между надеждой и радостью появляются некоторые затруднения – опасения и тревоги, – и таким образом к концу пьесы борьба противоположных друг другу аффектов повышает жизненную силу зрителя, внутренне приводя его в движение. Почему любовный роман оканчивается свадьбой и почему так противен и пошл всякий приложенный к нему том (как у Филдинга), который рукой кропателя продолжает роман еще и в браке? Потому что ревность как страдание влюбленных среди их радостей и надежд до брака есть для читателя услада, а в браке яд; ведь, говоря языком романов, «конец страданий от любви есть в то же время и конец любви» (разумеется, [любви] в сочетании с аффектом). Почему работа – лучший способ наслаждаться жизнью? Потому что она нелегкое (само по себе неприятное и радующее только своим результатом) дело и уже от одного прекращения утомительной работы отдых становится заметным удовольствием, радостью, иначе в отдыхе нет ничего отрадного. Табак (курительный или нюхательный) вначале связан с неприятным ощущением. Но именно потому, что природа (выделением слизи из гортани и из носа) мгновенно устраняет это страдание, табак (особенно курительный) заменяет до некоторой степени общество и возбуждает все новые ощущения и даже мысли, хотя мысли в данном случае бывают очень неопределенными. Кого же, наконец, не может побудить к деятельности никакое положительное страдание, на того негативное [страдание], [т. е.] скука как отсутствие ощущений, которое человек, привыкший к их смене, замечает в себе, стремясь чем-нибудь занять свой жизненный импульс, часто оказывает такое действие, что он чувствует себя побужденным лучше сделать что-нибудь себе во вред, чем ничего не делать.
§ 61. Итак, чувствовать, что живешь, наслаждаться жизнью – значит лишь постоянно чувствовать потребность выйти из данного состояния (которое, следовательно, должно быть столь же часто возвращающимся страданием). Этим объясняется гнетущее, даже мучительное, ощущение скуки у всех тех, кто внимателен к своей жизни и своему времени (у образованных людей). Это давление или побуждение к тому, чтобы оставлять каждый момент времени, в котором мы находимся, и переходить в следующий, торопит жизнь и в конце концов может вырасти до решения покончить с жизнью, ибо пресыщенный человек испытал все виды наслаждения и ничего нового для него уже нет; так, в Париже говорили о лорде Мордоне: «Англичане вешаются, чтобы провести время». Отсутствие ощущений, когда мы его замечаем, возбуждает ужас (horror vacui) и вызывает как бы предчувствие медленной смерти, которая считается мучительнее, чем та, когда судьба быстро обрывает нить жизни.[44]44
Караибы ввиду прирожденного им бесстрастия свободны от этого мучительного состояния. Они могут целыми часами сидеть с удочками в руках, хотя бы и не было никакой рыбы; отсутствие мыслей – это отсутствие стимула к деятельности, который всегда заключает в себе страдание и от которого караибы избавлены. Журналы поддерживают интерес нашей читающей, обладающей более тонким вкусом публики к чтению, даже ненасытность ее к нему, но не для образования, а для развлечения, так что голова при этом остается всегда пустой и нечего опасаться пресыщения: этому деятельному безделью читатели придают вид работы и обманывают себя, считая, что проводят время достойным образом, хотя такое времяпрепровождение ничуть не лучше, чем то, которое предлагает публике «Journal des Luxus und der Moden».
[Закрыть]
Этим объясняется, почему времяпрепровождение иногда отождествляется с удовольствием: чем быстрее проходит у нас время, тем бодрее мы себя чувствуем. Так, если компания в увеселительном путешествии в течение трех часов была занята оживленным разговором, то при выходе из кареты кто-нибудь, посмотрев на часы, весело скажет: «Куда делось время!» или: «Как незаметно прошло время!» Но если внимание к движению времени есть внимание не к страданию, от которого мы стремимся отделаться, а к удовольствию, мы справедливо сожалеем о каждой минуте потерянного времени. Длинные разговоры об одном и том же скучны (langweilig) и потому тягостны; веселого (kurzweiliger) человека мы считаем если и не серьезным, то приятным; как только он входит в комнату, лица всех гостей светлеют, как это бывает в минуты радости, когда избавляются от какой-то трудности.
Но как объяснить то явление, что человек, который большую часть своей жизни томился от скуки, так что каждый день ему казался слишком длинным, в конце жизни жалуется тем не менее на краткость жизни? Причину этого следует искать в аналогии с другими подобными явлениями. Почему немецкие (немереные и не снабженные указателями в отличие от русских верст) мили чем ближе к столице (например, к Берлину), тем короче и чем дальше от нее (в Померании), тем длиннее? Дело в том, что обилие видимых предметов (деревень и дач) вызывает в памяти ошибочное представление о большом пройденном пути, следовательно, и о большей продолжительности необходимого для этого времени; отсутствие же таких впечатлений в последнем случае оставляет мало воспоминаний о виденном в пути и, следовательно, вызывает представление о более коротком пути, а значит, и времени более коротком, чем показывают часы. Точно так же множество отрезков времени, которые выделяются в последний период жизни разнообразными и переменными работами, возбуждают у старика представление о том, будто он прожил гораздо больше времени, чем по числу лет; наполнение времени планомерно усиливающейся деятельностью, которая имеет своим результатом великую, заранее намеченную цель (vitam extendere factis), – это единственно верное средство быть довольным жизнью и вместе с тем чувствовать себя пресыщенным ею. «Чем больше ты думал, чем больше ты делал, тем больше ты жил (даже в своем собственном воображении)». Такое завершение жизни дает человеку удовлетворение.
Но как обстоит дело с удовлетворением (acquiescentia) в течение жизни? Для человека оно недостижимо ни в моральном (удовлетворенность своим поведением), ни в прагматическом отношении (удовлетворенность своим состоянием, которое он намерен обеспечить себе, проявляя способности и житейскую мудрость). Природа сделала страдание стимулом к деятельности человека, неизбежно толкающим его всегда к лучшему; даже в последние моменты жизни удовлетворение последним ее периодом можно назвать только сравнительным (потому что мы сравниваем свою судьбу и с судьбой других, и с самим собой); оно никогда не бывает абсолютным и полным. Быть в жизни (абсолютно) довольным – это признак бездеятельного покоя и прекращения всех побуждений или притупления ощущений и связанной с ними деятельности. Но такое состояние так же несовместимо с интеллектуальной жизнью человека, как и прекращение работы сердца в животном организме, за которым, если не появится (через страдание) новое побуждение, неизбежно следует смерть.
Примечание. В этом разделе следовало бы говорить и об аффектах как чувстве удовольствия и неудовольствия, которое выходит за пределы внутренней свободы человека. Но так как аффекты часто смешиваются со страстями, о которых речь будет в другом разделе, а именно в разделе о способности желания, и так как они все же стоят в близком родстве с ними, то рассмотрение их я откладываю до этого третьего раздела.
§ 62. Быть всегда расположенным к веселости – это в большинстве случаев [особое] свойство темперамента, но часто это может быть и действием принципов, как, например, принципа наслаждения Эпикура; так называли этот принцип другие, и потому он приобрел дурную славу, хотя в сущности под ним подразумевалось постоянное веселое расположение духа мудреца. Уравновешен тот, кто не радуется и не печалится; он сильно отличается от того, кто равнодушен к событиям жизни, стало быть мало чувствителен. Уравновешенности противоположен капризный (launische) способ чувствования (возможно, что он первоначально назывался lunatisch), который представляет собой предрасположение субъекта к внезапным приливам радости или печали, причины которых он сам указать не может; это бывает чаще всего с ипохондриками. Это свойство совершенно отличается от юмористического (launichten) таланта (такого, как у Батлера или Стерна), когда остроумный человек преднамеренно ставит предметы в неверное положение (как бы вниз головой) и тем самым с лукавой простотой предоставляет слушателю или читателю удовольствие самому поставить все на место. Чувствительность (Empfindsanikeit) не противоположна уравновешенности, ведь она есть сила и способность допускать и состояние удовольствия, и состояние неудовольствия или не допускать их в душе; следовательно, у нее есть выбор. Другое дело – сентиментальность (Empfindelei); она слабость даже против воли поддаваться сочувствию к состоянию других, способных как бы играть на [внешних] органах сентиментального человека по своему усмотрению. Первая свойственна мужчине, ибо мужчина, который хочет избавить от трудностей или страданий женщину или ребенка, должен иметь тонкого чувства столько, сколько нужно, чтобы судить об ощущении других не по своей силе, а по их слабости; и эта нежность его чувства нужна для великодушия. Бездеятельное же сочувствие, когда свое чувство симпатически звучит в тон с чувствами других и таким образом лишь пассивно поддается воздействию, есть нечто нелепое и детское. Так можно и до`лжно быть благочестивым, сохраняя хорошее настроение; так можно и до`лжно исполнять трудную, но необходимую работу, сохраняя хорошее настроение; и в таком же хорошем настроении надо даже умирать, ибо все это теряет свое достоинство, если совершается или испытывается в дурном настроении и мрачном расположении духа.
О таком страдании, о котором известно, что оно может прекратиться только вместе с жизнью, говорят, что человек сокрушается о чем-то (о своей беде). Но ни о чем не следует сокрушаться, ведь то, чего нельзя изменить, надо выбросить из головы: нелепо намерение сделать совершившееся не совершившимся. Исправлять себя самого можно, и это наш долг; но бессмысленно желать улучшить то, что не в моей власти. Однако принимать что-то близко к сердцу – здесь имеется в виду каждый добрый совет и каждое доброе наставление, внимать которым человек имеет твердое намерение, – это обдуманное направление мыслей [с целью] сочетать свою волю с достаточно сильным чувством для исполнения ее. Покаяние человека, подвергающего себя добровольным мукам, вместо того чтобы быстро направить свой образ мыслей на лучшее поведение, – это напрасный труд; кроме того, оно имеет еще и то дурное следствие, что тем самым (раскаявшись) человек считает список своих грехов уничтоженным и таким образом отказывается от стремления сделать себя лучше, которое должно быть вдвое сильнее, как этого требует разум.
§ 63. Один способ удовольствия есть в то же время культура, а именно увеличение способности испытывать еще большее удовольствие; таково удовольствие от наук и изящных искусств. Другой способ – истощение, которое делает нас все менее способными к дальнейшему наслаждению. Каким же путем следует искать удовольствие? Как сказано было выше, основная максима гласит: отмеривать себе такую долю удовольствия, чтобы оно все еще могло увеличиваться. Пресыщенность удовольствием вызывает такое отвратительное состояние, что сама жизнь становится избалованному человеку в тягость, а склонные к истерике женщины изводятся. Молодой человек! (я повторяю) полюби свою работу, отказывайся от наслаждений не для того, чтобы отречься от них совсем, а для того, чтобы, насколько это возможно, всегда иметь их перед собой в перспективе! Не притупляй преждевременно восприимчивости к ним, употребляя их [во зло]. Зрелый возраст, который никогда не знает сожаления об отказе от каждого физического наслаждения, в самом этом самоограничении обеспечит тебе такой капитал для удовлетворенности, который не зависит от случайности или от закона природы.
§ 64. Но мы судим о наслаждении или страдании с точки зрения более высокого удовлетворения или неудовлетворения собой (именно морального): следует ли нам отказываться от них или предаваться им.
1. Предмет может быть приятным, но удовольствие от него может не нравиться. Отсюда выражение горькая радость. Тот, кто, находясь в стесненном положении, получает наследство от своих родителей или от почтенного и доброго родственника, не может избежать чувства некоторой радости по поводу их смерти, но он не должен упрекать себя за это. То же происходит и в душе адъюнкта, который с непритворной печалью следует за гробом своего предшественника, к которому относился с глубоким уважением.
2. Предмет может быть неприятным, но боль, причиняемая им, нравится. Отсюда выражение сладкая боль. Например, когда вдова, оставленная мужем не без средств, не хочет утешиться. Часто это несправедливо истолковывается как аффектация.
С другой стороны, удовольствие может еще и нравиться, а именно – потому, что человек находит удовольствие от таких предметов, заниматься которыми делает ему честь; например, когда увлекаются изящными искусствами вместо того, чтобы предаваться чисто чувственному наслаждению; при этом человек находит удовлетворение еще и в том, что он (как тонкий человек) способен к такому виду наслаждения. Точно так же страдание человека может ему, кроме всего прочего, еще и не нравиться. Всякая ненависть оскорбленного есть страдание; но благомыслящий человек все же не может упрекать себя за то, что даже после того, как получил удовлетворение, в нем все еще остается неприязнь к оскорбителю.
§ 65. Удовольствие, которое достигается своими усилиями (законосообразно), испытывается вдвойне: во‐первых, как выигрыш, и, кроме того, как заслуга (внутреннее сознание, что человек сам его создал). Заработанные деньги доставляют больше удовольствия, по крайней мере оно бывает продолжительнее, чем то, которое дают нам деньги, выигранные в карты или в лотерее; если даже не принимать во внимание общий вред лотереи, в каждом выигрыше заключается нечто такое, чего благомыслящий человек должен стыдиться. Несчастье, в котором виноват кто-нибудь другой, огорчает, но несчастье, в котором человек сам виноват, омрачает и сокрушает.
Но как объяснить или понять то, что при несчастье, которое случилось по вине других, говорят двояко? Так, один из пострадавших говорит: «Я был бы доволен, если бы в этом была хоть малейшая моя вина»; другой говорит: «Мое утешение в том, что в этом нет ни малейшей моей вины». Страдание без вины [страдающего] возмущает, так как это оскорбление со стороны другого. Страдание по своей вине сокрушает, так как оно внутренний укор. Совершенно ясно, что из указанных двух человек второй лучше.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































