Текст книги "Основы метафизики нравственности"
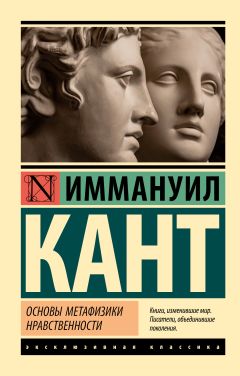
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
О способности предвидения (Praevisio)
§ 35. В этой способности мы заинтересованы больше, чем в какой бы то ни было другой, ибо она условие всякой возможной деятельности и цели, осуществлению которой человек отдает свои силы. Всякое желание содержит в себе (сомнительное или достоверное) предвидение того, чего можно достигнуть своими силами. Мысленно обращаются к прошлому (вспоминают) только с той целью, чтобы таким образом можно было предвидеть будущее, тогда как в настоящее время вообще всматриваются, чтобы принять решение или быть к чему-то готовым.
Эмпирическое предвидение – это ожидание подобных случаев (exspectatio casuum similium); оно не нуждается в основанном на разуме знании причин и действий, а требует только вспоминания замеченных событий в том порядке, как они обычно следуют друг за другом; повторный опыт приучает их к этому. Моряка и земледельца очень интересует вопрос, какова будет погода. Но в этом отношении мы своими предсказаниями достигаем не намного больше, чем так называемые крестьянские календари, предсказания которых хвалят, когда они сбываются, а когда не сбываются, сразу же забывают, и потому они всегда пользуются некоторым доверием. Можно было бы подумать, что провидение умышленно покрыло такой непроницаемой пеленой смену погоды, чтобы людям было нелегко угадать, какие приготовления необходимы для того или иного времени года, и чтобы им приходилось применять рассудок, дабы быть готовыми к любым случаям.
Жить сегодняшним днем (без осмотрительности и забот) – это, правда, делает не много чести рассудку человека. Примером этого может служить караиб, который утром продает свой гамак, а вечером озадачен тем, что не знает, как ему спать этой ночью. Но если при этом нет никаких проступков против морали, то человека, закаленного против всяких случайностей, можно считать более счастливым, чем того, кто мрачным взглядом на будущее отравляет всю радость жизни. Из всех видов на будущее, которые только может иметь человек, самый утешительный, конечно, тот, когда человек в данном моральном состоянии имеет основание надеяться на прочность [своего благополучия] и на дальнейшее движение к еще лучшему. Напротив, если он хотя и мужественно принимает решение начать новую и лучшую жизнь, но ему приходится сказать самому себе: «Ничего из этого не получится, так как ты не раз давал себе такое обещание (откладывая все на завтра) и всякий раз, делая исключение для каждого данного случая, нарушал свое слово», – то это в высшей степени неутешительное состояние – ожидать подобных случаев.
Там, где дело зависит от судьбы, которая тяготеет над нами, а не от применения нашего свободного произвола, предвидение будущего может быть или предчувствием (Ahndung, praesensio), или [35]35
Последнее время хотят видеть различие между Ahnen и Ahnden; однако первое слово не немецкое, и остается только последнее. Ahnden означает то же, что помнить (gedenken). Es ahndet mir значит: нечто смутно проносится в моем воспоминании; etwas afanden значит: поминать кого-то лихом за содеянное им (т. е. его наказывать). Это всегда одно и то же понятие, только по-разному применяемое.
[Закрыть]чаянием (praesagitio). Первое как бы указывает на какое-то скрытое чувство того, что еще не наступило; второе – сознание будущего, порожденное рефлексией о законе последовательности в смене событий (о законе каузальности).
Ясно, что всякое предчувствие есть химера; в самом деле, как можно ощущать то, чего еще нет? Но если это суждения, исходящие из смутных понятий о такой причинной связи, то это не предчувствие; понятия, ведущие к этому, можно развить и объяснить, как это бывает при всяком строго обдуманном суждении. Предчувствия большей частью связаны со страхом; им предшествует тревога, имеющая свои физические причины, причем неясно, что` служит предметом страха. Бывают, однако, и радостные, и смелые предчувствия у фантазеров, когда они чуют близкое открытие тайны, к которой [внешние] чувства человека невосприимчивы, и бывает предчувствие того, что они, как эпопты, ожидают в мистическом созерцании и верят, что оно вот-вот откроется им. К такого рода колдовству относится и второе зрение горных шотландцев, благодаря которому иные из них, как они уверяли, видели повешенным на мачте человека, известие о смерти которого они получили после того, как действительно прибыли в отдаленную гавань.
О даре предсказывания (Facultas divinatrix)
§ 36. Предсказывание, предвещание и прорицание различаются между собой тем, что первое есть (или считается таковым) предвидение по законам опыта (стало быть, естественно), второе – вопреки известным нам законам опыта (противоестественно), а третье есть (или считается таковым) внушение отличной от природы (сверхъестественной) причины, способность которого, поскольку оно проистекает как будто от влияния божества, называется также даром пророчества в собственном смысле (ибо в переносном смысле пророчеством называется каждое остроумное отгадывание предстоящего).
Если о ком-нибудь говорят: он предсказывает ту или эту судьбу, то это может свидетельствовать о вполне естественной способности. Но о том, кто примешивает к этому и сверхъестественную проницательность, следует говорить: он прорицает, как цыгане, вышедшие когда-то из Индии, которые гадание по руке называют чтением по планетам, или астрологи и кладоискатели, к которым надо причислить также и алхимиков. Выше всех их в Древней Греции стояла Пифия, а в настоящее время стоит оборванный сибирский шаман. Предсказания ауспиков и гаруспиков у римлян имели в виду не столько узнавание того, что скрыто в обычном ходе вещей, сколько откровение воли богов, которой они, согласно своей религии, должны были покоряться. Но как это случилось, что поэты также стали считать себя [бого] вдохновенными (или одержимыми) [свыше] и вещими (vates) и могли хвастаться, будто в своем поэтическом неистовстве (furor poeticus) они обладают интуицией (Eingebungen naben), можно объяснить лишь тем, что поэт в отличие от прозаика готовит свою работу второпях и должен ловить благоприятный момент, когда его охватывает внутреннее настроение и непроизвольно наступает прилив живых и сильных образов и чувств, а сам он ведет себя при этом как бы пассивно; ведь недаром существует старая поговорка, что к гениальности примешана некоторая доля безумия. На этом основывается также вера в изречения оракулов, имеющиеся как будто в наугад выбранных отрывках сочинений знаменитых (как бы вдохновленных) поэтов (sortes Virgilianae); это напоминает те сборники назидательных изречений, которые святоши новейшего времени составляют в надежде на то, что посредством их им откроется воля небес, или же толкование сивиллиных книг, которые якобы предвозвестили римлянам судьбу их государства и часть которых они, увы, потеряли из-за своей чрезмерной скупости.
Все прорицания, предвещающие народу неотвратимую судьбу, которую он и заслуживает и которая, стало быть, вызвана его свободным произволом, помимо того, что знать заранее народу бесполезно, так как избежать своей судьбы он не может, нелепы еще и тем, что в этом безусловном роке (decretum absolutum) мыслится некий механизм свободы, понятие о котором противоречит самому себе.
Но верх нелепости или обмана в подобных прорицаниях заключается, пожалуй, в том, что человека помешанного называли провидцем (который видит невидимое), как будто из него говорит дух, который замещает душу, давно покинувшую телесную обитель; а также в том, что бедного душевнобольного (или эпилептика) считали бесноватым (одержимым), и если вселившегося в него демона признавали добрым духом, то такого человека у греков называли мантисом, а толкователя его [изречений] – профетом. Готовы были пускать в ход всякую глупость, чтобы овладеть будущим, предвидение которого имеет для нас столь огромный интерес, и при этом перепрыгнуть все ступени, которые привели бы к будущему посредством разума на основании опыта. О, curas hominum!
Нет другой столь надежной и столь далеко простирающейся науки, предсказывающей будущее, как астрономия, которая на бесконечное время предсказывает движение небесных светил. Но это не могло помешать тому, чтобы к астрономии тотчас же примешалась и мистика, которая стремилась поставить в зависимость не числа мировых эпох от событий, как этого требует разум, а, наоборот, события – от некоторых священных чисел и которая, таким образом, даже хронологию, столь необходимое условие всей истории, превращала в сказку.
§ 37. Исследование того, что такое сон, сновидение, сомнамбулизм (сюда же относится и громкий разговор во сне) по их естественным свойствам, находится вне сферы прагматической антропологии, ведь из этих явлений нельзя извлечь какие-либо правила поведения в состоянии сна; а эти правила имеют значение только для бодрствующего человека, который не хочет сновидений, а хочет спать без всяких мыслей. И приговор того греческого царя, который одного человека, рассказавшего своим друзьям, что он во сне убил царя, присудил к смерти под тем предлогом, что «это бы ему не приснилось, если бы он не замышлял этого наяву», противоречит опыту и жесток. «Когда мы бодрствуем, у нас один мир для всех, а когда мы спим, у каждого свой собственный мир». Сновидение, по-видимому, столь необходимо требуется для сна, что смерть и сон были бы тождественными, если бы сон не сопровождался сновидениями как естественным, хотя и непроизвольным возбуждением внутренних жизненных органов посредством воображения. Так, я очень хорошо помню, как я еще ребенком, когда, утомленный играми, ложился спать и начинал засыпать, видел сон, как будто я упал в воду и кружусь по воде, готовый совсем утонуть; от этого сна я быстро пробуждался, чтобы вскоре заснуть снова и спокойнее; это бывало, вероятно, потому, что деятельность грудных мышц при дыхании, полностью зависящем от нашей воли, была ослаблена и таким образом от задержки дыхания было затруднено движение сердца, тем самым должно было снова вступить в действие воображение во сне. Сюда же относится благотворное действие сновидений при так называемом кошмаре (incubus). В самом деле, без этого страшного представления о душащем нас призраке и без напряжения всей мышечной силы для того, чтобы принять другое положение, остановка кровообращения могла бы быстро положить конец [нашей] жизни. Кажется, именно поэтому природа устроила так, чтобы большей частью нам снились тяжелые сны, полные опасностей: такие представления сильнее возбуждают душевные силы, чем тогда, когда все совершается по нашему желанию и нашей воле. Часто мы видим во сне, что не можем стать на ноги, или заблудились, или запнулись и остановились во время проповеди, или по забывчивости вместо парика надели ночной колпак и в таком виде появились в обществе, или можем летать по воздуху как нам вздумается, или пробуждаемся с веселым смехом, сами не зная почему. Конечно, никогда не удастся объяснить, как это случается, что во сне мы часто переносимся в давно прошедшее время, ведем разговоры с давно умершими людьми; нам хочется как будто считать это сном, и все же что-то заставляет нас признать эти грезы действительностью. Но одно можно считать несомненным: не может быть сна без сновидения, а тот, кто полагает, будто ему ничего не снилось, только позабыл свои сновидения.
§ 38. Способность познания настоящего как средство соединения представлений о предвидимом с прошедшим есть способность обозначения. Действие души по осуществлению этого соединения есть обозначение (signatio); оно называется также сигнификацией (Signalieren), бо`льшую степень которой называют отличением.
Образы вещей (созерцания), поскольку они служат средством представления через понятия, суть символы, а познание через них называется символическим или образным (speciosa). Знаки еще не символы, ведь они могут быть и чисто опосредствованными (косвенными) приметами, которые сами по себе ничего не значат и только присовокуплением приводят к созерцаниям, а через созерцания к понятиям; поэтому символическое познание следует противопоставлять не интуитивному, а дискурсивному познанию, в котором знак (character) сопровождает понятие только как страж (custos), чтобы при случае воспроизводить его. Таким образом, символическое познание противоположно не интуитивному (через чувственное созерцание), а интеллектуальному (через понятия). Символы суть только средство рассудка, но средство косвенное, через аналогию с теми или иными созерцаниями, к которым могут быть применены понятия рассудка, чтобы с помощью изображения предмета придать понятию значение.
Тот, кто может выражаться только символически, имеет еще мало рассудочных понятий, а столь часто приводящая в восхищение живость изображения в речи дикарей (иногда и мнимых мудрецов в неразвитом еще народе) – это только признак бедности в отношении понятий, а потому и в отношении слов для выражения понятий; например, когда дикарь в Америке говорит: «Мы хотим зарыть боевой топор», то это означает: «Мы хотим заключить мир»; и действительно, все древние певцы от Гомера до Оссиана или от Орфея до пророков блеском своего изложения обязаны лишь недостаточности средств для выражения своих понятий.
Выдавать (вместе со Сведенборгом) действительные, данные нашим [внешним] чувствам явления в мире только за символ умопостигаемого мира, скрытого по ту их сторону, – значит впадать в мистику. Но в изображении понятий (называемых идеями), которые относятся к моральности, составляющей суть всякой религии, стало быть [относятся] к чистому разуму, отличать символическое от интеллектуального (богослужение от религии), полезную и необходимую, правда в течение некоторого времени, оболочку от сущности дела – значит просвещать; иначе идеал (чистого практического разума) подменяется идолом, а конечная цель не достигается. Бесспорно, все народы мира начали с этой подмены, и если дело идет о том, что сами их учители, составляя свои священные писания, действительно думали, что эти писания следует истолковывать не символически, а буквально, было бы нечестно искажать смысл их слов. Но если дело идет не только о правдивости учителя, но также и главным образом об истине учения, то можно и должно толковать это учение как чисто символический способ представления сопровождать эти идеи установленными формальностями и обычаями; иначе их интеллектуальный смысл, составляющий конечную цель, был бы утрачен.
§ 39. Знаки можно делить на произвольные знаки (умения), естественные знаки и знамения.
А. К первым относятся: 1) знаки жестов (мимические, которые отчасти бывают и естественными); 2) письменные знаки (буквы – знаки для звуков); 3) музыкальные знаки (ноты); 4) знаки, условно принятые отдельными людьми и предназначенные только для зрения (цифры); 5) знаки [отличия] сословий у свободных людей, пользующихся наследуемыми привилегиями (гербы); 6) служебные знаки форменной одежды (мундир и ливрея); 7) знаки отличия по службе (орденские ленты); 8) знаки позора (клеймо и т. п.). Сюда же относятся запятые, точки, знаки вопроса или аффекта, удивления (знаки препинания) в написанном.
Каждый язык есть обозначение мыслей, и, наоборот, самый лучший способ обозначения мыслей есть обозначение с помощью языка, этого величайшего средства понять себя и других. Мыслить – значит говорить с самим собой (индейцы на Таити называют мышление речью в животе), значит внутренне (через репродуктивное воображение) слышать себя самого. Для глухого от рождения его речь есть ощущение игры его губ, языка и подбородка, и вряд ли можно представить себе, чтобы разговор его был чем-то бо`льшим, нежели игра телесными чувствами; при этом он не имеет и не мыслит понятий в собственном смысле слова. Но и те, кто может и говорить, и слышать, не всегда поэтому понимают себя или других; именно отсутствием способности обозначения или ее ошибочным применением (так как знаки принимаются за вещи, и наоборот), особенно в делах разума, объясняется то, что люди, говорящие на одном и том же языке, бесконечно далеки друг от друга по понятиям; а это обнаруживается только случайно, когда каждый начинает действовать по своему собственному понятию.
В. Во-вторых, что касается естественных знаков, то с точки зрения времени знаки относятся к обозначаемым вещам или как демонстративные, или как напоминающие, или как прогностические.
Удары пульса обозначают для врача лихорадочное состояние пациента в настоящее время, как дым свидетельствует об огне. Реактивы позволяют химику обнаружить вещества, скрыто находящиеся в воде, так же как флюгер показывает направление ветра и т. д. Но свидетельствует ли румянец об осознании виновности или, скорее, о тонком чувстве чести, вызванном уже одним лишь предположением о чем-то таком, чего следует стыдиться, – это во многих случаях неизвестно.
Курганы и мавзолеи – это знаки увековечения памяти усопших, так же как пирамиды – вечной памяти о прежнем могуществе того или иного царя. Слои, содержащие раковины в местностях, расположенных далеко от моря, или щели камнеточцев на высоких Альпах, или вулканические остатки там, где ныне из земли не вырывается никакого огня, обозначают для нас прежнее состояние мира и дают основу для археологии природы, правда, не с такой наглядностью, как зарубцевавшиеся раны воина. Развалины Пальмиры, Бальбека и Персеполя – это красноречивые памятники искусства древних царств и печальные признаки смены всех вещей.
Прогностические знаки интересуют нас больше всех других, так как в цепи изменений настоящее есть лишь один миг, а определяющее основание способности желания принимает в соображение настоящее только ради будущих последствий (ob futura consequentia) и обращает внимание главным образом на эти последствия. Самые верные прогнозы будущих событий в мире дает астрономия; но она бывает ребяческой и фантастичной, если фигуры и сочетания звезд и перемены в положении планет рассматриваются как аллегорические письмена на небе, по которым можно предсказывать судьбу человека (в astrologia iudiciaria).
Естественные прогностические знаки предстоящей болезни, или выздоровления, или (как facies Hippocratica) близкой смерти суть явления, которые, будучи основаны на продолжительном и многократном опыте, могут служить врачу руководством в способе лечения, если усматривается связь между ними как причинами и действиями; таково, [например], состояние кризиса. Но гадания авгуров и гаруспиков, практиковавшиеся римлянами в политических целях, были только проявлением освященного государством суеверия, для того чтобы повелевать народом в моменты опасности.
С. Что же касается знамений (событий, в которых извращается природа вещей), то кроме таких, которым в настоящее время уже не придают значения (рождение уродов у людей и животных), знаки и знамения на небе, кометы, светящиеся шары, мелькающие высоко в небе, северное сияние, даже солнечное и лунное затмения, особенно когда многие из таких знамений происходят в одно и то же время или сопровождаются войной, чумой и т. п., в прежнее время казались испуганной черни предвещающими близость дня Страшного суда и конец мира.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Стоит еще здесь остановиться на странной игре воображения с людьми, когда они смешивают знаки с вещами, усматривая в знаках внутреннюю реальность, как если бы предметы должны были сообразоваться со знаками. Так как путь луны делится на четыре фазы (новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть) и в целых числах он с наибольшей точностью может быть определен в 28 дней (поэтому и зодиак у арабов распределялся по 28 домам луны), четверть которых составляет 7 дней, – то ввиду этого число 7 получило мистическое значение, так что и сотворение мира должно было сообразоваться с этим числом особенно потому, что (по системе Птолемея) считалось, что имеется 7 планет, так же как 7 звуков в гамме, 7 простых цветов в радуге, 7 металлов. Отсюда же возникли и семилетия (7 × 7 и, так как у индейцев число 9 также мистическое, 7 × 9, равно и 9 × 9), по истечении которых человеческая жизнь находится якобы в большой опасности; поэтому 70 семилетий (490 лет) в иудейской и христианской хронологии не только составляют период важнейших перемен (между призванием богом Авраама и рождением Христа), но и как бы a priori определяют с полной точностью исторические периоды, как будто не хронология должна сообразоваться с историей, а, наоборот, история с хронологией.
Но и в других случаях установилась привычка ставить вещи в зависимость от цифр. Если врач, которому пациент посылает вознаграждение через своего слугу, обнаружит в пакете 11 дукатов, он заподозрит этого слугу в том, что тот утаил один дукат, ибо почему же нет полной дюжины? Если кто-нибудь на аукционе покупает фарфоровый сервиз, то он предложит меньше, если в сервизе не будет полной дюжины; а если в нем окажется тринадцать тарелок, то тринадцатую он будет ценить лишь постольку, поскольку у него есть уверенность, что, если одна тарелка разобьется, в сервизе все же будет дюжина их. Но так как гостей не приглашают дюжинами, то какой смысл отдавать предпочтение именно этому четному числу? Один человек завещал своему двоюродному брату 11 серебряных ложек и прибавил в завещании: «Он сам прекрасно знает, почему я не завещаю ему двенадцатой» (этот беспутный малый однажды за столом своего родственника тайком положил одну ложку в карман, что` хозяин отлично заметил, но в то время не захотел пристыдить его). При вскрытии завещания можно было легко догадаться, что`, собственно, хотел сказать завещатель, но только потому, что распространен предрассудок, что полное число – дюжина. Такое же мистическое значение приобрели и 12 знаков зодиака (не по аналогии ли с этим числом в Англии выбирается 12 судей?). В Италии, Германии, а может быть, и в других странах [иметь] 13 гостей за столом считается чем-то зловещим, поскольку полагают, что кто-нибудь из них должен умереть именно в этом году, так же как за судейским столом, где заседают 12 судей, 13-м может быть только подсудимый, которого следует судить. (Мне однажды самому пришлось сидеть за таким столом, где хозяйка дома, приглашая гостей садиться, заметила это мнимое зло и, дабы не испортить хорошее настроение гостей, потихоньку распорядилась, чтобы ее сын встал из-за стола и обедал в другой комнате.) Даже одна лишь величина чисел, если имеется достаточное количество вещей, которые они обозначают, возбуждает удивление только потому, что она не доведена до круглой цифры десятичной системы (значит, произвольно принятой). Так, китайский император, говорят, имеет флот из 9999 кораблей, и каждый, узнав об этом, втайне сам себя спрашивает: а почему не на один больше? Правда, на этот вопрос можно было бы ответить просто: потому что этого числа кораблей достаточно для его потребностей. Но вопрос, в сущности, не имеет в виду эти потребности, а имеет в виду только некоторого рода мистику чисел. Еще хуже бывает, но нередко, когда кто-нибудь, скупостью и обманом скопив себе состояние в 90 000 талеров, не может успокоиться до тех пор, пока не доведет его до 100 000 талеров, хотя и не использует их, и из-за этого, быть может, если и не попадет на виселицу, то по крайней мере вполне заслужит ее.
До какого только ребячества не доходит человек даже в зрелом возрасте, когда он находится на поводу у чувственности! Посмотрим теперь, насколько было бы лучше, если бы он шел дорогой, освещенной рассудком.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































