Текст книги "Основы метафизики нравственности"
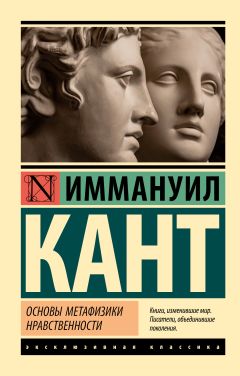
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
§ 78. Аффекты гнева и стыда имеют ту особенность, что они сами себя ослабляют в отношении своей цели. Они суть внезапно возбуждаемые чувства беды как оскорбления, которые, однако, будучи безудержными, делают человека бессильным предотвратить эту беду.
Кого надо больше бояться – того ли, кто в сильном гневе бледнеет, или того, кто при этом краснеет? Первого надо бояться сразу, а второго – и еще больше – потом (из-за жажды мести). В первом состоянии человек, потерявший самообладание, опасается, как бы не дать увлечь себя вспыльчивостью и не пустить в ход насилие, в чем впоследствии, быть может, он раскается. Во втором страх внезапно переходит в опасение того, не станет ли заметным сознание его неспособности к самозащите. Оба эти аффекта, если они найдут выход в быстром возвращении самообладания, не вредны для здоровья; если же нет, то они отчасти опасны даже для жизни, а отчасти (когда разрядка их задерживается) оставляют после себя злобу, т. е. чувство обиды оттого, что не рассчитались как следует за оскорбление; но этого можно избежать, если имеется возможность высказаться. Но оба аффекта таковы, что делают человека немым, и потому представляются в невыгодном свете.
От вспыльчивости можно отучиться с помощью внутренней дисциплины души; но не так-то легко устранить слабость – слишком нежное чувство чести – в стыдливости. Ибо, как говорит Юм (который сам отличался этой слабостью, а именно стеснялся говорить в обществе), первая попытка решиться, если только она не удается, делает человека еще более застенчивым; и в таких случаях имеется одно лишь средство: начиная с общения с людьми, мнением которых о приличии не дорожат, постепенно отказываться от мысли, будто важно мнение других о нас, и внутренне считать себя в этом отношении равноценным с ними. Привычка к этому приводит к откровенности, которая одинаково далека и от застенчивости, и от оскорбительной дерзости.
Правда, мы сочувствуем стыдливости других как страданию; но нам не нравится их гнев, когда они рассказывают нам о побуждении к нему, находясь в состоянии этого аффекта; ведь перед теми, кто гневается, не находятся в безопасности и те, кто слушает их рассказ (о нанесенном оскорблении).
Удивление (замешательство от какой-то неожиданности) – это такое возбуждение чувства, которое сначала задерживает естественную игру мысли и потому бывает неприятным, но зато потом содействует приливу мыслей для неожиданных представлений и потому становится приятным; изумлением же этот аффект называется, собственно, только тогда, когда при этом начинают сомневаться, было ли это восприятие наяву или во сне. Новичок в обществе удивляется всему; но тот, кто на основе длительного опыта уже знает обычный ход вещей, делает себе принципом правило ничему не удивляться (nihil admirari). Тот же, кто пытливым взором вдумчиво изучает порядок природы в ее великом многообразии, приходит в изумление, видя мудрость, которой он не ожидал; это – восхищение, от которого нельзя освободиться (нельзя достаточно надивиться); но этот аффект возбуждается тогда только разумом и представляет собой своего рода священный трепет, который испытывают, когда перед зрителем разверзается бездна сверхчувственного.
Об аффектах, при помощи которых природа механически содействует здоровью§ 79. Природа механически содействует здоровью при помощи некоторых аффектов. Сюда главным образом относятся смех и плач. Гнев, когда (не опасаясь сопротивления) можно хорошенько выбраниться, также достаточно верное средство для пищеварения; у некоторых хозяек не бывает других душевных движений, кроме ругани в адрес детей и прислуги, и если дети и прислуга относятся к этому достаточно терпеливо, то по телу равномерно распространяется приятная усталость жизненной силы; но это средство не лишено опасности, поскольку вполне возможно сопротивление со стороны домочадцев.
Добродушный же (не злобный, не связанный с горечью) смех приятнее и полезнее; он именно то, что следовало бы порекомендовать персидскому царю, который назначил награду тому, «кто придумает какое-нибудь новое удовольствие». Происходящее толчками (как бы судорожно) выдыхание воздуха (чихание есть только небольшой, но оживляющий эффект такого выдыхания, если его звук раздается не задерживаясь) укрепляет чувство жизненной силы благодаря полезному движению диафрагмы. Пусть это будет наемный шут (арлекин), который заставляет нас смеяться; или же принятый в общество друзей лукавый плут, который как будто ничего дурного на уме не имеет, но хитрит и не смеется вместе с другими, а с притворной наивностью внезапно разрешает напряженное ожидание (как натянутую струну), – смех всегда есть вибрация мускулов, которая способствует пищеварению гораздо больше, чем мудрость врача. Но и большая нелепость ошибающейся способности суждения может произвести точно такое же действие, конечно, за счет мнимого умника.[49]49
Примеров последнего множество. Но я здесь хочу привести только один со слов покойной графини К-г – дамы, которая была украшением своего пола. Когда граф Саграмозо, которому тогда было поручено создать Мальтийский орден в Польше, сделал ей визит, у нее случайно был один магистр, родом из Кенигсберга, но нанятый в Гамбурге некоторыми богатыми купцами-любителями в качестве собирателя естественно-научных коллекций и хранителя их и посещавший своих родственников в Пруссии. Граф, чтобы как-то начать разговор, сказал ему на ломаном немецком языке: «Ick abe in Ainburg eine Ant geabt (В Гамбурге у меня была тетка), aber die ist mir gestorben». Магистр на лету подхватил это слово и спросил: «Почему же вы не содрали с нее шкуру и не набили ее?» Английское слово Ant, которое означает «тетка», он принял за немецкое Ente – «утка», и так как ему показалось, что она должна быть большой редкостью, очень пожалел о такой потере. Можно себе представить, какой смех вызвало это недоразумение!
[Закрыть]
Плач – происходящее со всхлипыванием (конвульсивное) вдыхание воздуха, связанное с проливанием слез, – точно так же есть проявление заботливости природы о здоровье, будучи смягчающим боль средством; вдова, которая, как говорят, не может утешиться, т. е. никак не может удержать свои слезы, заботится, не зная и, собственно, не желая этого, о своем здоровье. Гнев, который был бы вызван в этом состоянии, мог бы помешать этому излиянию, но к ее собственному вреду, хотя не всегда одно горе, но и гнев может доводить женщин и детей до слез. В самом деле, чувство своего бессилия перед бедой при сильном аффекте (все равно, будет ли это аффект гнева или печали) призывает на помощь те внешние естественные признаки, которые (по праву более слабого) по крайней мере обезоруживают мужскую душу. Это выражение нежности как слабость пола должно доводить участливого мужчину не до плача, а только до слез на глазах, ибо в первом случае он бы сделал промах против своего собственного пола и таким образом со своей женской слабостью не мог бы служить более слабой стороне защитой; а во втором не доказал бы своего сочувствия к другому полу, которое вменяется ему в обязанность как принадлежащему к мужскому полу, т. е. не взял бы его под свою защиту, как этого требует тот характер, который рыцарские книги предписывают храброму человеку и который усматривается именно в таком заступничестве.
Но почему молодые люди больше любят в театре трагедии и охотнее исполняют их, когда хотят своим родителям устроить праздник, а старики предпочитают комедии вплоть до фарса? Причина этого у первых отчасти та же, которая побуждает детей опасно шалить, по-видимому из-за инстинкта природы, чтобы испытать свои силы, а отчасти и потому, что при легкомыслии молодости по окончании пьесы не остается никакого горького осадка от щемящих душу или ужасающих впечатлений; после сильного внутреннего движения остается приятная усталость, вновь располагающая к веселью. У стариков же эти впечатления изглаживаются не так легко, они не могут так легко вызывать у себя снова веселое настроение. Арлекин с его бойким остроумием производит своими выдумками благотворное потрясение диафрагмы и внутренностей, что усиливает аппетит для следующего за этим ужина в обществе и содействует хорошему пищеварению.
ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Некоторые внутренние телесные чувства родственны аффектам, но все же не аффекты, так как лишь мгновенны, проходят скоро и не оставляют после себя никакого следа; таково ощущение ужаса, которое охватывает детей, когда они слушают рассказы нянек о привидениях. Сюда же относится дрожь – ощущение, подобное тому, какое бывает, когда человека вдруг обливают холодной водой (например, при проливном дожде). Не усмотрение опасности, а одна лишь мысль об опасности, хотя бы и знали, что никакой опасности нет, производит подобное ощущение, которое, если оно только мгновенное переживание, а не проявление испуга, бывает, по-видимому, не неприятным.
Головокружение и даже морская болезнь по своей причине, как кажется, относятся к разряду таких же воображаемых (ideale) опасностей. По доске, которая лежит на земле, легко пройти, не шатаясь; но если доска лежит над пропастью или даже просто над канавой, то часто уже один страх перед опасностью становится у слабонервных действительно опасным. Килевая качка корабля даже при слабом ветре – это попеременное движение вниз и вверх. При опускании его вниз естественно стремление подняться вверх (ибо всякое опускание вообще возбуждает представление об опасности), стало быть, движение желудка и кишок снизу вверх механически связано с позывом к рвоте, который усиливается, когда страдающий [морской болезнью] смотрит из каюты в окошко и видит то небо, то волны, отчего еще больше усиливается обманчивое ощущение, будто сиденье из-под него ускользает.
Актер, который, оставаясь холодным, обладает лишь рассудком и сильно развитым воображением, может посредством аффектированного (наигранного) аффекта тронуть гораздо сильнее, чем посредством настоящего аффекта. Действительно влюбленный человек в присутствии любимой смущается, становится неловким и малопривлекательным. Но тот, кто только притворяется влюбленным и еще обладает талантом, может играть свою роль настолько естественно, что легко заманивает в свою ловушку бедную обманутую женщину именно потому, что его сердце не затронуто, голова ясна и, следовательно, он в состоянии совершенно свободно применять всю свою ловкость и свои силы для того, чтобы вполне естественно изображать влюбленного.
Добродушный (искренний) смех (как относящийся к аффекту веселья) содействует общительности; злобный смех (зубоскальство) враждебен [общению]. Рассеянный человек (как, например, Террасон с ночным колпаком на голове вместо парика и со шляпой под мышкой, когда он торжественно вступает в спор о преимуществах древнего и нового мира в области науки) часто дает повод к добродушному смеху; над ним смеются, но его не высмеивают. Чудак, не лишенный ума, часто становится предметом подобного смеха, хотя это ему ничего и не стоит: он смеется вместе с другими. Тот, кто смеется механически (глупо), пошл и удручает всех своей тривиальностью. Тот, кто не смеется в обществе, либо человек угрюмый, либо педант. Дети, особенно девочки, должны быть рано приучены к откровенному, непринужденному смеху, ибо происходящее при нем просветление лица постепенно отпечатывается в душе и создает основу для расположения к веселости, дружелюбию и общительности; а это заблаговременно подготовляет к добродетели благоволения.
Иметь кого-нибудь в обществе мишенью для острот (подтрунивать над кем-нибудь) без колкости (для насмешки без язвительности), против которых этот другой в свою очередь достаточно вооружен и таким образом всегда готов внести в общество веселый смех, – это добродушное и вместе с тем культурное развлечение для общества. Но если это делается за счет какого-нибудь простака, которым, как мячиком, перебрасываются, то этот смех как злорадный по крайней мере не деликатен, и если предметом его служит какой-нибудь прихлебатель, который ради того, чтобы покутить, позволяет другим насмехаться над собой и делать из себя шута, то это признак и дурного вкуса, и притупленного морального чувства у тех, кто может смеяться над ним во все горло. Но положение придворного шута, который ради лучшего пищеварения высочайшей особы должен за столом рассмешить ее, говоря колкости знатным гостям, – такое положение выше или ниже всякой критики, кто как понимает.
О страстях§ 80. Субъективная возможность возникновения того или иного желания, которое предшествует представлению о его предмете, – это наклонность (propensio). Внутреннее принуждение способности желания к обладанию этим предметом еще до того, как его знают, – это инстинкт (как, например, половой инстинкт или побуждение животного к защите своих детенышей и т. п.). Чувственное желание, ставшее для субъекта правилом (привычкой), называется склонностью (inclinatio). Склонность, которая мешает разуму при том или ином выборе сравнить ее с суммой всех других склонностей, – это страсть (passio animi).
Нетрудно понять, что страсти – поскольку они не исключают возможности самого спокойного размышления и, значит, не обязательно такие необдуманные, как аффекты, а потому не бывают ни бурными, ни преходящими, а вкореняются глубоко и даже могут сочетаться с умничаньем – в высшей степени стесняют свободу; и если аффект – это хмель, то страсть – это болезнь, которая гнушается всеми целебными средствами, и потому она гораздо хуже, чем все преходящие душевные движения, которые по крайней мере возбуждают намерение исправиться; страсть же – такое ослепление, которое исключает даже возможность исправления.
Страсть обозначают в немецком языке словом Sucht (Ehrsucht, Rachsucht, Herrschsucht и т. п.); она не сводится, если не считать страсть любви, к влюбленности (Verliebtsein). Причина этого в том, что если последнее желание (через чувственное наслаждение) удовлетворено, то оно, по крайней мере по отношению к тому же лицу, прекращается, стало быть, представить как страсть можно страстную влюбленность (до тех пор, пока другая сторона не отвечает взаимностью), но не физическую любовь, так как по отношению к объекту она не имеет в себе постоянного принципа. Страсть всегда предполагает максиму субъекта: поступать соответственно цели, предписываемой ему склонностью. Следовательно, она всегда связана с разумом субъекта, и потому нельзя животным приписывать страсти, так же как и чистым разумным существам. Честолюбие, жажда мести и т. д. именно потому, что они никогда не могут быть полностью удовлетворены, причисляются к страстям как болезни, против которых имеются лишь паллиативные средства.
§ 81. Страсти – это раковая опухоль для чистого практического разума и в большинстве случаев неизлечимы, так как больной не желает исцелиться и отказывается от господства принципа, с помощью которого только и возможно исцеление. И в сфере чувственно-практического разум идет от общего к особенному по принципу: не позволять в угоду одной склонности все другие оставлять в тени или отодвигать их, а стараться, чтобы ее можно было совместить с суммой всех склонностей. Пусть честолюбие человека будет даже направлением его склонности, одобренным разумом, но честолюбец хочет, чтобы его и любили, нуждается в приятном общении с другими, в сохранении своего имущества и во многом другом. Если же он страстно честолюбив, то не видит этих целей, к которым его зовут в то же время его склонности, и не замечает, что другие его ненавидят или избегают общения с ним, или что траты могут его сделать нищим. Все это для него не существует. Это глупость (часть своей цели принимать за всю цель), которая прямо противоречит разуму даже в его формальном принципе.
Поэтому страсти не только подобно аффектам несчастные душевные расположения, чреватые многими бедами, но и все без исключения злые расположения души; и даже самые благие желания, если они имеют в виду то, что (по материи) относится к добродетели, например благотворительность, как только превращаются в страсть, становятся (по форме) не только пагубными в прагматическом отношении, но и морально дурными.
От аффекта человек теряет свою свободу и власть над собой только на мгновение. Страсть вообще отказывается от них и находит свое удовольствие и удовлетворение в рабском духе. А так как разум с его призывом к внутренней свободе все же не ослабевает, то несчастный томится в своих цепях, от которых он тем не менее не может освободиться, ибо они как бы срослись с его телом.
Несмотря на это, страсти нашли своих панегиристов (ибо где их не бывает, если в принципах дается место даже злобе?). Говорят, что «ничто великое в мире не совершается без пылких страстей и что само провидение мудро укоренило их в человеческой природе в качестве движущей силы». Относительно некоторых склонностей это, пожалуй, верно, а именно относительно тех склонностей, без которых живая природа (даже природа человека) не может обойтись как без естественных и животных потребностей. Но провидение не желало, чтобы они могли стать и тем более чтобы они стали страстями, и можно еще простить поэту, когда он хочет представить их с такой точки зрения (а именно сказать вместе с Попом: «Если разум – магнит, то страсти – ветер»), но философ не должен допускать этот принцип сам по себе даже для того, чтобы прославлять страсти как временное устройство провидения, которое оно вложило в человеческую природу преднамеренно, до того как человеческий род достигнет надлежащей степени культуры.
Деление страстейОни делятся на страсти естественной (прирожденной) склонности и на страсти склонности, возникающей из культуры человека (благоприобретенной склонности).
Страсти первого рода – это жажда свободы и половое влечение, связанные с аффектом. Страсти второго рода – это честолюбие, властолюбие и корыстолюбие, связанные не с буйством аффекта, а с твердостью максимы, рассчитанной на определенную цель. Первые можно назвать пламенными (passiones ardentes), a вторые, как скупость, – холодными страстями (frigidae). Но все страсти всегда желания, обращенные от человека к человеку, а не к вещам; плодородное поле или плодовитую корову можно любить, чтобы использовать их, но нельзя чувствовать к ним расположение (которое состоит в склонности к общению с другими), а тем более страсть.
О жажде свободы как страсти
§ 82. Это самая сильная страсть из всех у близкого к природе человека в том состоянии, когда он не может избежать столкновения своих притязаний с притязаниями других.
Тот, кто может быть счастливым только по выбору другого (при всем благоволении этого другого), с полным основанием чувствует себя несчастным. В самом деле, может ли он быть уверен, что суждения этого его могущественного ближнего о благе совпадают с его личным суждением? Дикарь (который еще не привык покоряться) не знает большего несчастья, чем это состояние покорности, – и он вполне прав, пока его не защищает никакой публичный закон, – и только дисциплина постоянно приучает его терпеть такое состояние. Отсюда его постоянные войны, имеющие целью держать других по возможности дальше от себя и жить одиноко в пустынных местах. Даже ребенок, который только что покинул материнское чрево, в отличие от всех животных вступает в мир с громким криком как будто только потому, что свою неспособность пользоваться своими членами он рассматривает как принуждение и таким образом тотчас же возвещает свое притязание на свободу (о которой никакое другое животное не имеет представления). Народы-кочевники[50]50
Лукреций как поэт иначе выражает это в самом деле удивительное явление в царстве животных:
Vagituque locum lugubri complet, ut aequumst
Cui tantum in vita restet transire malorum!
(И плач заполняет место скорби, чтобы он мог быть равен тому, что осталось только в жизни, чтобы преодолеть зло. (лат.))
Конечно, новорожденный не может иметь перед собой такие виды; но то, что чувство неуютности вызвано в нем не телесной болью, а смутной идеей (или аналогичным с ней представлением) о свободе и об ограничении ее, т. е. о несправедливости, обнаруживается в том, что через несколько месяцев после рождения его крик сопровождается слезами; а это указывает на некоторого рода чувство горечи, когда он старается приблизиться к тому или иному предмету или вообще лишь что-то изменить в своем состоянии и чувствует, что ему в этом что-то мешает. Это стремление иметь свою волю и все, что препятствует ей, рассматривать как обиду, особенно выражается в тоне ребенка и показывает нечто вроде злости, за которую мать считает себя вынужденной его наказывать, но ребенок обычно отвечает на это еще более громким криком. То же самое бывает, когда ребенок падает по своей собственной вине. Детеныши животных играют, а дети людей очень рано начинают ссориться друг с другом; и создается впечатление, будто некоторое понятие о праве (относящееся к внешней свободе) развивается в человеке вместе с животным началом, а не усваивается постепенно.
[Закрыть], не будучи (как пастушеские народы) привязаны к определенному месту, например арабы, столь крепко держатся своего образа жизни, хотя он не полностью свободен от принуждения, и при этом проникнуты столь сильным духом презрения к оседлым народам, что неразрывно связанные с их образом жизни трудности не могли в течение тысячелетий заставить их отказаться от него. Народы, занимающиеся только охотой (такие, как оленьи тунгусы), обособленные от родственных им племен, это чувство свободы действительно облагородило. Таким образом, не только понятие свободы под моральными законами возбуждает аффект, который называется энтузиазмом, но и чисто чувственное представление о внешней свободе возвышает (через аналогию с понятием права) склонность сохранять это состояние или расширять его до сильной страсти.
Даже самая сильная склонность животных (например, к совокуплению) не называется страстью, ибо у них нет разума, который один только обосновывает понятие свободы и в столкновение с которым вступает страсть; стало быть, только у человека бывают страсти. Хотя говорят о людях, что они страстно любят те или иные вещи (например, пьянство, игру, охоту) или страстно их ненавидят (например, мускус, водку), но эти различные склонности или антипатии не называют страстями, так как они не более как различные инстинкты, т. е. различные чисто пассивные [явления] в способности желания, и поэтому их следует классифицировать не по объектам способности желания как вещам (которых бесчисленное множество), а по принципу, согласно которому люди взаимно используют свою личность и свою свободу или злоупотребляют ими, когда человек делает другого человека только средством для своей цели. Страсти имеют своим объектом, собственно, только людей и могут найти свое удовлетворение только через них.
Эти страсти – честолюбие, властолюбие, корыстолюбие.
Так как они склонности, направленные только на обладание средствами для того чтобы удовлетворить все склонности, которые непосредственно касаются цели, то в этом смысле они имеют сходство с разумом, а именно подражают идее о связанной со свободой способности, благодаря которой только и можно вообще достигнуть цели. Обладание средствами для любого намерения простирается, конечно, гораздо дальше, чем на влечение, направленное на удовлетворение одной склонности. Их можно поэтому назвать также склонностями иллюзии, которая состоит в том, что мнение других о ценности вещей отождествляют с действительной ценностью этих вещей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































