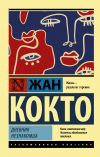Текст книги "Homo Homini"

Автор книги: Иван Ермолаев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Рерих
Бирюза и настойка пиона – Земля,
Торф и жжёная умбра – Небо,
Часовые на линии горизонта –
Пепел и розовая пастель.
Облака суть не более чем симиляр
Кип бумаг и сугробов снега –
Если Бог есть Любовь, а жизнь – это сон, то
Облако выглядит как постель.
Диоскуры – Луна и Земля, гора с
Рекой – Пилат и Афраний,
Под увядшей звездой и под каждым камнем
Прячутся Нестор и Карамзин;
Кто из вас тут до завтра дожить горазд? –
Молчи, не звука охране! –
Если туча пройдёт, мы ко сну не канем –
Лужи окрасятся в кармазин.
Марганцовая дымка до снежных вершин,
А теллуровый снег до самых
Требников на перекрёстках мандалы
И пустопорожних Ковшей…
Но когда вам приснится – режим несвержим, -
Просыпайтесь в своих дацанах:
Друзьям Даниила ставят мангалы,
Берег Леты полн камышей.
Ржавчина скоро покроет листы дерев
И цилиндр потеснит котелок в моторе…
Правду – игле и ногтю, стихи – куплетам,
Раздари друзьям наших слуг;
Во избежание казусов протерев
Подоконник с выходом на крематорий,
Укрываясь от мира верблюжьим пледом,
Читай мне Булгакова вслух.
Времена года
В окно глядела вьюга-Гжель. Заснеженный асфальт
Ловил белёсых блох и вшей. – «Осаль меня, осаль!» –
Венера выла в темноту дворецкому Творца.
Я наблюдал их tea-for-two с холодного крыльца.
Собачий хлад себе возьми крысиныя возни,
А мне оставь цветные сны весёлыя весны.
Кряхтит на кочке коростель, нацелясь на хурму.
Я умираю на кресте и вскорости умру.
Но грянет лето. Воскрешён, я приглашён в ваш дом.
И вот я пью у вас крюшон, листая «Тихий Дон».
Как хороша в июльский зной река Самбатион!
Начнётся август сам не свой. Потом пройдёт и он.
Спадёт жара. Подует бриз. Меня начнёте звать
На семь по меньшей мере из четырнадцати свадьб.
Невеста плакала в фату, жених был бел, как мел.
Я ихний тихий tea-for-two без умысла сумел
Пересобачить в день забот. Но холодно весьма –
И Рождество, и Новый год, и новая зима.
Замах стеклянного меча, хрустальная блесна.
А следом – чача, ча-ча-ча и Вечная Весна.
Ганг
Калейдоскопы
Твоих глаз
Бередят мандариновую траву
На берегах Ганга;
И пироскафы
Смотрят на нас,
Ищут лаз
Степлер и скобы
Там, где больше шума и гама.
В твоей артерии кровь и алкоголь с глицерином.
Вода – только микстура против
Поверхностного атеизма, ведь глянь – цари в нём
Сажают на противень.
Но это пройдёт, несмотря, что под
Прахом Джорджа вырос табак,
Коровы пожрали лотосы, пот
Градом. Пройдёт, так как
Хотя пироскафы
Смотрят на нас,
Ищут лаз
Степлер и скобы
Там, где больше шума и гама;
Калейдоскопы
Твоих глаз
Бередят мандариновую траву
На берегах Ганга.
Харе весна. Харе осень, зима и лето.
Ом мани падме хум.
Я никогда не познаю и не перелюблю это.
Устья сообщены от мантры к стиху,
И никто не спросит – кто автор,
Не ужаснётся – где ватты.
Энергия и я
идём по воде, как восьмой аватар,
Сидим в лотосе, как девятый.
Adagio
Стол под открытым небом, как парафин под барием.
На полках сплошные Белинские, Тэны, Ревзины.
Двадцать томов Толстого осаждены гербарием,
Семьдесят остальных – попросту не разрезаны.
В отдалённом минувшем обыск, СИЗО и прения,
Полотна Дали вместо окон.
Остались спереди
Лишь кресло-качалка да Нобелевская премия –
Вступление fower power в дни prosperity.
Забудутся соревнования в остроумии
И в покер да бридж.
Перестанут казаться странными
Расхождения дзэн-буддизма и астрономии
При одинаковом небе над всеми странами.
В одиночестве, что безвкусней ноябрьской рани, и
Журчащем в усталых ушах, как вода в сифоне – и
Перемена Евтерпы, Талии и Урании
Неожиданней, чем ададжо в конце симфонии.
Лакшми и Будетлянин
Наши зрачки заблудились в тиши водных лилий –
Я иду по воде чудесных планет,
А ты у нас по
Тростникам в грозовой кабинет.
Мы пили эту чистую воду, которую нам налили –
И я даже на спор
Не поспорю, что меня нет…
Я шагаю по пристани –
На мне взгляды пьяных прохожих
И чужой больничный халат,
Пожар в груди и мороз по коже.
Я укрыл мои тексты в хрустальные простыни;
Может, это звучат Тирн Рам и Тирн Хлад,
А может…
And you`re listening quite queer noises,
И в твоих веках тонет иней,
А снежок укутал ноздри.
Ты не хочешь петь, да и не
Вспомнишь вдруг ни одного из
Моих слов, уснувших возле
Ручья в твоей долине…
А ты уводишь меня
Всё дальше вверх, дальше вглубь,
В Петербург чёрно-белый,
В Ленинградскую мглу, в
Мозольную влагу на пальцах менял,
К Жаклин и Пикассо, к Шагалу и Белле,
В допитый битлами клуб…
Там горят поезда,
Срываясь с уставших петель,
Словно капля дождя сквозь трубу – из туч в печь,
А проводница исправно уносит постель.
Семирамиды попрятались по садам.
…И нам двоим Александр Сергеич
Наизусть читает «Метель»…
Мечты о лучшей жизни
Не хочу я жить в навозе,
Ему смертью угрожая –
Лучше поселюсь в колхозе
«Сорок лет без урожая».
На рассвете буду петь я
Цоя с Гребнем без оваций,
Да с соседом дядей Петей
Возлияньям предаваться.
На закате солнца буду –
И молитвен, и неистов –
Созерцать с воззваньем к Будде
Битвы храбрых толкинистов.
Суфийская мудрость
О, суфийская мудрость,
Привечают весну
Семипалый Шагал,
Восьмирукий Вишну,
В Индии – Брахма,
Троеглав его зёв,
В Африке – Хэм
И Гумилёв.
Слишком долго вдыхала
Ты тяжёлый туман, –
О, гуру Нанак,
Хазрат Инайят Хан.
Подвенечная Истра,
Изначальная искра;
О, «Москва – Петушки»,
«Путешествие в Икстлан».
О, суфийская мудрость,
Неродящее всё,
Семипалый Шагал,
Троестрокий Басё.
Реанимация
Кончилось время, которое разрешало
Кресты на Голгофе, фикусы на окне:
Теперь, – как сказал Маяковскому Предземшара, –
Среди символистов мы будем с тобой акмэ.
В наших кущах полно и мелодий, и слов, и стансов –
Но реанимация суть пора выбирать одно:
Дао дэ цзин – из книг, тебя – из богов, из танцев –
Вальс, из подвластного водной стихии – дно.
Фильм «Хрусталёв, машину!» уже не казался адом,
Едва я пророс в твою землю, как кедр в Бейрут:
Действительно – всюду жизнь, если каждый атом
Картины Филонова – словно обэриут.
Как кровь Будетлянина – рифмы и алгоритмы,
Я чувствую – к горлу подкатывает ЧП:
Но даже ежели рукопись обгорит, мы
Сделаем всё, чтобы снять этот фильм в ч/б.
Пейзаж в духе примитивизма
Проберётся по рее
Соловеющий бриз к
Бухте Гипербореи
В ореоле из брызг.
Юго-западный округ
По весне залинял:
Подмешаем-ка охру к
Неземным зеленям,
Где пейзаж идеален
И лесная братва –
Думал, там Вуди Аллен –
Оказалось, «Брат-2».
Как по райскому саду
Надувные слоны,
Облака да блокада
Тучей жёлтой луны,
Да сплошной Генералич –
Ох, боюсь, что влюблюсь, –
Да Руссо гениальность,
Да таможенный блюз.
III
Изенхаймский алтарь. Распятие
Тридцать лет и три года лежать на печи, а потом – на крест
По останкам титанов, по трупам богов, миновав Олимп.
Ты не то, чтобы умер, а после – не то, чтоб совсем воскрес:
Смерть пришла, но не высосать ей из тебя всех словес и лимф.
Просыпайся, взгляни, как медами слезится по нам Алтай!
Чтоб пропеллеры вторили птицам, наставим для них манков;
Двинем в Арль и с порывом мистраля ворвёмся с тобой в алтарь -
Нас обоих мазками положит на зыбь парусов Ван Гог.
Или, может, ты хочешь в дождливые тропики, как Гоген?
Или – Брейгель, привет! – надышаться озоном немецких Альп?..
Прокажённая тень, чуть дыша отделившаяся от стен -
Ты такой, как ты есть, и как нарисовал тебя Грюневальд.
Не отверзнется, да и не нужно, твой дряхлый консервный гроб;
И, пока над окрестностью Ершалаима плешивый смог,
Магдалина и просто Мария услышат у входа в грот,
Как ишачит Борей, чтоб предсмертный твой вздох никогда не смолк.
Ламентация
Над зеленями оврагов и желтью балок
Брызги огней распускаются из антенны;
Луны – как апофеозы печёных яблок,
Солнца – сухие садовые хризантемы.
С чёрных дерев упадает листва на супесь;
Молния свесилась с тучи стальным канатом;
С ссохшейся ветки ворона кричит, насупясь,
Императив, приодевшись виватным Кантом.
Шмотки нашла на раздавшейся вширь помойке,
Где до неё копошился какой-то люмпен,
И улетела присутствовать на помолвке
Огня и мрака. Убийственно как мы любим!
Ушлое небо любило всегда настырных,
Пишущих заповеди на гнилых обоях,
Как пробивающийся сквозь асфальт пустырник
Или таранящий грозные тучи «боинг».
Брось эти глупости, не говори о грозном,
Скоро всё кончится – Путин, хохлы, Эбола.
И вообще: как-то жил в Сталинграде Гроссман,
Как-то бежал ведь Печерский из Собибора?
В небе истории, гордом и одиноком,
Пьяное облако горло прочистит в гранже –
Грянет гроза, на фаюмских портретах окон
Высветив хмурые лики Христа и Грамши.
14 нисана. Ямбы
Где связь времён над миром порвалась,
А Иордан оканчивался пляжем,
Теперь – о том на память – венский вальс
На все четыре четверти мы пляшем.
Расчёсывай мне волосы, сияй,
Пока Нептун Улиссов чёлн качает.
Да минет тебя здравица сия
И жизни скоротечность не печалит.
Мой смех угрюм, а пафос – нарочит.
В кино я щедр, а в жизни – лютый скаред.
Дурак болтает. Знающий молчит.
Висящий на кресте не зубоскалит.
Он смотрит с грустной нежностью поверх
Души, что мы, асуры, не разденем,
На тех, кого он некогда поверг
В кромешный рай одним своим рожденьем.
Мыс Рока
Хуже петли вкруг выи
Мне пустующий крест;
Я сегодня впервые
Агностичен и трезв –
Вышел к людям, вещал
Про буддистов,
Дабы крикнуть вещам:
«Пробудитесь!»
На Тверской ямщика взял и на
Книжный торг повёл рысь –
Там, по приказу хозяина,
Конь опричников
грыз –
Разрываючи вожжи,
Сипя –
Второй том самого же
Себя.
Как, наверно, он мог бы,
Выходя из окна –
Из себя, – как из моды,
Отвезти нас к нам.
И как будут герои той долгой зимы
Удивлены;
Будем ли мы друзьями, житель Земли? –
Будем ли мы?..
А ты выдернута из киота,
Ты в объятиях, как в тисках –
Словно ищешь в потёмках кого-то
И не можешь никак отыскать.
Но пусть снимают про нас «Мы из рока» –
Мы уже здесь и сейчас;
Мы вернулись на мыс Рока,
Пока догорала свеча.
На суахили
Переведи меня на суахили, не то мне страшно –
Мне кажется, что я не бабуин, а макака.
Либералы правы – в каком-то смысле я страж, но
Я охраняю выход из того, что есть «hakuna matata».
Если ты умерла – мне плевать, под мухой или на мушке.
Ежели ты жива, ты вся в фазаньих пухе и перьях.
Тебе нечего делать на их этажах, потому что
Ты не боишься лифта с закрытой дверью.
Люди степей, где солнце прямое, как Маяковский –
Давай спалим в урне разрушенный лепрозорий.
Перед иконой зажжённый маяк, сделанный в воске,
Сказал, что почивший не в идоле рождён не в позоре.
Мы непонятны в различной степени всем, и мои стихи и
Проза едва ли кого-то куда-то манят, но
Если я вправду Лорка, переведи меня на суахили,
Чтоб воплотилась в жизнь наша hasta maniana.
Романс
Вдыхая Розы аромат над,
Как вечность, лучезарной рекой,
В тенистый прибываю Сад: гад
Опутал комель в янтаре, кой
Мог послужить бы для господ-дам
Нехилым лакмусом добра-зла,
Но сверглась свастика на Потсдам,
Легла под вырубленный бра мгла.
Да породит луна протест сну,
А Емельян или Степан – клан;
Пусть Гавриил трубит про весну
И блещут звёзды, как стимпанк-хлам.
Да будет так, да будет свят свет,
И сядет ангел к нам на карниз.
А если всё это – лишь мой бред,
Я возвращаю ваш портрет, Мисс.
Соловей на семи дубах
Виктору Сосноре
Город, где Воланд валандался со своей свитой по мостовой,
Хранит отражения в лужах лун, следы ногтей на гробах.
Вот эта улица, вот этот дом, где встретимся мы с тобой –
Певчий коршун с гусиным пером, Соловей на семи дубах.
По Млечному шляху идут-бредут межзвёздные поезда.
Спускается полночь. Скорей сомлей, поцелуй, на её губах!
У неба в запасе всего одна бессмысленная звезда –
Бог тебе в помощь, смелей, смелей, Соловей на семи дубах!
А если когда нагрянет беда, и вспыхнут края у льдин,
И красные кони стрелой стремглав рванутся из-под рубах,
Я помолюсь, а ты плюнешь-дунешь – и мы с тобой улетим
В Город, где вечно цветёт сирень, Соловей на семи дубах.
Молли Блум
Смерть с газонокосилкой вводила меня в искус:
Я согласен идти по воде, но не в кандалах же.
Мысль и обглоданный ветром лист пристают к виску с
Настоянием моря у берега Кандалакши.
Мы пришли в этот город, как в странноприимный дом,
И уйдём, не оставив следа на его подмостке.
Водосточное виски покроем сельтерским льдом,
Включим грозу и кислотный дождь в тугоплавком мозге.
Воду Леты запьём политурой и каркаде,
Чёрный чай замешаем на элеутерококке.
Белой лентой Галактики – поясом каратэ –
Передушим прекрасный позыв в непослушном Боге.
Сидя на чёрно-белой, в масть городу, полосе,
С сигаретой меж жёлтых зубов, в алкогольной майке,
Я останусь в твоём затянувшемся полусне,
В тяжком талмуде и на ирландской почтовой марке.
В мириадах огней ожерелье из синих лун,
И венок на плешивом затылке красив и ярок:
То ли это Господь Саваоф, то ли Лео Блум,
Что сквозь толщу очков созерцает букет фиалок.
Мы проснёмся, не ждя ни проклятья, ни похвалы,
Там, где времени нет, где восток вечно пьян и нежен.
Там, где в дымке холмы, в духе моря и пахлавы.
Между садами Семирамиды и Стоунхенджем.
Ногти
А сосчитать – чем я не Крёз на своём кресте?
У меня, в будничной моей,
цокольной неприступной пустоте есть
химический хлипкий рай, чтоб жить, и
девушка с бронзовыми глазами,
змеиными губами,
сияющими ранами, чтоб
ломать ногти о свинцовое стекло
внутренних пространств,
и время какое-никакое, чтоб ломать и ломать,
ломать и ломать, пока не умру – тогда
они станут расти и расти, пока
не вырастут в корабль, и уплыву на нём
навсегда, навсегда
туда, где нас нет.
Вестминстерское аббатство
Мёртвый гимнаст на кресте покидает вселенский цирк.
В тесном воздухе осени вязнет плюгавый ворон.
Всадник на бледном коне в ореоле стеклянных цифр
Чертит круги, овалы и эллипсы над собором.
Пыльная улица просит Того, Кого Нет: «Согрей
Синим пламенем ветер с востока. Согрей – и баста».
Кутает крышу в шершавую облачную шагрень
Обагрённое солнцем Вестминстерское аббатство.
А серафимы в три шкуры дерут для Тебя налог:
Крестными ходиками, но можно и соболями, -
Пока у алтарных врат, в деисусном ряду, на лоб
Наживают мозоль кафедральные соборяне.
Луна – комариный укус, пробитый стрелою дартс:
Мне не нравятся ваши повадки и шутки, Мистер –
Необычные, в камыше родившиеся, как Хармс,
Как сгоревший вечор и воскресший к утру Вестминстер.
Ты приплывёшь к нам из Ерушалаима и, войдя
В сад камней над рекою, падёшь на ковёр гортензий.
И параллельные линии пасмурного дождя
Встретятся и разминутся в микроволновой Темзе.
Новая песня таможенника Верещагина
Я манеру пресную
древнего романса
Растревожу граймом:
музыка, играй!
Сук осинки треснул и
наконец сломался –
Так Иуда грянул
прямо в чистый рай.
Тварь реле-рогатая,
ты меня не выдашь,
Триедин сёгун, ты –
жлоб и лоботряс.
Под лучом локатора
душу мою выдюжь
Сорок две секунды,
списанный баркас.
На далёкой Родине
северного ветра –
Верьте аль не верьте –
не сильны рубли.
Ваше благородие
госпожа победа,
Не везёт мне в смерти –
повезёт в любви.
Изенхаймский алтарь. Вознесение
Сеет раздор бесплотная камарилья
В неплодородном, вечно сухом Израиле.
Смерть это (не оглядывайся, Мария!) –
Вытуренная с родины ли, из рая ли.
На суету окрестность Ашдода щедра,
Ерушалаим бесами засквотирован.
Вот и опять просоленная пещера
С ширмой из туч – двухкомнатная квартира вам.
Скоро он оторвётся от сна. Оглобли
Верная смерть с личиною трицератопса
Прочь повернёт, чтоб в адских котлах оглохли,
А в эмпиреях – пели. Сестрица, радуйся!
Ночь в жемчугах, пролейся над ним дайкири;
Лунные камни, лягте в дорожный клатч ему:
Если начнут шенген проверять какие –
Так чтобы яйца всмятку и мысли вскладчину.
Скоро Отец раскроет его, как книгу.
По бузине, по оттискам мёртвых бабочек
Он прибежит на озеро, в землянику.
Музыка сфер в башке, да луна-арба в очах.
Новые корабелы не метят в Нои,
Да и в Ионы тоже, как ни валандайся.
Он не вернётся под парусами. Но и
Всё-таки, Богородица, Дево, радуйся.
IV
Moulin de la Galette
Утро Утрилло, бледное и больное,
В рваные облака безответно плакает
И опадает бязевой пеленою
На обретённый абрис Moulin de lа Galette.
В выхолощенном оспою небе марта
Пахнет корицей, яблоками, мастиками,
Снегом, что стёк поребриками Монмартра,
Мулями, маринованными гвоздиками.
Мы, как всегда, пьём утренний чай в «Ротонде».
Город домашний, снулый – почти как Вырица.
С крыши летят в обветренную ладонь те
Знаки, что тополя не успели выбриться.
Так и стояли зиму – в листве и в серьгах,
Древками обожжённого солнцем прапора.
Что же весна глушила чумной кисель, как
Дура, а протрезвела вдруг – и заплакала?
Сердце стучит. Вода замерзает в трубах.
Вечный огонь уснул в глубине поленницы.
Ржанием убаюкивая отрубок,
Конский каштан стоит у штурвала мельницы.
Выцветшим контральто заглушая Трио
В бликах Венеры, с падшей звездой балакает,
Из пелерин и рваных пелён Утрилло
Выпроставши ветрила, Moulin de lа Galette.
Искусство 1910-ых годов
Я ловил человеков за заглохшим прудом,
И хотел, как учил Прудон,
Заработать честным трудом
На разговор по душам, но
Богоматерь за витражными стёклами
И губы ведьмы, сгоревшие тёплыми –
Согласно утопли мы
В писсуаре Дюшана.
Ну а ты всё священных коров дои,
Не разделяй волхвов и даров, да и
Знай, что гитары любых дворов – твои,
Но только, прошу, не купись на
Слезоточивый гранит с
Плесенью мёртвых границ
Неба и гробниц –
Остерегись их, как Пикассо кубизма.
А к нашему приходу сгнили те двери,
Кои отворял Христу кесарь Тиберий;
Ты выше, чем сердце – так, значит, тебе ли
Измерять бас звонка меццо-сопрано роста?
Каково тебе здесь изгаляться
Дон Кихотом среди паяцев –
Среди инсталляций
Являться «Окнами РОСТА»?
Знаешь, как в марте сходит иней со льна в
Суглинки, где шерстью ягнёнка слиняв
С лика земли, снег тает – волгл и слюняв,
Как полумесяц тает в пасти шакала?
Знаешь, как облака невесомы,
И как зелены скрипки и совы,
Но свинцовы
Пальцы и кисти Шагала?..
Тир-Нан-Ог
Пластилиновая ворона с бумажным кетцалькоатлем,
Словно два треугольника ABC или даже A prim
B prim C prim, как журавли по дороге к цаплям,
Точно мысли в катящейся с плахи дурной башке.
От Сиона один луч солнца до растаманской причи,
Но на пути – сплошь суры, молитвы, причты:
Комом в горле, бесом в ребре уже эти притчи
О белом колене, горячке или бычке.
…Хорошо, если так. Но только боюсь, что все, кто
Понял, о чём я – так близко к попавшим в секту
(Как флаг США на Луну или птица в сетку),
Что не расслышат ни скрип сандалий, ни звон монет.
Я стал бы тобою, обзаведясь атоллом –
Но встал с семисвечником, бегая по конторам,
Остановясь на привал в городке, в котором
Нет ничего, не считая того, чего нет.
Доктор Живаго. Ямбы
Потонет в тучах солнечный «Варяг»,
Весна Сати слабает на ситаре…
Я сделал шаг, который вёл в овраг,
А в том овраге волки заседали.
Я вспомню всё: полёт твоих планет;
И омут слов, и тонущую кильку;
Что ты – везде, а нас на свете нет;
И брянский лес, и марбургскую кирху.
О добрый мир рождественских огней,
Где тьма не тьма и калий не цианист,
Где цвет и свет черпает Гименей,
Как мог лишь Тициан-венецианец!
Перекрестившись, я пройду сквозь треск
Поленьев в печке, к дельте Млечной Волги,
И на процветший фикусами крест
Меня погонят плюшевые волки.
Город М
В славном городе М, на улице голубиной,
Тишины не прерву и обструкции не нарушу.
Новый плюшевый классик загонит стихи в глубины,
Скрепляющей уши резинкой рванув наружу.
Ложиться костьми на Неглинку да Стикс вдвоём, а в
Одиночестве и полёте – молиться к Нике
Сквозь амальгаму искусственных водоёмов,
На полпути от моста до тибетской книги.
Галерея А. С. в осаде интербригад, но
С Делакруа всё путём, а с Домье – запарка;
Если так далеко от Волхонки до Баррикадной –
Камо грядеши,
Егор,
мы из зоопарка?
Время стекло по разбитым часам.
Отныне
Бабочки на игле – песок и пыльца сквозь пальцы.
Мне не понять процесса шитья, а ты не
Знаешь о том, что луна – мулине, а окно – как пяльцы.
Птиц отпустит Багрицкий на юго-запад, а рыб – к востоку;
Торя дорогу озону, свинец просвистит вдоль окон…
Земля, точно в песне Высоцкого – хиппи после Вудстока.
Небо, как на картине Мунка, сплошь из мясных волокон.
Сентябрь
Осень в саду над рекой
подметает окурки и слюнявые вишнёвые косточки,
прибирает за беспорядочным августом,
делает видимым невидимое.
Кончилось время романтических абстракций,
чёрных квадратов, белых домов.
Пришли мы –
ван гоги, войска генерала Лудда.
Слетает с петель мирок –
целлулоидный новогодний шарик,
большой цирк du Coleil с его
диссонансами и пресными шутками, где
паяцы конскими яблоками играли в лапту и
топтали алебастровые медведи
шпагу в зобу Иллюзиониста.
Теперь этого нет:
белый на белом мой Санкт-Ленинград
в его великой тишине,
которая кажется абсолютной.
Северная часть
В северной части мира я отыскал приют…
Иосиф Бродский
Понт смывает слова со скрижалей;
как кстати небо
Застит тучами солнце:
не делай себе кумира.
В сорока четырёх неорганных мирах Кастанеды –
Как в историческом центре северной части мира.
И мне остаётся одно – смотреть на восток, – и вам –
Вперить угрюмый взгляд, покрывшийся ржой от рома, во
Взмыленную луну, что глядит на всех нас, как Иван
Гончаров – на причуды Штольца или Обломова.
А с утра в понедельник, отдав выходной говенью,
На Скарапее верхом Ярило прикатит с дачи
В интуристами не освежёванную кофейню,
Где автомат-сволочуга не возвращает сдачи.
От марксистской теории – в позднесоветский наив,
От бакунинских практик – страшненький суд да выдача
Узников совести через разбитые окна и в
Залысину туч в виде профиля Льва Давидыча.
Тут ледорубом подводят веки глубоким синим –
А внизу прирастает курс доллара, поелику
Старец Фёдор Кузьмич сожран аспидом перед Зимним,
Хмель принимая на рукотворном за повилику.
Старомысл, нелицо, толстовец, попросту уркаган –
Выпадет случай принять перед казнью Христа ль ещё,
Когда на Казанской площади, 2, вознесли курган,
А на Невском проспекте, 31 – ристалище?
Небо и море слились в глазах проходящих мимо,
А грузин по соседству гулял волкодава-века…
С товарищеским приветом.
В северную часть мира –
Из-под широт и глубин колхоза «Лопе де Вега».
Postscriptum:
когда океан в тебе пробудит печаль,
И за холсты Клее ты примешь мои постскриптумы –
Стукни в дверь с онемевшим звонком (читать «Капитал»,
пить чай).
А пришедших вослед тебе отличим по скрипу мы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?