Текст книги "Буриданы. Новый мир"
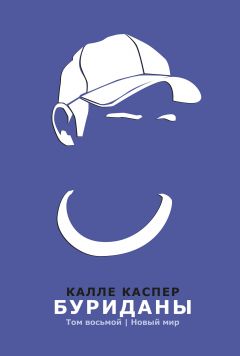
Автор книги: Калле Каспер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Глава третья
Отец и дочери
Квартира была пуста, Рита еще не вернулась с лекций, остальные – далеко: Сайма поехала на кинофестиваль, а Ханна уже несколько лет училась политологии в Штатах. Границы открылись, и молодежь поспешила этим воспользоваться. Пауль в новое время за рубежом еще не был, и опасался, что не попадет туда вовсе. Туристическое путешествие в Польшу в советскую эпоху, командировка в Хельсинки в начале перестройки – вот и все его вояжи.
Переодевшись, он пошел вымыть руки, одновременно размышляя над тем, что узнал от Тимо. Вот так просто и могли разрешиться все его проблемы: получил бы за дедушкину землю некую сумму, и прощай, господин хозяин! Сколько он вложил времени и денег в эту квартиру… После предыдущего жильца остался полный хаос, Пауль сделал ремонт, почти все собственными руками, только шлифовку паркета поручил мастеру: сам побелил потолок, сам покрасил двери и окна, сам поменял обои; где одному было не справиться, помогали Сайма и дочки. Да и потом, в течение многих лет, он каждый вечер что-то доделывал, обновлял, чинил – вплоть до памятного вечера, когда прозвучал роковой звонок в дверь. После этого Пауль и пальцем не пошевелил, и потихоньку все начало разрушаться, вот и здесь, в ванной, краска с потолка облупилась; хозяин тоже ничего не делал, ждал, пока они уберутся.
Он высушил руки, прошел в кабинет и, вынимая из портфеля кассеты, начал расставлять их на полке. Следующая лекция предстояла только через неделю – срок долгий, и заняться нечем. Конечно, можно написать еще несколько акварелей, но имеет ли смысл, если и старые еще не продались? Жизнь, не наполненная трудом, напоминает тюремное заключение. Как отец вынес тринадцать лет в камере, в полном бездействии: без движения, без работы? Хотя вряд ли он совсем ничего не делал, наверняка читал, спорил с товарищами… У отца в жизни была цель, он знал, к чему стремиться, за что бороться и страдать. То, что цель эта, однажды достигнутая, принесла с собой больше зла, чем добра, отец предвидеть не мог, он был убежден, что сражается за справедливость.
Хлопнула дверь – вернулась Рита. Будь это Ханна, Пауль сразу же услышал бы окрик «Папа, это я!», но от младшей, серьезной, замкнутой, ждать проявления эмоций не стоило. Через несколько минут, уже переодевшись, она, все-таки, пришла поздороваться, в невоспитанности девицу обвинить было трудно. Своей заслугой Пауль это не считал, как, впрочем, и Саймы. Они же вечно ездили в командировки, за детьми ухаживали теща и тесть, иногда тетя София, значит, благодарить надо их, но, увы, никого уже не осталось в живых, последним умер дядя Эдуард, без тети он долго не продержался.
– Иди, у меня для тебя маленький подарок.
Рита приблизилась недоверчиво, как будто боялась, что отец ее обманывает, взяла коробку, сказала «спасибо», но открывать при нем не стала, ушла в свою комнату. И снова Пауль пожалел, что старшая далеко, она бы отреагировала на подарок иначе, тотчас бы развернула, охнула и поцеловала его в щеку. С Ритой контакт отсутствовал, он даже не знал, что дочь о нем думает – неудачник? Возможно, но, скорее всего, она вообще не утруждала себя рассуждениями о личности отца, рассматривала его, как нечто само собой разумеющееся – торчит тут под носом…
Ну что я все время ною, подумал он вдруг. Человек должен держаться до последнего, или…
Он сел за письменный стол, и рука словно сама собой открыла средний ящик – там, за ручками, карандашами, линейками, грудой всяких договоров, документов, которые он почему-то бережно хранил… Пистолет достался Паулю от отца, родственники о нем ничего не знали, иначе после смерти матери отобрали бы. В юности Пауль часто играл с ним, то целился в глобус на шкафу, то в карниз; иногда и себе в висок. До конца осмысленным это движение назвать было нельзя, он даже не заряжал пистолет, жажда жизни была сильнее того отчаяния, которое овладело им после смерти матери; но где лежит коробка с патронами, он знал. Потом он оружие, можно сказать, забросил: счастье улыбнулось ему, он встретил Сайму, нашел любимую профессию; но в последнее время, когда все пошло наперекосяк, снова вспомнил о пистолете. Вот тебе возможность покончить со всем за одно мгновение. Как мама. Пауль не верил рассказам родственников о том, что мама нечаянно упала с балкона – ну да, рассеянная она, конечно, была, но чтобы настолько? Зато он хорошо знал, что мама так и не смирилась со смертью отца…
Он открыл ящик, вынул из укромного уголка пожелтевшую со временем коробку, открыл ее и вытащил пистолет. Оружие было холодное и тяжелое, он подержал его какое-то время на ладони, потом положил обратно на место, закрыл ящик и пошел в кухню согревать обед.
Прихода первых гостей Пауль не услышал, его увлек материал в газете. Это было интервью с неким политиком, который, помимо своих нынешних успехов, рассказывал о том, как он в советское время боролся за свободу. В принципе, ничего необычного в этом не было – такие статьи появлялись в последнее время нередко, создавалось впечатление, что вся страна кишит храбрыми мужиками, полвека ведшими неравную борьбу с советской, как сейчас говорили, «оккупационной» властью; но эта статья была особенная. Как только Пауль посмотрел на фото, лицо ему сразу показалось знакомым, а прочитав имя, он вспомнил – это был тот самый Мярт, о котором они с Саймой много лет назад сняли документальный фильм. Сайме нравились острые социальные проблемы, вот и в тот раз в качестве темы она выбрала подростковую преступность, а героем стал – некий молодой негодяй, грабивший тех, кто младше и слабее. Они снимали его и дома, и в специнтернате, обстоятельно беседовали с мамой и учительницей, ну и с ним самим. Мярт – Пауль был в этом уверен – врал как сивый мерин, выдумывал всякие истории, объясняющие, по какой причине он сбился с «честного пути», клялся, что «больше не будет»; но Сайма ему верила. Позже с фильмом возникла уйма проблем, его не хотели пускать на экран, Паулю пришлось вырезать лучший кадр – школа-интернат, снятая сквозь волейбольную сетку, словно сквозь решетки, в этом увидели метафору на отсутствие свободы в стране в целом, но, в итоге, все образовалось, и Сайма даже получила за свое творение республиканскую премию. И что теперь говорил о тех временах Мярт? Он не отрицал, что у него были проблемы с законом, но объяснял их тем, что он, видите ли, протестовал таким образом против советской власти!
И такие правят страной, подумал Пауль с ожесточением, откладывая газету. Но тут же взглянул на себя со стороны и подумал – завидуешь, что ли? Наступило новое время, кто-то сумел к нему приспособиться, кто-то нет. Ты – нет, и поэтому злишься. Так? И разве при прошлой власти мало негодяев околачивалось на самой верхушке партийной пирамиды? Так что ты удивляешься?
Тут поток его мыслей прервался, потому что из гостиной стал доноситься грохот, который новое поколение называло музыкой. Когда Рита несколько дней назад спросила, можно ли ей пригласить на день рождения однокурсников, Пауль, разумеется, ответил утвердительно, но сразу подумал, что самому, пожалуй, лучше на это время уйти из дому. Если бы они хоть знали меру! Будь именинницей Ханна, он бы пошел сейчас и сказал: «А ну сделайте потише!», но Рите он ничего запрещать не хотел, дочь, закомплексованная, редко звала гостей, а кавалера у нее не было до сих пор. Вздохнув, он встал с кровати и начал одеваться. Не было охоты выходить на темную и холодную улицу, но грохот просто убивал, вторгался внутрь и добирался до каждой нервной клетки, уничтожал то малое, что от них еще оставалось. К счастью, ему было, куда бежать – пока было, потому что недавно подняли арендную плату за мастерскую, и Пауль решил от нее отказаться.
Глава четвертая
Старые снимки
Молния куртки испортилась, пришлось ограничиться только пуговицами, и холодный сырой ветер сразу стал проникать к телу. «Сосулечная» опасность миновала, все, что днем, на солнце, растаяло, успело снова подмерзнуть, но зато следовало быть осторожным, чтобы не упасть на скользком тротуаре. В советское время его обильно забрасывали песком, сейчас песок заменила гранитная пыль, но ее сыпали щепотками, наверно, из-за дороговизны; страдали, естественно, пешеходы.
Он снова вспомнил про тартуский дом, и подумал – может, и хорошо, что он только сейчас о нем узнал. Хватило бы ему мужества сказать: нет, спасибо, со времен национализации прошло полвека, это слишком долгий срок, чтобы возвращение какого-либо имущества претендовало на справедливость. Вряд ли, он ведь тоже человек, и к тому же человек стареющий, такой, которому жить с каждым годом становится все тяжелее, таким образом, следовало предположить, что он действительно подал бы заявление на возвращение дедовского участка – и этим предал бы себя. Нет, пускай жадничают другие, те, кто без собственности себя не представляет, иностранные эстонцы, балтийские немцы… да, подумать только, даже балтийские немцы очнулись и требовали обратно то, что они захватили силой семьсот лет назад… Нет, со справедливостью реституция ничего общего не имела.
Ход мысли прервался, потому что некая женщина, идущая навстречу, вдруг поздоровалась с ним; она была средних лет, с усталым лицом, и Пауль ее не узнал, но машинально ответил на приветствие, возможно, даже почтительнее, чем если бы узнал – из-за чувства вины, что забыл кого-то, кто его помнил. Останавливаться он все же не стал, не только потому, что стеснялся спросить, простите, кто вы такая, ведь женщина могла поинтересоваться, как его дела, и что он ей ответит? Жаловаться он не любил, врать тоже, избегал даже бывших коллег, чтобы не пришлось делать ни того, ни другого. Кто-то на его месте, возможно, похвастался бы тем, что учит молодежь, но сам Пауль считал это деградацией – он вполне мог бы еще снимать и снимать.
К нему снова обратились, но теперь иначе, лукаво-провоцирующе: «Мужчина, не хотите поразвлечься?» Пауль не стал останавливаться, даже не посмотрел на женщину. Такими доступными, как сейчас, они никогда еще не были – во всяком случае, в течение жизни Пауля. В советское время вообще все было иначе, продажной любви тогда не существовало. Сейчас все изменилось, девушки стали товаром…
Опять я брюзжу, подумал он сердито. Скажи откровенно, обратился он к себе, ведь ты не поддался искушению только потому, что у тебя нет денег? А если бы были, ты бы тоже спокойно прошел мимо? Ну нет! Он знал себя, знал, что в нем живет зверь, пробуждающийся, как только открывается возможность удовлетворить похоть. Так что – все к лучшему в этом лучшем из миров? И чем ты, в таком случае, недоволен?
Он долго пытался окончательно сформулировать свою мысль, пока наконец это получилось. Ему просто-напросто не нравился новый мир, не нравился, и все. Кто-то, возможно, получал от него удовольствие, он нет. Он был дитя своего времени и считал, что государство должно беречь людей, а особенно женщин, потому что они слабее и ранимее.
Он повернул в сторону, в темный переулок. Еще несколько шагов, затем подворотня, двор и знакомая дверь. Замок открывался с трудом, сердцевина заржавела, и Паулю пришлось повозиться, пока он попал внутрь. Раньше он шел вверх по лестнице быстрыми уверенными шагами, словно скалолаз, теперь пришлось двигаться медленно, а на площадке даже передохнуть.
В мастерской было холодно, и Пауль включил масляный радиатор. Было время, когда он каждую свободную минуту приходил сюда, чтобы сосредоточиться, но сейчас работать уже не было желания, все мешало, сырость, даже отсутствие удобного стула – трон для сидения не годился, трудно было опереться, расслабиться. Моделям, да, им он нравился, они говорили, что чувствуют себя в этом кресле словно графини или баронессы. Теперь они сюда не ходили, вот и «трон» стал не нужен – надо раздобыть машину и отвезти домой.
Какая-то смутная мысль зашевелилась вдруг – та женщина, которая с ним поздоровалась… нет, не проститутка, а та, первая… А что, если…? Пауль почувствовал, как по телу прошла неприятная дрожь – ну да, конечно, как он сразу не додумался! Он повесил куртку на гвоздь и прошел в угол, где стояла груда коробок. Его архив. На каждой коробке была надпись с указанием года съемок, он немного поразмыслил и, кажется, вспомнил. Сняв и отложив в сторону несколько коробок, он добрался до той, на которой значилось – лето и осень 1980. Дополнительно, в скобках, было указано: олимпиада.
Открыв коробку, он стал лихорадочно разбирать фотографии. Ханна и Рита вместе с Кристель и Каей у тети Софии – он еще назвал этот снимок: «Четыре девочки поглощают клубнику». Сама тетя, дядя… Пээтер на пляже в Пирита – он совсем забыл про это фото и теперь улыбнулся, вспомнив, как снимал двоюродного брата – тайно, из-за кустов, словно в «Блоу-ап». Русская, с которой Пээтер флиртовал, была хорошенькая, интересно, во что вылилось это знакомство? Во время перестройки говорили, что у Пээтера роман с какой-то русской – может, это она и есть? Сейчас Пээтер снова был женат на богатой бухгалтерше, жил на окраине в ее доме и вряд ли гулял на стороне.
Пачка, которую он искал, оказалась в самом низу – Лооре. Наверно, это были самые сложные композиции в его жизни, на одной из них он смонтировал девушку с лебедем, размахивающим крыльями над женской плотью – Зевс с любовницей. На другой Лооре лежала под золотым дождем, за этот снимок он еще получил почетную грамоту всесоюзного конкурса… Да, без всякого сомнения, Лооре была его лучшей моделью, правда, недолго, отношения стали взрывоопасными.
Неужели та женщина, которую он не узнал, была Лооре? Стопроцентной уверенности у Пауля не было – но разве он нуждался в этом? Достаточно и девяносто пяти процентов, достаточно одного лишь теоретического знания. Это могла быть Лооре – и, следовательно, мир по своей сути – подл, ибо имела ли эта немолодая усталая женщина хоть какое-то сходство с молодой балериной? Вот так жизнь сама убивает прекрасное. Могли ли его снимки сохранить эту красоту? Вряд ли, однажды пожелтеют и они, или тот, кому они достанутся, возьмет и бросит коробки в печь, или выкинет в мусорный бак, ведь в городских домах редко встречаются печи. Даже работы великих художников обречены на гибель – что не изуродуют время и сырость, то однажды уничтожат вандалы.
В сердце кольнуло; он сунул руку в карман пиджака, пощупал – валидола не было. Неужели я забыл его дома, на тумбочке, подумал он, пошел к куртке, стал рыться в карманах. Ключи, сигареты – зачем, он почти не курил?
Лекарства не оказалось.
Ближайшая аптека находилась в ста метрах, но там валидол не продавали, советские лекарства исчезли с прилавков, наверно, стоили слишком дешево, валидол привозила Сайма, из своих командировок. Конечно, можно попросить у аптекарши что-то другое, или вообще пошлепать домой, недалеко ведь, пятнадцать минут пешком, но Пауль почувствовал вдруг, что ему не хочется ни того, ни другого, не хочется вообще ничего. Его охватила огромная усталость. Все увядает, и первым делом – все прекрасное. А ведь оно – единственное оправдание жизни. Дядя Эрвин говорил об этом на похоронах мамы, и его слова запали Паулю в душу – вот он и посвятил свою жизнь тому, чтобы запечатлеть прекрасное; увы, даже это оказалось бессмысленным.
Боль усилилась, его охватил страх, он хотел снять куртку с гвоздя, чтобы все-таки дойти до аптеки, но не смог поднять руки. У Саймы и девочек были мобильные телефоны, он избегал этой покупки, зачем тратиться на то, в чем, практически, нет нужды; а вот тебе и нужда. Он решил пройти к окну, открыть его настежь и крикнуть: «Помогите, мне плохо!» – авось кто-то услышит, но дальше «трона» не добрался, упал на него.
Скоро боль стала невыносимой, и Пауль подумал – надо же, вот и не понадобился пистолет.
Часть третья
Премьера
С другой стороны, в Америке, в республике, скучно жить, потому что там необходимо нравиться лавочникам, прикидываясь таким же глупым, как они; к тому же, там отсутствует опера.
Стендаль
Глава первая
Интервью
Звонок прозвучал точно в условленный час, Анника обратила на это внимание, поскольку последние пять минут то и дело поглядывала на циферблат. Бояться было нечего – комнату она убрала загодя, накрыла на стол, да и сама причесалась, подкрасилась и оделась подобающим для такого случая образом, не слишком торжественно, но и не в неглиже – и все равно вздрогнула.
– Явился?
Выйдя из кабинета, Пьер направился в прихожую: открывать дверь было его обязанностью, Анника старалась этого избегать, в отсутствие мужа она, бывало, даже не отвечала на звонки – ну кто там может быть, раз она никого не ждала, то ли ребенок какой-то проказничает (раньше бы она сказала «мальчик», но ныне девочки от них не отставали), то ли сантехник перепутал квартиры, то ли – что вероятнее всего – у нищих началась ударная неделя, и вот с ними Аннике совсем не нравилось общаться – непривычно, в Советском Союзе нищих не было, она, во всяком случае, за свое детство и юность не встретила ни одного, это было другое государство, или, как говорил отец – другая цивилизация.
Бросив последний взгляд в зеркало, она последовала за мужем, и, уже в прихожей, обняла его сзади, словно черпая у Пьера силы.
– Не забудь про сокращения, – напомнил Пьер, пока они вместе, словно зачарованные, следили за направляющимися вниз тросами лифта, что означало, что кабина, наоборот, ползет вверх.
– Постараюсь.
Долгие годы «Травиату» пели в укороченном варианте, из мужских партий выкидывали даже кабалетты – «тормозит действие», как объяснял Пьер, но сейчас ситуация изменилась, и каждый уважающий себя дирижер считал своим долгом открыть ту или иную купюру, вот и Джованни вытащил откуда-то малоизвестный отрывок из дуэта последнего акта, и Пьер подумал, что упомянув об этом в интервью, можно оставить хорошее впечатление.
Лифт с грохотом остановился, оттуда вылез небольшого роста молодой очкарик, сделал изящный поклон и произнес мелодично: «Бонжур!» «Типичный француз», – подумала Анника, отвечая на приветствие, «вежливый, живой и наверняка ироничный». Даже после дюжины прожитых в Париже лет она не чувствовала себя уверенной с этим народом, боялась сказать глупость, стать посмешищем, хотя некую внешнюю, светскую манеру держаться она все-таки приобрела, вот и сейчас весьма по-дамски протянула юноше руку, которую тот целовать, все-таки, не стал – подобное было не принято в демократической стране –, а просто слегка пожал.
Кофе обычно варил Пьер, он смешивал несколько сортов зерен и гордился, если напиток получался особенно ароматным, но при гостях, Анника мужа в кухню не пускала: следовало беречь мужское достоинство, и так вся слава в семье доставалась ей – в какой-то мере это, возможно, и льстило мужу, он чувствовал себя по отношению к ней немного Пигмалионом, но Анника знала, что в глубине души Пьер все равно завидует ей.
Когда она закончила разливать кофе, Пьер сказал: «Ну что же, я вас покидаю», и отправился в кабинет, а журналист вытащил диктофон.
– Если вы позволите…
Конечно, Анника позволила, хоть аппарат и внушал ей ужас – с одной стороны, возможно, и хорошо, что никто не может вложить в ее уста слова, которых она не говорила, но, с другой – она знала, что ее французский оставляет желать лучшего, и ей не нравилось, что кто-то имеет документальное подтверждение сего факта…
– Надеюсь, вы потом подправите…
– Непременно, – подтвердил журналист, но Анника сильно сомневалась, что он это сделает: люди стали ленивые, а журналисты – они тоже люди, свой текст, возможно, еще и отшлифует, но чужие реплики…
Первые вопросы были тривиальны – часто ли она пела Виолетту, и что ее в этой роли привлекает. «Музыка», – ответила Анника односложно, но журналист не отставал, наверно, не понимал своеобразия оперного искусства. – «А в персонаже?» – Анника объяснила, что для нее «Травиата» – это история о несчастной женщине, которая, вместо того, чтобы создать семью, родить и воспитать детей, губит свою жизнь, переходя из рук в руки.
Журналист внимательно ее выслушал, и, когда Анника закончила, спросил:
– Вы считаете, что счастье женщины непременно связано с семьей?
«Да, разумеется!» – хотела воскликнуть Анника, но не осмелилась. Счастье женщины, орала пресса и повторяли политики, это самореализация в любом виде труда, хоть ассенизатором, только не женой и матерью; зато от мужчин с нетерпением ждали, когда они наконец начнут рожать. Идти наперекор общественному мнению? В лучшем случае, ее бы посчитали наседкой… Поэтому она стала вилять:
– С семьей, может быть, и нет, но с любовью обязательно, без любви не может жить ни одна женщина…
– Но Виолетта ведь поет: „Sempre libera…?“[1]1
Всегда свободна (по ит.)
[Закрыть]
Журналист, кажется, весьма гордился, что смог процитировать два слова из арии.
– Это она от отчаяния, – объяснила Анника. – Человеку очень трудно признать, что он ошибся, более того, сказать себе – жизнь моя зашла в тупик. Мы врем себе, предпочитаем компромисс бунту.
– Вы тоже?
– Иногда и я.
– Например?
Например когда из прагматических соображений соглашаюсь на роль, которая меня совсем не интересует, когда убеждаю себя: «Рихард Штраус, Бриттен – тоже композиторы», хоть и знаю, что на самом деле это не так, что они сочиняли не музыку, а только конгломерат звуков, подумала Анника. Или когда я участвую в постановке, которая, по сути, не что иное, как издевательство над композитором, и оправдываю себя тем, что происходящее на сцене – «не мое дело». На секунду возникло желание честно и прямо рассказать о том, как Юрген превратил салон Мари Дюплесси в дешевый бордель и сделал попытку раздеть Аннику на сцене[2]2
Буриданы, книга четвертая, часть первая
[Закрыть], но она тотчас передумала – поймет ли журналист вообще, что ее собирались унизить, возможно, подумает, как Юрген: «Ну и претензии у дамочки…»
Поэтому она ответила с хитринкой:
– Но если я вам об этом расскажу, это ведь перестанет быть компромиссом?
Журналист понял, что с этой стороны ничего не добьется, и поменял тему.
– У вас очень интересная фамилия, возможно ли, что вы каким-то образом в родстве с философом Буриданом? – спросил он, притворяясь наивным.
Анника облегченно вздохнула – можно было «завести пластинку». Она начала с того, что Буридан – ее сценический псевдоним, а выбрала она его потому, что это – девичья фамилия любимой бабушки. «Теперь вас наверняка интересует, была ли моя бабушка родственницей философа?» продолжила она с улыбкой, журналист захихикал, и она пересказала ему родовую легенду: как в Эстонии долгое время существовало крепостное право, и когда его отменили и крестьянам стали давать фамилии, ее прадед никак не мог выбрать между «Вески» и «Мельдером» (пришлось пояснить значение этих слов), так что помещик, отвечающий за данное мероприятие, рассердился и сказал: «Ты словно буриданов осел, и пусть твоя фамилия будет Буридан.»
Было сразу заметно, что история увлекла журналиста, Аннике даже показалось, что у того камень с души свалился – что-то необычное, о чем можно написать. И, действительно, долго он Аннику уже не мучил, уточнил кое-какие детали, связанные с ее карьерой, спросил, нравится ли ей жить во Франции – тут открылась возможность сделать французам комплимент, чем Анника не преминула воспользоваться – затем поднял палец, чтобы выключить диктофон, но передумал и задал еще один вопрос:
– Да, а вам нравится рок-музыка?
Анника знала, что́ на это следует отвечать – что важен не жанр, а то, хороша музыка или плоха, это было обычной формулировкой, которой пользовались и дирижеры, и певцы, хотя в душе все они думали иначе, просто не хотели раздражать общественное мнение, этого «жестокого тирана современности», как однажды выразился Пьер – знала, но, тем не менее, ответила:
– Я ее ненавижу.
Она сама не поняла, как вырвались эти слова, то ли надоели притворство и ложь, то ли, в конце интервью, она потеряла бдительность, но они прозвучали вслух и одного-единственного взгляда на журналиста было достаточно, чтобы понять – тот шокирован.
– Почему?
Дороги назад не было.
– Потому что она убила музыку настоящую.
– Разве рок-музыка, по вашему, не музыка?
– По-моему, нет.
– И что же она в таком случае?
– Шум.
– Шум?
– Именно, шум.
Пьер обычно говорил: рок – это особая форма техники, но Анника не хотела повторять слова мужа.
Журналист, кажется, немало удивленный, тем не менее, быстро сориентировался.
– Да, но понимаете ли вы, что рок-музыку любят миллионы, в то время как интерес к вашему искусству весьма ограничен?
Ирония, сквозившая в вопросе, была настолько явной, что ее не смог скрыть даже тон, который остался вкрадчивым. Ну зачем мне надо было раздражать его, ругала Анника себя, разве я не знаю, что это – безнадежно, что с того, что он пришел брать интервью по случаю оперной премьеры, на самом деле, он тоже изо дня в день слушает рок, его слушают все, встречались даже коллеги, которые, как только выбирались со сцены, надевали наушники.
Но делать было нечего, что сказано, то сказано, следовало принять вызов.
– Я думаю, что это – недоразумение. Человечество позволило себя загипнотизировать И, чтобы доказать свои слова, я вам предлагаю пари. Организуйте концерт, на котором выступят две певицы, я и… ох, ну любая из этих. И если случится чудо, и публика будет ей аплодировать больше, чем мне, я готова исполнить любое ваше желание. Публику можете выбрать сами, – уточнила она, заметив, что на нее смотрят с подозрением, – это совсем необязательно должны быть любители оперы.
Журналист глядел на нее так, словно перед ним – идиотка.
– Только одно условие, – добавила Анника с улыбкой – увидела бы бабушка Виктория ее в эту минуту, ох, как бы она гордилась ею. – В зале не должно быть ни микрофонов, ни усилителей. – И, чтобы поставить все точки над «и», закончила: «Только голос, ничего механического».
Секунду спустя она могла с удовлетворением констатировать, что в чем, в чем, а в тупости французов не обвинишь: во взгляде журналиста промелькнуло озарение, он даже фыркнул весело, затем засуетился, выключил диктофон, вскочил, поблагодарил за «интересное интервью» и поспешил в прихожую, наверно был не в силах сопротивляться искушению немедленно заняться статьей.
Выпроводив гостя, Анника вернулась и остановилась посреди гостиной.
Что теперь будет, подумала она с ужасом. Если они такое напечатают…
Пьер любил цитировать одного древнегреческого философа, который, еще в те стародавние времена, сказал – чтобы изменить музыкальный вкус народа, надо сперва изменить общественный строй. В демократических странах даже президенты предпочитали опере – рок, и что теперь получится, что она, какая-то малоизвестная певица, поставила под сомнение вкус всего западного общества?
Открылась дверь и на пороге появился ее умный муж.
– Уже закончили?
– Да.
– Kõik on korras? Nagu Norras?[3]3
Все в порядке? Как в Норвегии? (по-эст.) пояснение см. книга четвертая, часть первая, глава первая.
[Закрыть]
Этот вопрос Пьер, традиционно, задал на эстонском, а затем сразу перешел на французский.
– Про сокращения сказала?
Анника даже охнула от испуга – про это она совсем забыла.
– Эх, ты…
– Но ты не знаешь, как он меня пытал!
Она сперва намеревалась скрыть от Пьера, что случилось в конце интервью, но теперь передумала – еще хуже, если муж прочтет об этом в газете.
Пьер выслушал ее с легкой улыбкой, и когда Анника дошла до предложения пари, громко расхохотался.
– Великолепно! Ну и задала ты им перцу!
Он все смеялся и смеялся, а Анника становилась все серьезнее и серьезнее.
– Да, но представь, какой из этого может выйти скандал?
Пьер обнял ее по-отечески, даже шлепнул по бедру, что он делал только в те моменты, когда ощущал над Анникой полное превосходство.
– Чего ты волнуешься, mio nume[4]4
моя богиня (по-ит.)
[Закрыть], небольшой скандал не мешал еще ни одному артисту.
И, извинившись, отправился обратно в кабинет дописывать статью.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































