Текст книги "Река"
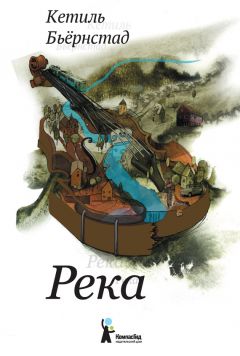
Автор книги: Кетиль Бьёрнстад
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Куриные крылышки с Марианне Скууг
На кухне я вижу, что Марианне поставила на стол бутылку красного вина. Почему меня так интересует вино? – думаю я, с болью понимая, что алкоголь в нашей семье слабое место. Мама выпила много вина перед тем, как утонула в водопаде. Но передается ли это по наследству? Все лето мне хотелось выпить. Ребекка научила меня пить белое вино. «Оно пробуждает в человеке творческие способности», – говорила она. И была права. Белое вино стимулировало. Когда я пил белое вино, ко мне приходили концертные планы. Я придумывал изысканные программы, соединял композиторов, говорил о еще не прочитанных книгах, о великих симфониях. Красное вино действовало иначе. Оно было как наркотик в крови, давало желанное опьянение, не притупляя чувств. Но от него я становился тяжелым, очень тяжелым. Красное вино хорошо для людей, которые тоскуют по чему-то, чего у них нет, а если и не тоскуют, то хотя бы стремятся отдохнуть от самих себя. Белое вино для людей, которым всегда нужен стимулятор. Есть люди, пьющие красное вино, а есть – пьющие белое. Ребекка явно принадлежала к тем, кто пьет белое вино. А Марианне, наверное, – красное. Что предпочитал я сам, не знаю. Знаю только, что мне нравилось пить вино и что для пианиста это губительно.
Марианне стоит у меня за спиной и читает мои мысли:
– Можешь пить колу, если хочешь.
– Красное вино подойдет.
– Я помню, тогда, в «Бломе», ты заказал красное вино.
Значит, она не забыла «Блом», думаю я.
– Тогда мне было семнадцать, – говорю я.
– Я не знала. Думала, тебе уже восемнадцать. Ты не по годам взрослый.
Она жестом приглашает меня к столу.
– Моя мама любила красное вино, – говорю я.
– Знаю. Она была моей пациенткой. Теперь, когда ее уже нет, я могу это сказать. По крайней мере, ее сыну. Твою маму огорчала ее привязанность к алкоголю.
– Да. Она ее и сгубила. Мама выпила почти две бутылки у Татарской горки до того, как это случилось. От красного вина она становилась мрачной. В последние годы я замечал, что она начинала сердиться уже после нескольких рюмок. Мне тяжело думать, что она утонула сердитой.
– Так бывает, – говорит Марианне, поливая салат заправкой.
– Помочь тебе? Я могу нарезать хлеб, – предлагаю я.
– Да, пожалуйста. Ты хотел еще что-нибудь рассказать о своей маме?
– Нет. – Я узнаю нож, которым в тот раз порезалась Аня. – Я вспомнил о ней только потому, что знал, что она у тебя лечилась.
– А что сейчас делает твой отец? – Марианне накладывает на тарелки куриные крылышки и салат, сначала – мне, потом – себе.
– Он переехал в Суннмёре к одной деловой даме по имени Ингеборг. Они собираются вместе продавать дамское белье. Я уже давно ничего о нем не знаю.
Марианне внимательно меня слушает.
– Мужчины плохо умеют справляться с горем, – говорит она. – И не выносят одиночества. Многие сразу же находят себе даму сердца.
Я краснею. И вижу, что она это заметила. Я смешон, думаю я. Прошло чуть больше двух месяцев после смерти Ани, а я уже переспал с Ребеккой, хотя сама Ребекка говорит, что это не в счет. Однако я не собираюсь признаваться в этом Марианне. Она наверняка считает, что молодым людям моего возраста это дозволено. Рок-н-ролл, как она сказала.
Мы едим куриные крылышки и говорим на темы более серьезные, чем кажется на первый взгляд. Крылышки сухие, они куплены уже готовыми. Салат тоже не очень вкусный. Мне это даже нравится, нравится, что Марианне Скууг может быть неловкой, почти неумелой, как все люди. Во всем остальном она производит впечатление профессионала. Когда она говорит, я украдкой наблюдаю за ней. Она спокойна и уравновешенна, с уважением выслушивает все, что я говорю, вставляет умные замечания или задает вопросы. Трудно поверить, что она всего несколько месяцев назад потеряла и мужа, и дочь.
Но о перевернувшейся яхте мы еще не говорили. Какую роль в ее жизни играли те люди? Особенно тот, который утонул?
Спросить я не смею. Газеты были немногословны. Написали только, что он был врач. Его звали Эрик Холм. Больше меня ничего и не интересовало. Тогда не интересовало.
Красное вино начинает действовать, успокаивает нервы. Мы закончили есть. По ее бегающим глазам я понимаю, что мне пора встать и уйти.
– Спасибо за ужин, – говорю я.
– Не спеши, – говорит она. – Я не так строго придерживаюсь правил. В первый вечер можно посидеть и подольше. У меня есть еще и десерт. Кисель со сливками.
– Нет, спасибо. С меня хватит и красного вина.
– Молодым людям надо быть осторожными с алкоголем, – серьезно говорит она и свертывает самокрутку. Потом смеется, словно смутившись от собственных слов. – Поэтому я и угощала тебя вином.
Она неотразима, когда таким образом противоречит самой себе. Аня тоже была такая. Самокритична до кончиков ногтей. Марианне приглаживает волосы.
– Как раз сегодня мне хочется выпить еще вина, – говорит она и смотрит на вторую бутылку, стоящую на кухонном столе. Когда я только ее увидел, я подумал, что Марианне собирается выпить и эту бутылку. – Но мне не хочется сбивать тебя с пути истинного.
– Еще одна рюмка мне не повредит, – говорю я, радуясь, что она сразу встала, чтобы открыть бутылку. Потом понимаю, что мне хочется курить вместе с ней, и достаю свои сигареты с фильтром. Она проворнее меня и зажигает спичку, чтобы мы оба могли прикурить.
– Как хорошо, – говорит она и глубоко затягивается. Потом наливает нам вино.
– Но скоро мне придется подняться к себе в комнату и распаковать вещи, – говорю я.
Она кивает, думая о чем-то своем.
– Мне нравится, что ты уже говоришь об этой комнате как о своей.
Неожиданно нам становится не о чем говорить. Мы курим, пьем вино и смотрим в пространство. Я замечаю, что мне приятно ее общество, что я расслабился. Она, по-моему, тоже, если только это не действие вина.
– Мы оба понесли тяжелую утрату, – вдруг говорит она, не глядя на меня.
Я уже хотел уйти, но решил остаться еще на несколько минут.
– А кем тебе приходился тот человек, который погиб? – вдруг вырывается у меня.
– Какой человек? – Она в замешательстве смотрит на меня. – Ты имеешь в виду Брура?
– Нет. Того, на яхте.
Она мотает головой.
– Не будем о нем, – просит она.
Я делаю вид, что не слышал ее слов:
– Он тоже был врачом? Да?
– Да. Эрик работал в больнице Уллевол.
– А что он лечил?
Она предостерегающе смотрит на меня.
– На сегодня хватит.
Первая ночь на Эльвефарет
Я сижу на кухне еще несколько минут, но мы не находим новых тем для разговора, и Марианне выглядит усталой. В бутылке еще много вина. Я опустошаю свою рюмку и встаю.
– Большое спасибо, – говорю я. – Мне было очень приятно.
Она слабо улыбается:
– Мне тоже. Я рада, что ты теперь здесь живешь. Между прочим, я забыла отдать тебе ключи!
Она достает из кармана связку ключей и протягивает мне.
– Смотри. Этот ключ от входной двери, этот – от Аниной комнаты, то есть – от твоей. Третий – от подвала.
– Спасибо.
Она не встает и продолжает мне улыбаться.
– Надеюсь, что тебе понравится первая ночь в твоем новом доме.
– Я в этом уверен.
– Ребекка такая милая, тебе следует обратить на нее внимание, пока не поздно.
– Уже поздно. – Я улыбаюсь.
Марианне пожимает плечами:
– Жизнь всегда подкидывает возможности.
Я киваю.
– Завтра у нас обычный день. Ты помнишь наши правила?
– Я записал их и повешу у себя на стене. Ванная в твоем распоряжении от семи до восьми, ну и так далее.
– Ты, наверное, считаешь, что мне не хватает гибкости?
– Вовсе нет. Ты щедрая и доброжелательная. И даже не попросила меня заплатить вперед.
Я достаю из кармана пятисоткроновую купюру.
– Это за сентябрь, – говорю я.
Она к этому не готова. Купюра слишком большая.
– Спасибо, – говорит она. – При теперешнем хаосе приятно, если хоть что-то будет в порядке.
Я откланиваюсь, бросив при этом взгляд на ее тарелку. Она почти не прикоснулась к еде.
Мы желаем друг другу доброй ночи. Я поднимаюсь «к себе». Комната как будто ждала меня. Сейчас в ней холодно. Я подхожу к окну, слышу шум реки, который смешивается с шелестом высоких елей. Сентябрьский ветер. Наверное, Аня тоже стояла вот так у окна, вечер за вечером. О чем, интересно, она думала? Сам я думаю о том, что теперь мне следует сосредоточиться. Передо мной большие задачи. Я уже с нетерпением жду завтрашнего дня. Завтра я буду заниматься семь часов подряд.
Я закрываю окно.
Начинаю распаковывать свои вещи. Это не занимает много времени. Анины вещи из шкафа убраны. Я могу повесить свой костюм, в котором я выступаю, джинсы и рубашки. Складываю на полку майки, трусы и носки. Мама научила меня самому главному, с благодарностью думаю я, – чистоплотности и самостоятельности. На какое-то время этого достаточно.
Через полчаса все уже лежит на местах. Вот что значит быть жильцом в чужом доме. Я сморю на цветы, которые Марианне Скууг поставила в вазу. Замечаю также и свечу, и коробок спичек, их не было, когда я первый раз был в этой комнате. Может, надо зажечь свечу? Я медлю, но в конце концов зажигаю свечу и понимаю, что мне не хватает проигрывателя, который был у меня на Соргенфригата. Вечерние часы важны для серьезной музыки и серьезных мыслей. Симфонии Малера, Брукнер, Брамс и Шостакович. Я решаю приобрести портативный проигрыватель с наушниками.
Потом я сижу на стуле за письменным столом и смотрю на горящую свечу. Наверное, мне следует думать об Ане, но сейчас, когда я уже сижу в ее комнате, это кажется ненужным. К тому же я смертельно устал.
Не знаю, сколько я просидел так, пока не взглянул на часы. Полночь давно миновала. Должно быть, теперь я уже могу воспользоваться ванной, думаю я.
К счастью, дверь ванной запирается. Есть люди, у которых ванная никогда не запирается. Я запираю дверь. Я принес халат, свое полотенце и свои туалетные принадлежности. Марианне еще не была в ванной. Значит, мне следует поторопиться. Я принимаю душ, к моей радости, струя достаточно сильная, вода – горячая, и я могу стоять под душем, сколько захочу. Холодный душ, которым я привык заканчивать эту процедуру, тоже достаточно холодный. Мне странно думать, что Аня тоже, год за годом, стояла под этим душем, что Брур Скууг стоял здесь и что вскоре Марианне Скууг тоже придет принимать душ. Они были так тесно связаны друг с другом. Я чувствую, что вторгся в чужое пространство, смотрю на черно-белый кафель пятидесятых годов и на свое тело, отраженное в больших зеркалах.
Наконец я закрываю воду, чищу зубы, полощу горло – я готов к ночи.
И снова смотрю на себя в зеркало.
Интересно, как бы к этому отнеслась Аня? Понравилось ли бы ей, что я моюсь в этой ванной?
Я возвращаюсь в Анину комнату, в мое новое жилище. Свеча все еще горит. Я осторожно гашу ее.
Потом снимаю халат и голый ложусь в кровать.
Как странно так лежать, думаю я. В последний раз я лежал тут с Аней, но тогда я все-таки был одет.
Моя нагота тревожит меня. Я не могу найти удобную позу. Белье на кровать постелила Марианне. Оно белоснежное, прохладное, гладкое. И, конечно, дорогое. В этом доме все дорогое.
Неожиданно до меня снизу доносится музыка.
Поднимается из-под пола прямо под моей кроватью.
Я понимаю, что Анина комната расположена как раз над динамиками AR. Над усилителем McIntosh и проигрывателем Garrard. Звук сильнее, чем можно было себе представить. Я слышу гитару и голос, поющий по-английски. Наверняка это Джони Митчелл, думаю я. Песня звучит просто и красиво. Мне странно, что матери Ани Скууг нравится такая музыка, однако не мне ее судить.
Тело успокаивается. И я засыпаю.
Я просыпаюсь с сознанием, что лежу в Аниной комнате в доме на Эльвефарет. Знаю, что уже поздно и что Марианне Скууг еще не спит.
Маленький будильник показывает 02:34.
Снизу по-прежнему доносится музыка. Та же самая. Может, Марианне заснула? Нет, думаю я. Виниловые пластинки играют недолго. Макисмум двадцать четыре минуты. Если она заснула, то, наверное, только что. Я узнаю мелодию. «Morgontown». Она на пластинке первая, во всяком случае, так было, когда я впервые ее слушал.
Значит, она только что ее поставила? Может, это меня и разбудило?
Я лежу, размышляю, и меня охватывает тревога. Разве Марианне Скууг не должна завтра рано утром идти на работу? Не собирается пользоваться ванной с семи до восьми?
Звучит уже другая песня. Что-то вроде «For free…». Потом громко вступает сразу несколько гитар. Какое-то светлое, девичье настроение. Да, это красиво. Джони Митчелл. «He comes for conversation…»
Любопытство побеждает. Я встаю и надеваю халат. Останавливаюсь на лестнице, на последней ступеньке, отсюда мне видны и кухня, и гостиная.
На мое счастье, ступени здесь не скрипят. Наступает очередь главной мелодии – «Lаdies of the Canyon».
Марианне на кухне. Мне ее хорошо видно. Я стою в тени. Она меня не видит. Она ест. Остатки куриных крылышек. Салат. Подходит к холодильнику. Достает пакет с молоком. Пьет прямо из пакета.
Мне странно видеть ее на кухне за этим занятием. Она ест стоя. В ее движениях есть что-то сомнамбулическое. Что-то замедленное. Может, она действительно спит?
Я отступаю назад в темноту лестницы и поднимаюсь в свою комнату. Ложусь. Какое у меня право подглядывать за Марианне Скууг, со стыдом думаю я.
Проигрыватель продолжает играть.
Я засыпаю, я смертельно устал, мне грустно и тревожно.
Просыпаюсь я утром, уже половина девятого. Меня разбудил стук захлопнувшейся входной двери. Марианне Скууг ушла на работу.
Один на Эльвефарет
Как в доме тихо, думаю я, приняв душ и спустившись на кухню. И как странно находиться здесь одному. У меня такое чувство, будто я совершаю преступление, будто какое-то скрытое око наблюдает за мной и вот-вот зазвучит сигнал тревоги. Сейчас я больше всего думаю о Бруре Скууге. Ему не нравилось, когда мы с Аней оставались наедине. Но еще меньше ему понравилось бы, что я остался тут один, когда Марианне ушла на работу. Несколько месяцев назад он был еще жив. И Аня тоже была жива. Она была такая слабая, что все последние дни перед тем, как он совершенно неожиданно застрелился в подвале, лежала у себя в комнате. Надо будет спросить у Марианне, что, собственно, тогда случилось. Вместе с тем я должен думать о своей жизни. С этого дня для меня должен начаться новый отсчет времени. Я выхожу из дома и по Меллумвейен иду в центр Рёа, чтобы купить продукты у Рандклева. Молоко, кофе, хлеб, сыр, немного колбасы. На первое время этого достаточно. Первые дни я обойдусь без обеда. А если мне захочется горячего, можно поджарить бутерброды с сыром.
Вернувшись, я готовлю себе завтрак, пытаюсь заставить себя сесть и поесть, но тревога не отпускает меня. Я брожу по первому этажу с куском хлеба в руке, меня одолевает нереальность происходящего. Должно быть, точно так же чувствовала себя Белоснежка, оставшаяся одна первый раз в доме гномов. Но это не сказка. Отныне это моя действительность. Время бежит, утро уже кончилось. Мне надо заниматься. Страшно чувствовать, что мои пальцы потеряли гибкость, познакомившись с линейкой Сельмы Люнге. Но прежде чем подойти к роялю, я стою и рассматриваю фотографии Ани, Марианне и Брура, стоящие на полке с пластинками. Разные фотографии – на пляже, в каком-то городе, не могу понять, в каком именно. Свадебная фотография Марианне и Брура, на которой Марианне очень похожа на свою дочь. Брур обнимает ее с видом собственника. Фотографии Ани в Ауле под «Солнцем» Мунка, когда она выиграла Конкурс молодых пианистов. Аня среди елей в их саду. Аня, Аня, Аня, Марианне и Брур.
С тяжелым сердцем я сажусь к роялю с приветливо поднятой крышкой и робко пробую сыграть прелюдию до мажор из первого тома «Хорошо темперированного клавира». Это беспристрастно покажет мою технику. Звуки должны нанизываться, как бусины на нитку, с совершенно одинаковой силой. Я слышу, что у меня это не получается. Тогда я играю то же самое произведение медленно, беру ноты одну за другой, как плотник, прибивающий опалубку. Уже лучше. Отека на пальцах больше нет. Царапин тоже. Но прелюдия до мажор написана для правой руки. Надо проверить еще и левую руку. «Революционный этюд» Шопена. Уже после нескольких тактов я замечаю, что четвертый палец как будто онемел. Верный признак того, что я слишком мало занимался. Держать нужный темп я тоже не могу. Рука словно оцепенела. Если бы такое случилось в воде, я бы уже утонул. Я беспомощно сижу за роялем и жду, когда рука отдохнет. Наверное, так же в свое время сидела и Аня. Хотя она, безусловно, никогда не позволяла себе дойти до такого состояния, как я. И она, безусловно, никогда не доводила своих отношений с Сельмой Люнге до того, до чего их довел я.
Через девять месяцев я должен дебютировать. Время поджимает. Через девять месяцев я, по всей вероятности, буду сидеть перед этим прекрасным «Стейнвеем», модель А, обладающим особой глубиной и неповторимым звуком, в том числе и благодаря неукоснительной заботе о нем Брура Скууга, и в последний раз играть Бетховена, опус 110 перед тем, как выйду на сцену в Ауле. Сам Виллиам Нильсен все эти годы настраивал этот инструмент, он же настраивает и рояль в Ауле, и рояль на Норвежском радио. В то время как его коллега Трюгве Якобсен из «Грёндала & Cына» заботился об их технической исправности. Рояль подчинился властным рукам настройщика. Он не расстроен, хотя последний раз его настраивали уже давно. Я могу играть на нем седьмую или восьмую сонату Прокофьева в полную силу, и инструмент это выдержит. Но у меня еще нет этой силы. Именно ее я должен вернуть себе медленными и тяжелыми туше. «Революционный этюд» превратился в детскую игру «Колышки и молоток» для продвинутых учеников, в долбежку, и я методично «вбиваю колышки в доску». Музыке здесь уже нет места. Это вообще не музыка. Но я должен пройти через это, должен играть так, чтобы каждое туше обладало максимальной силой, как меня учила Сельма Люнге. И думаю, что если я все это выдержу, я посвящу свой дебютный концерт Ане, да, это будет концерт памяти великой талантливой пианистки, которая по непонятным причинам завяла, перестала есть, чудовищно похудела и, очевидно, исключительно из-за малокровия сорвалась во время исполнения концерта соль мажор Равеля с Филармоническим оркестром – концерта, который должен был стать ее триумфом.
Охваченный сентиментальностью, однако не теряя при этом сосредоточенности, я час за часом сижу за Аниным роялем и занимаюсь, медленно достигая прежнего уровня. Иногда я уже не в силах выносить этот стук, и тогда я виляю в сторону и играю прелюдию Дебюсси или «Лунный свет», который не могу забыть, потому что прошлое еще так близко. Я играю также и первую часть программы, составленной для меня Сельмой Люнге. Хочу овладеть ею как можно быстрее и забыть о ней уже до июня, чтобы не слишком устать от музыки. Потом играю Бетховена, опус 110. Эта соната в целом прозрачна, но протяженные линии в конце, в фугах, меня пугают. Уже с самого начала здесь требуется выражение внутренней сердечности, с чем не могли справиться куда более опытные пианисты, чем я. Соната должна звучать весомо и исполняться на высшем уровне рефлексии. Здесь важен возраст, думаю я. Такие произведения нельзя исполнять с молодым задором. От этого они будут выглядеть смешно. Они написаны человеком, который оглядывается на что-то в своем прошлом. Он не ждет того, что может случиться в будущем, но горюет о чем-то, что уже случилось, уже миновало, и, учтя это, Сельма Люнге, безусловно, поняла меня лучше, чем я сам себя понимаю. Страшные события, которые произошли весной, и происшествие в море у Килсунда что-то изменили во мне. И, может быть, именно преувеличенно светлое звучание в начале бетховенской сонаты так совпадает с моими воспоминаниями об Ане. Бетховен подошел к пределам своих возможностей. Так же и Аня, в то время как я остался на боковой линии, позволил ей победить меня на конкурсе, потерпел поражение в собственной жизни, постоянно терзаемый искушением погрузиться либо в горе, либо в невыразимую тоску. В мире Бетховена глухой человек, которому перевалило за пятьдесят, воспевает жизнь, воспевает музыку, хотя подспудно и понимает, что ему осталось написать не так уж много, что смерть ждет, отступив всего на шесть лет. Он был глухим уже в течение тринадцати лет. Он хотел покончить с собой. У него никогда не было счастливой связи с женщиной. Ему не суждено было жениться. О, какие же они все грустные, эти истории композиторов, истории их отчасти загубленной жизни, положенной на беспощадный алтарь музыки!
Когда Бетховен писал эту сонату, он выбрал трудную и редко употребляемую тональность ля-бемоль мажор, которую так любили и Шопен, и Моцарт. Тональность менее теплую, чем, к примеру, ре-бемоль мажор. Всякий раз, когда я играю в ля-бемоль мажоре, я почему-то думаю о стекле. Но Бетховен выбрал эту тональность, чтобы выразить сердечность и красоту. В своих трех последних сонатах он, вопреки всему, воспевал жизнь. Да, думаю я с глубоким почтением, сидя за роялем Ани и глядя на ели за окнами, вопреки всему это и создает масштаб художественного произведения. Мудрость. Печаль.
Так что Сельма Люнге, несмотря ни на что, выбрала для меня как раз то, что нужно.
У меня ломит спину, и я гляжу на часы. Три часа пополудни. Ладно, думаю я. Пять часов занятий на первый раз неплохо. Пальцы тоже больше не выдержат после линейки Сельмы Люнге. Я страстно ищу что-нибудь, что дало бы мне передышку от грустных мыслей, которым я предавался во время занятий. Мыслей о загубленной жизни, о прошлом и о настоящем. В этом доме меня не оставляет чувство, что дорога до смерти иногда бывает очень короткой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































