Текст книги "«Грамматика любви» И.А. Бунина: текст, контекст, смысл"
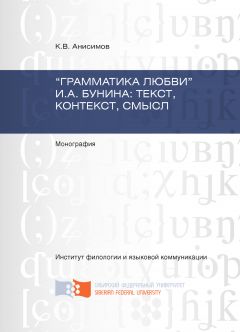
Автор книги: Кирилл Анисимов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Глава 1
«Любовь» и / как «Грамматика»: эволюция замысла и приемы соединения семантических полюсов текста (от рукописи к печатным редакциям)
Бунин придавал своему маленькому рассказу большое значение. В рукописи он указал не только точные дату и место окончания работы над текстом, но даже час и минуту: «12 ч. 52 м. в ночь с 17 на 18 февр. 1915 г. Москва»6868
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 429. К. 1. Ед. хр. 6. Л. 6 об. Далее ссылки на этот источник приводятся в тексте работы с указанием листа в скобках.
[Закрыть]. Дневник, в котором это указание повторено, содержит также трогательный сюжет о горничной Буниных Тане, которая тайком читает выброшенные писателем черновики.
Наша горничная Таня очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными бумагами, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает – медленно, с напряженьем, но с тихой улыбкой удовольствия на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется…
Как мы жестоки!6969
Устами Буниных: в 3 т. Т. 1. Франкфурт-на-Майне, 1977. С. 143. Запись от 22 февраля 1915 г.
[Закрыть]
Дневниковая запись словно варьирует содержание рассказа, в котором речь тоже идет о горничной Лушке и о любви к чтению, однако не ее, а помещика Хвощинского, ее возлюбленного и отца ее ребенка.
Рассказ перерабатывался писателем, и сегодня говорят о трех его редакциях: рукописной, первопечатной и позднейшей, относящейся к 1930– 1950-м гг.7070
Краснянский В.В. Три редакции одного рассказа // Русская речь. 1970. № 5. С. 57–62.
[Закрыть]. Последняя вошла в состав двух современных собраний сочинений Бунина 1960 и 1980-х гг. Стилистический аспект авторской коррекции текста был проанализирован В.В. Краснянским, который сделал вывод о переходном характере произведения, соединившего в своей поэтике черты лирического повествования раннего Бунина с отстраненной авторской позицией, присущей его поздней прозе7171
Краснянский В.В. Указ. соч. С. 62.
[Закрыть].
Несмотря на то, что в целом «правка касается преимущественно деталей, отдельных выражений»7272
Там же. С. 58.
[Закрыть], в ней содержится ряд нюансов, позволяющих говорить о существенной динамике замысла «Грамматики любви», словно пульсирующего между «тургеневским» сюжетом о роковой власти эроса7373
См. указанные выше работы О.В. Сливицкой.
[Закрыть] и социально-эстетической проблемой книги, чтения и письменной культуры в принципе. Недаром поводом, вдохновившим Бунина на написание рассказа, был «коллекционерский» подарок его племянника Н.А. Пушешникова, который презентовал писателю «маленькую старинную книжечку под заглавием “Грамматика любви”» (IV. 667). Не менее важно и продолжение интриги с таинственной книгой: находка А.В. Блюма7474
Блюм А.В. Из бунинских разысканий. I. Литературный источник «Грамматики любви» // И.А. Бунин: Pro et Contra. СПб., 2001. С. 678–681.
[Закрыть], установившего реальное издание, которое послужило прообразом «очень маленьк[ой] книжечк[и], похож[ей] на молитвенник» (IV. 50), стала одним из ярких историко-литературных открытий в истории изучения рассказа.
Первая проблема, на которой мы хотели бы остановиться, сосредоточена в заглавии текста, а точнее – в двух его заглавиях, представляющих концептуальную антитезу7575
См.: Рац И.М. Элементы иррационального в рассказе И.А. Бунина «Грамматика любви» // Русская литература. 2011. № 4. С. 157; Лебеденко Н.П. Интертекстуальность в рассказе И.А. Бунина «Грамматика любви» // 35 години катедра «Обща и сравнителна литературна история» на Великотърновски университет: юбилеен сб. Велико Търново, 2010. С. 62–66.
[Закрыть]. Рукопись донесла до нас эту двойственность замысла: ее начальный фрагмент представляет собой палимпсест. Первое заглавие «Невольник любви» энергично зачеркнуто и поверх него написано «Грамматика любви» (Л. 1). По существу в аналогичном соотношении находятся и главные смысловые слои рассказа. В рукописи их взаимодействие акцентировала вынесенная в эпиграф цитата из «Последней смерти» Баратынского: «Есть бытие, но именем каким / Его назвать? – ни сон оно, ни бденье…» (Л. 1). В позднейших редакциях, включая первопечатную, эпиграф отсутствует: из «сильной» позиции начала дуализм сна и яви, емко выраженный Баратынским, извлечен и запрятан вглубь текста.
В описаниях жилища Хвощинского все редакции «Грамматики любви» содержат частотные образы со значением изоляции: дом с толстыми стенами и недостатком окон, вереница опустелых комнат, которые проходит Ивлев со своим спутником на пути к каморке «в два окна» (IV. 49), последнему пристанищу странного помещика. Парадоксальность положения Хвощинского прочитывается в историко-социальной перспективе: вольный хозяин поместья становится в нем «пленником». Начиная с ремарки о двадцатилетнем сидении неутешного вдовца на Лушкиной кровати, повторяющиеся детали со смыслом сковывания, обездвиживания героя приводят читателя к заветной шкатулке, «углы которой были отделаны в серебро» (IV. 50). Шкатулка заключает в себе Лушкино ожерелье – «заношенный шнурок, снизку дешевеньких голубых шариков» (IV. 50). Шаг за шагом концентрически сужая топографические охваты своего текста – «по принципу воронки», как охарактеризовал этот сюжетный прием рассказа А.К. Жолковский7676
Жолковский А.К. «В некотором царстве»: повествовательный тур-де-форс Бунина // Toronto Slavic Quarterly. 2014. № 50. Fall. P. 148.
[Закрыть], Бунин наконец фокусирует внимание на микропространстве коробки с дешевыми бусами – пределе закрытости и таинственности того мира, который в буквальном смысле открывает Ивлев. (Заметим, что одна из книг библиотеки Хвощинского озаглавлена Буниным отчетливо метатекстуально – «Чудесное путешествие в волшебный край» [IV. 49].) Смыслы неволи и пленения логично подытожены в финале рукописного текста: Ивлев «всё думал о Лушке, о ее ожерелье и о невольнике ее» (Л. 6 об.).
Однако слово «невольник» зачеркнуто, и вся характеристика принципиально изменена. В окончательной редакции читаем: «…ожерелье <…> оставило в нем чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при взгляде на реликвии одной святой. “Вошла она навсегда в мою жизнь!” – подумал он» (IV. 51–52). «Невольник»-герой и заглавие «Невольник любви» кренили бы равновесную концепцию рассказа в сторону эроса и его жертвы, чего, пусть не сразу, Бунин посчитал нужным избежать, стремясь не только отчетливее сказать о Хвощинском как о «редк[ом] умниц[е]» (IV. 46), но и подчеркнуть главную эмоциональную ноту в сознании Ивлева: подверженность токам обаяния, идущим от Лушки – никогда не встречавшейся герою в пору его юности и давно умершей, – в реальном времени фабулы. «Я в молодости был почти влюблен в нее» (IV. 45). «Вошла она навсегда в мою жизнь» – это последнее признание путешественника, достающего из своего кармана книгу Демольера, купленную у Хвощинского-младшего и читающего восьмистишие, сочиненное несчастным любовником, словно переводит любовь к Лушке с языка фольклора («Ах, эта легендарная Лушка» [IV. 45] – первая фраза, которой вводится в рассказ его внефабульная героиня) на язык изящной поэзии, при помощи которого автор выписывает сознание Ивлева, знатока романтических стихов и редких книг. О сложном отношении «чувства» и «литературы», о прозрачности границы между ними и о конвертации одного в другое косвенно свидетельствуют еще два фрагмента рукописи, зачеркнутых Буниным в процессе работы.
Для человека, без остатка подвластного чувству, культура неважна, она очевидно – лишний элемент в его фиксации. О недоверии такому, только на одном сосредоточенному герою, свидетельствует первоначальная характеристика его книг: «Ужасная чепуха была в этой библиотеке» (Л. 5). Устанавливая на первых порах дистанцию между Хвощинским и путешественником, автор подчеркивает отсутствие пафоса и автоматизм поведения последнего: изучая собрание, «Ивлев машинально пересматривал книги» (Л. 5 об.). Переработав затем эти характеристики, автор стер рубеж, отделявший сознание Ивлева, героя фабулы, от персонажа, превратившегося в воспоминание, сделал возможным появление у Ивлева доверия к Хвощинскому и его истории и в конечном счете направил их обоих к встрече в пространстве памяти7777
Жанровым прообразом этой эмоциональной ситуации является элегия, «лирическое событие» которой – «ценностная встреча с почившим в неизвестности». См.: Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода. Очерки типологии и истории. М., 2013. С. 48.
[Закрыть].
Подчеркнем, однако, что дополнительной «энергией», которой автор усиливает и проясняет характер Хвощинского, служит именно культура. Наряду с приведенными примерами обращает на себя внимание то, что фрагмент с немного манерным «изъяснение[м] языка цветов» интерполирует основной текст и помещен на полях (Л. 6 об.). Очевидно, что Бунин написал его позднее7878
В таких случаях можно говорить о том, что поля рукописи играют в отношении основного текста «роль бесконечного эха», являются «постоянным источником все новых и новых его редакций». Неф Ж. Поля рукописи // Генетическая критика во Франции. Антология. М., 1999. С. 212.
[Закрыть], намереваясь поначалу сразу перейти от последней фразы, выписанной Хвощинским из книги Демольера, к восьмистишию, придуманному самим помещиком. Во фрагменте этой выписки («Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: прежде, чем мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки…» [Л. 6 об.]) Бунин подчеркнул последние слова волнистой линией7979
В первопубликации подчеркнутый фрагмент набран разрядкой. См.: Бунин И.А. Грамматика любви // Клич: Сборник на помощь жертвам войны / под ред. И.А. Бунина, В.В. Вересаева, Н.Д. Телешова. М., 1915. С. 52.
[Закрыть], как бы в последний раз акцентировав мотив невольничества. Однако затем писатель решил уравновесить «фаталистическую» зависимость героя от женских чар изящным пассажем о «языке» цветов как аллегорий чувства. Так Хвощинский был, пусть не полностью, отделен от «ошеломившей», изолировавшей его страсти и частично возвращен культуре8080
Показательно, что и внедренная в бунинский рассказ книга Демольера “Code de l’amour” отличается, по наблюдению Н.П. Лебеденко, от фривольных сочинений «галантной» эпохи XVIII в. своим отчетливо знаково-эмблематическим характером и нравственным пафосом. См.: Лебеденко Н.П. Интертекстуальность в рассказе И.А. Бунина «Грамматика любви».
[Закрыть]. В сплошной фольклоризации его сознания (он «Лушкиному влиянию приписывал буквально всё, что совершалось в мире…» [IV. 46]) оставлен зазор для памяти, ума и эстетики, позволяющий оспорить прозвучавшие в начале рассказа слухи о сумасшествии землевладельца. Впрочем не будем забывать, что цитирующееся в «Грамматике любви» стихотворение Баратынского «Последняя смерть» описывает погружение человечества в онейрическое состояние как окончательный и гибельный разрыв с культурой8181
Ср.: Кучеровский Н.М. И. Бунин и его проза (1887–1917). Тула, 1980. С. 211–212.
[Закрыть].
Другой мотивной линией, на которую мы хотели бы обратить внимание и в которой тоже переплетаются фундаментальные для Бунина темы любви и культуры, является линия «сладкого», «меда» и пчел. На этом мотивном блоке в буниноведении останавливались несколько раз – как непосредственно в связи с данным рассказом, так и в широком контексте художественного языка писателя8282
O’Hearn S. Dead Bees: a New Subtext for Mandel’shtam’s “Voz’mi na radost’…” // Slavonic and East European Review. 1993. Vol. 71. № 1. P. 96–101; Сафронова Э. И.А. Бунин и русский модернизм (1910-е гг.). Вильнюс, 2000. С. 58; Пожиганова Л.П. Мир художника в прозе Ивана Бунина 1910-х годов. Белгород, 2005. С. 134; Ляпина Л.Е. «Сладкое» и «горькое» в русской лирике // Универсалии русской литературы. 3. Воронеж, 2011. С. 118–126; Ляпина Л.Е. «Горький мед» в лирике «Серебряного века» (И. Бунин, Ф. Сологуб, Саша Черный) // Универсалии русской литературы. 4. Воронеж, 2012. С. 509–515.
[Закрыть]. Семантика имени Лушки (Лукерьи, Гликерии) подсказывает, как справедливо отметила Л.П. Пожиганова, значимость «сахарного» кода рассказа. Ожидаемость многократно зафиксированных в поэзии риторических сближений любви и «сладкого»8383
Тарановский К. Пчелы и осы. Мандельштам и Вячеслав Иванов // Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 142–143.
[Закрыть] избавляет нас от ненужной в данном случае детализации. Важнее для нас иное: проницаемость концептосферы «сладкого» для других, совсем не любовных смыслов. Мы имеем в виду реализованную в мотивной структуре рассказа и восходящую еще к Платону8484
Там же. С. 126.
[Закрыть] архетипическую связку пчел и меда с чтением, книгой и поэтической культурой. Можно утверждать, что «Грамматика любви» относится к той группе репрезентирующих эпоху текстов, в которых обе грани древнего мифообраза словно наложены друг на друга – в точном соответствии с уже рассмотренным мерцанием культуры сквозь семантику любовной катастрофы.
Простой подсчет позволяет обнаружить аккуратное, но настойчивое внедрение в текст семантического поля сладкого, соответствующих ему эмоциональных состояний и предметного ряда. «Сладкий ветерок» (IV. 44), «сладостные воспоминания» (IV. 51), «В преданьях сладостных живи» (IV. 52), трава с «краснеющей земляникой», а рядом – «чья-то маленькая пасека, несколько колодок, стоявших на скате» (IV. 46). Даже некоторые собаки из своры, напавшей на тарантас Ивлева, были «шоколадных» цветов (IV. 47). И наконец, центральный образ этой семантической линии – мертвые или, как сказано в рукописи и первопечатной редакции, «колелые» пчелы (Л. 5)8585
Бунин И.А. Грамматика любви // Клич: Сборник на помощь жертвам войны. С. 51.
[Закрыть], впоследствии замененные «сухими» (IV. 49). Отчасти примыкает к этому перечню и эпитет, которым в рукописи Бунин охарактеризовал «тугие и круглые» руки графини, – «свекольные» (Л. 1 об.), что не только указывало на их вульгарный пунцовый цвет, но и отсылало к сладости всем известного овоща. Сама поездка Ивлева сопровождается прореженной позднее8686
См.: Краснянский В.В. Три редакции одного рассказа. С. 60.
[Закрыть] чередой указаний: «ехать <…> было очень приятно»; «ехать было все-таки отлично»; «такого пути Ивлев не знал, и это тоже было приятно»8787
Бунин И.А. Грамматика любви // Клич: Сборник на помощь жертвам войны. С. 47, 48, 49.
[Закрыть]. Как кажется, само допущение повторов обусловлено отмеченной в науке8888
См.: Зоркая Н.М. Возвышение в прозе. «Грамматика любви» И.А. Бунина // Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900–1910 годов. М., 1976. С. 256–257; Капинос Е.В. «Некто Ивлев»: возвращающийся персонаж Бунина // Лирические и эпические сюжеты: Материалы к Словарю сюжетов русской литературы. Вып. 9. Новосибирск, 2010. С. 134.
[Закрыть] энергетикой Лушки, словно втягивавшей в свою ауру Ивлева. Мифологизацией ее образа можно объяснить и «сброс» принципиально важной биографической детали, не вошедшей в опубликованные варианты рассказа: Лушка умерла «от родов» (Л. 2 об.). Много позднее, скажем, в рассказе «Натали» из цикла «Темные аллеи» подобные детали Бунина смущать уже не будут, пока же ему нужна поэтизация Лушки, извлечение ее из рутины повседневности, соединение с тем эстетическим возвышенным, которое определяет собой сознание Хвощинского. Сокращение бытового в структуре ее образа, превращение лица в лик (ср. итоговое сопоставление Лушки с итальянской святой) – всё это метаморфозы горничной в сознании сначала Хвощинского, а затем и Ивлева. Показательна в этом смысле еще одна зачеркнутая Буниным ремарка. После слов о «любви непонятной», превратившей судьбу Хвощинского «в какое-то экстатическое житие» – и всё из-за «загадочной в своем обаянии Лушки» (IV. 50), в рукописи читается пояснение: «…не случись какой-то загадочной в своем обаянии или только ставшей таковой в свете этой любви Лушки…» (Л. 5 об.). В опущенном замечании читателю давалась несомненно упрощавшая замысел рассказа и потому в конечном счете убранная подсказка о различии планов сознания и реальности, сна и яви. Думается, данная оговорка вместе с конкретизацией обстоятельств Лушкиной смерти, подробным описанием внешности графини, parvenu и сниженной сюжетной проекции Лушки, были потому в итоге сняты Буниным, что более важной для него оказалась интерференция обеих сторон бытия: полюсá исходной оппозиции сближались – «истинное» и «кажущееся» образовывали недифференцированное пространство проблематического синтеза. Недаром в цитате из Баратынского «есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье: – меж них оно…»8989
Бунин И.А. Грамматика любви // Клич: Сборник на помощь жертвам войны. С. 51.
[Закрыть]. Этот смысл промежутка-наслоения был графически акцентирован разрядкой, а в рукописи – карандашным подчеркиванием.
Как работает такая закономерность в концептуальном поле «меда», «сладкого», «пчел», «поэзии»? По В.Н. Топорову, «идеальное устройство общества в его монархическом варианте, которое нередко соотносимо с пчелиным ульем, противопоставлялось муравейнику как образу демократически-уравнительного общежития. Высокая степень “организованности” пчел и меда (особенно сотового), олицетворяющих начало высшей мудрости, делает пчел и мед универсальными символами поэтического слова, шире – самой поэзии…»9090
Топоров В.Н. Пчела // Мифы народов мира: в 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 355.
[Закрыть] Ученый подчеркнул внедрение смысла иерархического мироустройства в образы пчел и меда. Наслаждение поэзией9191
В другой своей работе В.Н. Топоров указывает на установившуюся еще во времена Тредиаковского связь между концептами «сладости» и «чтения». См.: Топоров В.Н. У истоков русского поэтического перевода («Езда в остров любви» Тредиаковского и “Le voyage de l’isle d’Amour” Талемана) // Из истории русской культуры. Т. IV. М., 1996. С. 597. Прим. 7.
[Закрыть], наслаждение любовью вписано Буниным в историософскую, если не прямо историко-политическую, глубоко запрятанную в текст аллегорию потери разума человеком, слывшим «в уезде за редкого умницу» (IV. 46).
Иерархия, основанная на культуре и интеллекте, претерпевает слом; к «аполлоническому» образу пчел и поэзии-меда присоединяется цепочка типичных для усадебных сюжетов писателя образов запустения, оскудения и одичания (ср. одичавших собак, заброшенную пасеку). Характерным для бунинской прозы способом продемонстрировать крах прежних иерархий является перемешивание свойств, традиционно закрепленных за отстоящими друг от друга социокультурными реалиями. Так, о том, что графиня дома, подъезжающему к ней Ивлеву сообщил «пахавший возле деревни» … «старик в очках»9292
Бунин И.А. Грамматика любви // Клич: Сборник на помощь жертвам войны. С. 47.
[Закрыть]. Последняя деталь, учитывая настойчивость писателя на сверхъестественной остроте собственного зрения9393
См.: Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 2007. С. 74.
[Закрыть], чувствительность к зрительным впечатлениям и приверженность технике насыщенного колористического описания, заслуживает, думается, специального комментария.
В.В. Краснянский назвал встречу с пашущим стариком в очках сценой «поразительно нетипичной» и этим объяснил ее изъятие из поздних редакций рассказа9494
Краснянский В.В. Три редакции одного рассказа. С. 59.
[Закрыть]. Тем не менее в первопубликации автор счел возможным ее оставить: поначалу она его очевидно не смущала. Действительно, в 1910-е гг. очки как деталь портретной характеристики персонажа часто появляются на страницах бунинской прозы. Всякий раз очки символизируют культуру и чтение. Приведем несколько знаковых примеров. В повести «Деревня» (1910) Кузьма Красов вспоминает первые жизненные уроки, преподанные ему базаром, где Кузьма со своим братом Тихоном получали первое «образование». Они «…проделали раз такую штуку: мимо дверей лавки каждый день проходил из библиотеки сын портного Витебского, еврей, лет шестнадцати, с бледно-голубым лицом, страшно худой, ушастый, в очках, и на ходу пристально читал, а они накидали на тротуары щебня – и еврей – “ученый этот!” – полетел так удачно, что разбил в кровь колени, локти, зубы…»9595
Бунин И.А. Деревня // Современный мир. 1910. № 10. С. 4.
[Закрыть] Похожую зарисовку встречаем в рассказе «Игнат» (1912). Здесь возвращающийся из армии главный герой едет в товарном вагоне вместе с евреем «в очках, в полуцилиндре, в длинном до пят пальто <…> Еврей долго, с раздражением смотрел сквозь очки на Игната. Игнат ждал, что скажет еврей, чтобы ударить его после первых же слов сапогом в грудь. Но еврей ничего не сказал…» (III. 283–284). В этом примере непосредственно о чтении не говорится, но социокультурная граница между персонажами прочерчена весьма явственно. Крестьяне в рассказе «Личарда» (1913) точно подмечают портретную деталь во внешности их барина: «Барин у нас никуда, голова толкачом, голая, наденет очки – чистый филин…». Вместе со своей подругой он имел обыкновение читать на природе. «Вынесут им, бывало, в сад под яблонку ковер, подушки, лежат и читают. <…> Она в одну сторону, он – в другую, так и блестит очками из травы, как змей» (III. 355).
В образе пашущего старика контаминированы свойства противоположных, слабо связанных друг с другом социокультурных миров – данный прием описания типичен для Бунина в это время. Так, на пути к имению Хвощинского Ивлев встречает женщину «в летнем мужском (курсив наш. – К.А.) пальто, с обвисшими карманами» (IV. 48), а недалекий и жадный незаконный сын помещика оказывается почему-то одетым в серую гимназическую блузу (IV. 48). Аналогичную деталь встречаем в описании одного из самых одиозных героев прозы писателя этих лет – Егора Минаева из рассказа «Веселый двор» (1911). На голове этого люмпенизированного типа красуется гимназический картуз (III. 244). Таким образом, если в образе старика в очках что-то и могло насторожить впоследствии Бунина, то это некоторая нарочитость присоединения культурного индикатора (очки) к портретной характеристике пашущего крестьянина. Между тем появление самого такого индикатора, как элемента металитературной стратегии рассказа, было вполне закономерным: очки на лице пашущего старика – элемент микроуровня частных ситуаций повествования – точно соответствовали основной коллизии макроуровня сюжета: истории Хвощинского и Лушки.
Мена героями своих традиционных природных ролей недаром была поставлена в центр одной небезынтересной мифопоэтической интерпретации «Грамматики любви». Спроецированная на образ погибших пчел, любовь Хвощинского и Лушки трактуется в данном ключе следующим образом: королевой символического «улья» становится Лушка, за соитие с ней пчела-производитель платит жизнью, при этом смерть «королевы» неизбежно влечет за собой и гибель всех остальных пчел9696
См.: O’Hearn S. Dead Bees: a New Subtext for Mandel’shtam’s “Voz’mi na radost’…”. P. 98–99.
[Закрыть]. В перспективе такого понимания пчела символизирует производительную силу, ассоциирующую ее с подземным миром, но, учитывая краткую земную жизнь Лушки и ее смерть от родов, плодородие как смысл образа ставится в «Грамматике любви» под вопрос и делает приведенную мифопоэтическую интерпретацию шаткой.
Гибель пчел символизирует не только прекращение телесной любви героев, выражающих всей своей житейской сутью (а Лушка – и именем) «сладость» жизни (примечательная деталь – свечи на иконе, желтеющие «воском, как мертвым телом» [IV. 49]; церковные свечи делались из пчелиного воска)9797
Здесь не исключены и толстовские ассоциации, к которым Бунин в своей прозе прибегал неоднократно. На «роевое» начало пчелиного бытия как на «символ естественной человеческой жизни» обратил внимание комментатор «Войны и мира». См.: Ранчин А.М. Символика в «Войне и мире»: Из опытов комментирования книги Л.Н. Толстого // Ранчин А.М. Перекличка Камен: Филологические этюды. М., 2013. С. 100. Впрочем, в «биологических» метафорах Толстого (Ср.: Maiorova O. From the Shadow of Empire. Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855–1870. Madison, 2010. P. 143– 154 [гл. “Biological Metaphor in War and Peace”]) иерархический характер пчелиной роевой организации явно не подразумевался.
[Закрыть]. Разбросанные у входа в библиотеку мертвые пчелы означают также немоту, бессилие словесного искусства; изолированная и никому не нужная библиотека, грубо пересчитываемая на деньги, в такой же степени связана с общей атмосферой гибели и упадка, в какой венчальные свечи символизируют тела двух мертвых любовников. И в данном случае, пожалуй, единственный раз во всем повествовании Бунин словно в духе символистов отчетливо проводит границу между мирами эмпирическим и идеальным. Проблема, однако, заключается в том, что итоговый текст снова не дает читателю ни одного свидетельства об этом глубинном тектоническом разломе. Обратим внимание на слово ложь, дважды повторенное в рукописи и один раз употребленное в первопечатной редакции. В крайне важном диалоге Ивлева с возницей о причинах смерти Лушки (парень настаивал на том, что она утопилась, Ивлев с ним спорил) простоватый собеседник путешественника, образ которого сориентирован на устную стихию народной речи, возразил пословицей: «люди ложь, и я то ж, – сказал малый» (Л. 3). Второй раз в рукописи и единственный раз в редакции 1915 г. слово повторяется – на сей раз в выпущенной позднее первой строфе стихотворения Хвощинского: «Обречены с тобой мы оба / На грусть в сем мире лжи и зла! / Моя любовь была до гроба, / Она со мною умерла»9898
Бунин И.А. Грамматика любви // Клич: Сборник на помощь жертвам войны. С. 53.
[Закрыть].
Мир и, в частности, мир народной молвы, понимаемый как ложь, образует своеобразное поле отчуждения вокруг Ивлева, постоянно спорящего с непонятливым мужиком-возницей, а также, конечно, вокруг Хвощинского и его библиотеки с изящной книгой Демольера. Примечательно, что комнаты хозяина после его смерти не заняты. Знаковый для эпохи сюжет въезда новых владельцев в оставленное прежними барами имение здесь словно нарочно остановлен – притом что Бунин обращался к этой чеховской теме не раз (ср. рассказ «Последний день» или знаменитую повесть «Деревня»). «Да нет, – говорит Хвощинский-младший своему собеседнику, – вы, пожалуйста, не снимайте картуз, тут холодно, мы ведь не живем в этой половине» (IV. 48). Если такое прочтение верно, то понятными становятся финальная сцена и ее связь с последними словами рассказа: Ивлев увозит из обреченного поместья его главный раритет, который заново обращает свои страницы внешнему миру. Сладость чувства Хвощинского преображена на этих страницах в сладость поэзии. «Но ей сердца любивших скажут: / “В преданьях сладостных живи!” / И внукам, правнукам покажут / Сию “Грамматику любви”»9999
Там же.
[Закрыть].
При несомненной и много раз отмеченной (в том числе – самим Буниным) связи «Грамматики любви» с написанным через год рассказом «Легкое дыхание» повествовательная линия, соединяющая в них «любовь» с «книгой», проведена по-разному. Если в «Легком дыхании» книжная формула сначала воплощалась в телесном признаке Оли (особенности ее дыхания), а затем – в природном мире, то здесь последовательность обратная: коллизии «настоящего» эроса даны в снятом виде – не концепт воплощается в живой героине, а она сама (мертвая и потому невидимая читателю) транслируется через книжный концепт. Частным следствием этого является различие способов репрезентации Оли и Лушки. Так, читатель видит Олю Мещерскую во всех нюансах ее внешности, а портретные экфрасисы пронзают всё повествование. В «Грамматике любви» экфрастичность редуцирована только до старой иконы в серебряной ризе: телесный облик Лушки в высшей степени «гадателен», читающееся в рукописи и первопечатной редакции упоминание о комнате «с черными масляными картинами на синих стенах»100100
Бунин И.А. Указ. соч. С. 51.
[Закрыть] впоследствии снято. Учтем здесь и отличия исходных творческих импульсов, инспирировавших оба рассказа. Наблюдение могильного креста «с фотографическим портретом на выпуклом фарфоровом медальоне какой-то молоденькой девушки с необыкновенно живыми, радостными глазами»101101
Бунин И.А. Происхождение моих рассказов // Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т. Т. 9. М., 1967. С. 369.
[Закрыть] – это персональная история, предшествовавшая созданию «Легкого дыхания». Факторами, позволившими сформулировать концепт «Грамматики любви», стали дистрибутивно соотносящиеся со зрительным наблюдением слух и чтение. Ср.: «Мой племянник Коля Пушешников, большой любитель книг, редких особенно <…>, добыл где-то и подарил мне маленькую старинную книжечку под названием “Грамматика любви”. Прочитав ее, я вспомнил что-то смутное, что слышал еще в ранней юности от моего отца о каком-то бедном помещике из числа наших соседей, помешавшемся на любви к одной из своих крепостных…»102102
Там же.
[Закрыть] Итак, Лушку читатель не видит, но, что очень важно, он о ней слышит. Устное и письменное начала соотнесены, и движение Ивлева в тексте – это движение от первого ко второму (движение Хвощинского, как нетрудно понять, было обратным). «Рассеяние» «в мире» цитаты из «смешной книги», т. е. собственно легкого дыхания, происходит через посредство самой Оли. В «Грамматике любви» напротив – возвышение эроса дано минуя героев, через книги, сквозь «шершавые» страницы которых Ивлев «разглядел» подлинного Хвощинского. В эпоху, когда главенствующим историческим нарративом было решительное символическое соединение социальных верхов с эрзацами народной культуры103103
См.: Шевеленко И. Империя и нация в воображении русского модернизма // Ab Imperio. 2009. № 3. С. 171–172.
[Закрыть], Бунин ювелирными движениями своего пера показал преимущества высокой европейской словесности (ср. преображение деревенской горничной в итальянскую святую), создав в феврале 1915 г. не только шедевр любовной прозы, но и знаковый металитературный документ. Близость хронологий создания «Грамматики любви» и стихотворения «Слово», ставшего бунинским манифестом (помечено 7 янв. 1915 г. [I. 287]), лишний раз подтверждает эту тенденцию.
Закончить главу мы хотели бы обращением к ее началу. Напомним, что дневниковым «конвоем» «Грамматики любви» стала запись от 22 февраля, посвященная горничной Буниных Тане, читавшей выброшенные писателем черновики. Безотносительно к анализирующемуся здесь рассказу С.Н. Бройтманом было подмечено внимание Бунина к этому дневниковому фрагменту104104
Бройтман С.Н., Магомедова Д.М. Иван Бунин. С. 580.
[Закрыть]. Художник помнил про него и включил отрывок в книгу «Окаянные дни». Несущественно изменив главный текст, финальную реплику Бунин решительно переписал, усилив ее значение и звучание. В оригинале было: «Как мы жестоки!». В «Окаянных днях»: «Как жестоко, отвратительно мы живем!»105105
Бунин И.А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи / сост., подг. текста, предисл. и коммент. А.К. Бабореко. М., 1990. С. 74.
[Закрыть]. Учитывая знаковость имени Таня для Бунина (ср. рассказы «Танька» [1892] и «Таня» [1940]), можно предположить, что писатель не только «олитературивал» свою горничную, смотрел на нее сквозь призму литературного сюжета106106
О «Таньке» и «Тане» как вехах в развитии бунинской любовной сюжетики см.: Сливицкая О.В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. С. 184–187.
[Закрыть], но и придавал диагностически острой культурной ситуации (не очень грамотная, но любящая читать и читающая «медленно, с тихой улыбкой на лице»107107
Бунин И.А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. С. 74.
[Закрыть]) характер универсального обобщения, в котором психологическое и социоисторическое начала, образуя единство, вместе оттеняли катастрофу «окаянных дней», свидетельствовали о ней и в значительной степени объясняли ее. То же можно сказать и о «Грамматике любви». Нет сомнений в правоте исследователя, утверждавшего, что в мире Бунина «между духовным и физическим началами нет и не может быть антагонизма, <…> физическая любовь и есть поэтическая любовь»108108
Сливицкая О.В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. С. 186.
[Закрыть]. Вся логика непредвзятых наблюдений над редакциями рассказа о Лушке и Хвощинском приводит нас к сходному выводу. Однако целостность бунинского мировидения заставляет не убирать из поля зрения культурные конфликты, не выносить за скобки, а ставить их в перечне привлекаемых к анализу фактов рядом с трагической пульсацией феноменологически «чистого» эроса, поскольку эти конфликты понимались Буниным как глубокое, врожденное и, вероятно, неизбывное противоречие между истинным и знаковым, между полноценным бытием и в той или иной степени ущербными попытками выразить его в слове. Особенный драматизм данному переживанию сообщается тем, что указанное противоречие рассекает авторское сознание в его биографической и эстетической ипостасях. Следующая глава нашей работы будет посвящена именно этой теме.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































