Текст книги "«Грамматика любви» И.А. Бунина: текст, контекст, смысл"
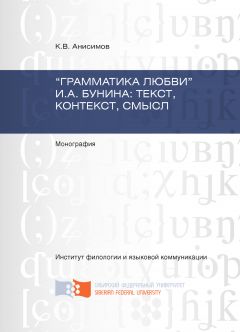
Автор книги: Кирилл Анисимов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава 2
Литературность и ее границы: два представления о книге в эстетике М.А. Бунина
В формуле Р.О. Якобсона, гласящей, что «предметом науки о литературе является не литература, а литературность, т. е. то, что делает данное произведение литературным произведением»109109
Якобсон Р.О. Новейшая русская поэзия // Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 275.
[Закрыть], А. Компаньон увидел не только постановку вопроса о приёмах, в частности, об остранении и усложнении поэтического языка, дистанцирующегося от языка обыденного, но также стремление самой новой теории к обособлению от соседствующих, прежде всего, вульгарно-политических дискурсов110110
Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М., 2001. С. 47–48.
[Закрыть]. Независимость науки была залогом автономности ее предмета, а источником последней выступал приём, троп. Из исторической поэтики мы знаем, что тропы сигнализируют о возникшем ощущении границы между словом и объектом, к которому оно относится, об осознании переносного значения слова, о появлении зачатков рационально-понятийного мышления111111
См.: Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М., 2004. С. 33.
[Закрыть]. Наряду с тропами и приёмами суверенизации литературы и выработке ее литературности способствует, очевидно, и жанр112112
См.: Силантьев И.В. Сюжетологические исследования. М., 2009. С. 199 и сл.
[Закрыть].
В работах С.Н. Бройтмана показано, что начавшееся в конце XIX в. переосмысление традиционного для философской культуры Европы рационального субъекта познания провело, в числе прочего, рубежную линию между классической и неклассической поэтикой113113
Бройтман С.Н. Русская лирика XIX – начала XX века в свете исторической поэтики. (Субъектно-образная структура.) М., 1997.
[Закрыть]. Этот факт заставил, в свою очередь, остро поставить вопрос о границах литературы как вида эстетической деятельности. В случае с Буниным литературоведами данная ситуация определяется как кризис антропоцентризма, на смену которому пришел антропокосмизм114114
См.: Сливицкая О.В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина.
[Закрыть]. В условиях эпистемологической неопределенности, когда нельзя было четко ответить на вопрос «что есть человек?» – жалкий вырожденец, например, Макса Нордау или Заратустра Фридриха Ницше – подобная же неопределенность распространилась и на понимание задач литературы. В связи с творчеством М. Пруста М. Мамардашвили заметил, что в новой культурной ситуации «произведение <…>, написанное как авторское изложение каких-то идей, картин и т. д., в то же время написано как анализ самой возможности что-то излагать»115115
Цит. по: Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. С. 263. Метафикциональная поэтика русской прозы первой половины XX в. рассмотрена Н. Григорьевой и М. Хатямовой. См.: Григорьева Н. Anima laborans: писатель и труд в России 1920–30-х гг. СПб., 2005; Хатямова М.А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века. М., 2008.
[Закрыть]. В этой перспективе зарождение научного литературоведения, разработавшего инструментарий идентификации литературного объекта («литературного факта») совпало с острым кризисом такой идентификации, пережитым самими субъектами литературной деятельности.
Нас будет интересовать двойственность бунинского представления о литературном письме и о книге как его материальном воплощении, своего рода артефакте словесного творчества116116
На материале русской литературы от Пушкина до Чехова образ книги и ее читателя получил освещение в работах Дечки Чавдаровой. Чавдарова Д. Homo Legens в русской литературе XIX века. Шумен, 1997; Она же. Шпонька и Обломов – отсутствие чтения (отказ от чтения) // Russian Literature. 2001. Vol. 49. С. 315–323. В связи с Буниным данная проблема поднималась в статье: Кудасова В.В. Герой и книга в художественной прозе И.А. Бунина // И.А. Бунин и XXI век: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 140-летию со дня рождения писателя. Елец, 2011. С. 86–95. Одна из частных составляющих темы: Вдовин А. Почему Митя читал Писемского? (к интерпретации повести И.А. Бунина «Митина любовь») // Con amore: историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой. М., 2010. С. 65–72.
[Закрыть]. Главные тезисы данного раздела работы заключаются в следующем.
Эстетическая проблема, мучившая Бунина на протяжении зрелых лет его деятельности, может быть сформулирована в виде двух альтернативных друг другу вопросов117117
В отличие от Толстого, как показала О.В. Сливицкая, Бунин принципиально не знал единственного ответа на вопрос о назначении искусства. См.: Сливицкая О.В. «Что такое искусство?» (Бунинский ответ на толстовский вопрос) // Русская литература. 1998. № 1. С. 45.
[Закрыть]. Во-первых, является ли литература эстетическим механизмом и самостоятельной знаковой системой, противопоставленной как носитель сакраментального смысла неупорядоченной реальности как хаосу? В перспективе такой постановки вопроса книга превращается в суверенный образ: картины библиотек у Бунина в «Антоновских яблоках», «Грамматике любви», «Архивном деле», «Несрочной весне», «Жизни Арсеньева» хорошо известны. Во-вторых, является ли литература ложной деятельностью, заведомо ущербной по отношению к «истинной» жизни и не способной ее адекватно описать? В данной перспективе литература трактуется как ненужная условность, что влечет за собой в числе прочего резкую проблематизацию авторского слова, так как оно продолжает оставаться по своей природе словом литературным.
В первом случае понимание художественной словесности как эстетической системы, традиции и институции вызывает к жизни несколько приемов описания: книга предстает перед читателем как отграниченный объект, заключаясь в своего рода семиотическую рамку, отделяющую ее от соседствующих с нею реалий предметно-вещного мира, проецируется на идеи рациональности, каноничности, а иногда – власти. Семиотическая природа книги понимается как способность означать и конвенционально описывать мир. Главной характеристикой этих свойств является рамка, необходимая для превращения книги в артефакт, ее образа в экфрасис, а ее содержания в метатекст. В эмоциональной перспективе произведения созданная таким способом образная конструкция вызывает отношение любования ею со стороны повествователя и читателя. Любование характерно направлено «снизу вверх»: с позиции относительно образованного современника на непререкаемые в своем культурно-эстетическом качестве образцы. Данное обстоятельство не противоречит тому, что в социальном отношении такое понимание книжной культуры может означать ее доступность как навыка, обретаемого в процессе обучения.
Во втором случае, когда всякое эстетическое значение книги и литературы отрицается, читатель наблюдает умышленную ликвидацию признаков литературности. При этом парадоксально выглядит сохранение авторского слова, решительно меняющего, однако, семиотическую природу текста – с конвенциональной на иконическую118118
Ср.: функция метафикции «состоит в том, чтобы ставить под сомнение фикциональную природу литературы, проблематизировать референциальный статус реальности и, вообще, давать возможность писателю рефлектировать над отношениями искусства и действительности» (Григорьева Н. Anima laborans. С. 50).
[Закрыть]. Текст перестает относиться к реальности как знак, а начинает тяготеть к индивидуализму, автобиографизму, иногда «сворачиваясь» к пределу всякой иконичности – имени (рассказы «Крик», «Надписи»)119119
В своих эстетических представлениях Бунин наделял имя особой ценностью, что, в частности, подтверждается его известным шумным неприятием большевистских семиотических экспериментов: реформы орфографии и переименования городов в честь партийных вождей. Многообещающую перспективу понимания писателем письменного слова как альтернативы времени и небытию открывает работа: Двинятина Т.М. Криптографические стихотворения И.А. Бунина // И.А. Бунин в диалоге эпох: межвуз. сб. науч. тр. Воронеж, 2002. С. 37–48.
[Закрыть]. Экфрастическая рамка характерным образом нарушается120120
Сдвиги рамки в русле данной стратегии становятся повсеместными и фиксируются на разных уровнях организации текста, в частности, сюжетном, где, как отметил, Ю. Мальцев, равное значение обретают и целенаправленная упорядоченность сюжетных мотивов, и внезапные, нарушающие сюжетную каузальность интерполяции. «Литература “преодолевается” устранением барьера между рассказанным и нерассказанным, главным и второстепенным. Причинно-следственная связь утрачивает свою рациональную прямолинейность» (Мальцев Ю. Иван Бунин. 1873–1950. Франкфурт-на-Майне; М., 1994. С. 106).
[Закрыть], книга извлекается из присущего ей предметно-вещного контекста и помещается в новое неожиданное окружение. Эмоция любования переориентирована и направлена «сверху вниз» – на внекнижный и вообще внекультурный примитив. Частным социальным аспектом данного понимания книжного слова выступает уже упоминавшееся острое переживание Буниным связи подлинного литературного дара с аристократической биографией, т. е., наряду с родовой наследственностью, еще и с именем, что исключает понимание литературы как ремесла, которому можно научиться.
Раннее предвестие будущей рефлексии писателя о феномене художественного письма можно обнаружить уже в рассказе 1893 г. «Вести с родины», в котором герой, Волков, в прошлом барчук, а теперь начинающий специалист-аграрий, читает в письме от родственника из имения о том, что во время голода умер его деревенский друг крестьянин Мишка Шмыренок.
Он читал в газетах, что там-то и там-то люди пухнут от голода, уходят целыми деревнями побираться, покупал сборники и всякие книжки в пользу голодающих или, как на них печаталось, «в пользу пострадавших от неурожая». Но те, пухнувшие от голода, казанские мужики не отделялись от газетных строк; а это не казанские мужики, это истомился и свалился с ног и скончался на холодной печке Мишка Шмыренок, с которым он когда-то, как с родным братом, спал на своей детской кроватке, звонко перекликался, купаясь в пруде, ловил головастиков. И вот он умер… (II. 41)
В рассказе не дифференцировано еще собственно художественное, литературное письмо, однако глубокий разлом, с одной стороны, между общепринятыми социальными конвенциями, лишь уводящими от реальности (покупка книг из соображений благотворительности, трусливая формулировка «в пользу пострадавших от неурожая»), а с другой – истинным положением вещей, которое заключается во всевластии несчастья и смерти, подмечен по-толстовски точно. Из обилия метатекстовых деталей (чтение письма, газет, приобретение книг, учебники с детскими рисунками) вдруг появляется написанное «разъехавши[ми]ся в разные стороны каракул[ями]» (II. 42) имя будущей жертвы голода – Михаил Колесов. Имя Мишки не только опрокидывает газетную статистику, посвященную абстрактным «казанским мужикам», но проблематизирует статус Волкова. Характерно, что на этом месте фабула рассказа останавливается: все последующие несколько страниц текста отданы воспоминаниям молодого агронома о Мишке, которые оканчиваются возвращением Волкова в настоящее время повествования и произнесением слов, ставящих крест на социальной состоятельности главного героя: «Не может быть! – воскликнул опять Волков. – Не может этого быть!.. Коллекции, гербарии. “Кормовая свекловица”… Какая галиматья!» (II. 45).
Бунинская металитературная рефлексия достигает нового уровня, когда в фокусе автора оказываются действительные книжные собрания. Начнем с известного описания библиотеки в «Антоновских яблоках» (1900). Рамкой библиотеки оказывается здесь нарративная ситуация уединения повествователя, проспавшего охоту и оставшегося в старой усадьбе в одиночестве121121
О том, как рамкой в экфрасисе могут стать детали интерьера и положение наблюдателя по отношению к ним, см.: Рубинс М. Пластическая радость красоты: Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция. СПб., 2003. С. 85.
[Закрыть]. «Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме – тишина» (II. 167). Именно перед устранившимся ото всех героем разворачивается картина библиотеки. Она отчетливо экфрастична: рядом с книжными шкафами висят портреты их бывших владельцев. «Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза». (II. 168).
Сразу отметим те фрагменты описаний, которые усложняют предложенную выше интерпретативную схему и в принципе обнаруживают недостаточность аналитического подхода, основанного на бинарных оппозициях. Забегая вперед, скажем, что в данном обстоятельстве заключается и оригинальность рассматриваемого фрагмента бунинской эстетики, и содержательный стержень всей этой главы работы. Дело в том, что уже в «Антоновских яблоках» библиотека подана в смешанной перспективе: конвенционально-знаковый ее компонент соединен с иконическим. Подтверждая первую перспективу, повествователь точно датирует книжную коллекцию рубежом XVIII–XIX вв., тем самым историзирует ее, а также приводит цитаты из книг, причем особенно обращают на себя внимание выписки из сочинений XVIII в.: слово «разум» и близкие ему по смыслу оказываются в этих выдержках наиболее частотными. «Развернешь книгу и читаешь: “Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного”… <…> “дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может…” “Государи мои! Эразм сочинил в шестнадцатом столетии похвалу дурачеству <…>; вы же приказываете мне превознесть перед вами разум…”» (здесь и далее курсив наш, за исключением специально оговоренных случаев. – К.А.) (II. 167). Рационализирующее предназначение высокого художественного слова и вообще его способность значить (идущая далее череда цитат последовательно и достоверно передает лексикон культуры сентиментализма и романтизма) показаны здесь весьма наглядно. Наконец, метатекстуальным моментом описания библиотеки служит центральный эпизод всего рассказа: найденное в листве тронутое первым морозцем и потому особенно вкусное яблоко. Слова о нём непосредственно предшествуют «библиотечному» эпизоду и соотносят последний с пониманием осени и в вегетативном, и в историософском смысле, каковое понимание и требуется от читателя рассказа.
Однако уже упомянутый экфрастический контекст библиотеки заставляет задуматься о единстве стратегии описания, которую мы здесь наблюдаем. Отметим вначале, что предметами экфрастических зарисовок у Бунина являются исключительно портреты. В интересующей нас перспективе портрет – это живописный аналог имени122122
См.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – культура // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 308. Труды по знаковым системам. Т. 6. Тарту, 1973. С. 299.
[Закрыть]. Кроме того, если вчитаться внимательно в уже приведенную выше цитату, то несложно увидеть скорее инверсию традиционного экфрасиса, инверсию, заставляющую соотнести бунинскую зарисовку с сюжетом об ожившем портрете. Дело в том, что здесь наблюдатель не столько созерцает, сколько сам становится объектом наблюдения со стороны картин: расставшись со своей рамкой, изображение перестает быть изображением, знак перестает быть знаком, и процесс семиозиса раскручивается в обратном направлении123123
О мотиве ожившего портрета как попытке «преодолеть художественное пространство (соединить жизнь и искусство)» см.: Успенский Б.А. Поэтика композиции // Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995. С. 176. Историко-литературная контекстуализация мотива дана в работе: Баль В.Ю. Мотив «живого портрета» в повести Н.В. Гоголя «Портрет»: текст и контекст: автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 2011.
[Закрыть]. Напомним: «Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза».
То, что приведенные слова не случайны, подтверждает специальный рассказ Бунина, написанный на эту «гоголевскую» тему. Речь идет о малоизвестной миниатюре «Портрет», датирующейся примерно 1927–1930 гг.
Сюжет элементарен: в квартире одинокого человека висит портрет незнакомца, которым владелец очень гордится. Портрет «смотрит с потрескавшегося лакового полотна, не спуская с зрителя глаз, куда он ни пойди…» (IV. 588) «Так и проживет хозяин еще лет двадцать с этим неизвестным человеком в малиновом берете, с коричневой бородой, ставшим давным-давно только картиной» (IV. 588). Ряд свойств портрета (т. е. изображения, находящегося в рамке) получает неожиданные аналогии во внерамочном пространстве квартиры124124
Примеры активности экфрасиса в отношении повествования приведены в работе Ю.В. Шатина: Шатин Ю.В. Ожившие картины: экфразис и диегезис // Критика и семиотика. 2004. Вып. 7. С. 217–226. – Режим доступа: http://www.philology.ru/literature1/ shatin-04.htm (дата обращения: 25.01.2015).
[Закрыть]. В этом обстоятельстве можно видеть экспансию портрета, выход за рамку, моделирование интерьера по правилам картины, которая изначально была лишь частью данного интерьера. Так, малиновый берет и коричневая борода изображенного мужчины удваиваются «черно-красными коврами» квартиры и «медны[м] диск[ом] маятника в английских высоких часах», «каждый час» к тому же «оживающих» (IV. 588). Игра с субъектностью героя картины и ее владельца происходит, как всегда у Бунина, на самой границе жизни и смерти, поскольку читатель узнаёт, что совместное существование персонажей, живого и живописного, продлится еще «лет двадцать», и скоро хозяин квартиры будет увековечен в новой, на сей раз словесной картине, а именно в самом этом рассказе. Проблематизация субъектно-объектных отношений, актуализировавшая сюжет об иконическом оживлении портрета и разрушении рамки искусства, здесь налицо. Работает ли обнаруженное правило в случае с библиотекой? На первых порах – лишь отчасти, впрочем, знаменитые ольфакторные детали «Антоновских яблок» принципиально важны.
Книги, как мы помним, не только значат и говорят, как положено культурно-семиотическим реалиям, но еще и пахнут, уподобляясь по этому признаку яблокам – главному символу рассказа. «Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами…» (II. 167). В одной из рецензий на стихи Бунина А. Блок поставил выразительный знак вопроса напротив стихотворных строк «Люблю неясный винный запах / Из шифоньерок и от книг…»125125
Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве И.А. Бунина: Критич. отзывы, эссе, пародии (1890-е – 1950-е годы). М., 2010. С. 104. Примечательно, что следующими образами стихотворения являются предвосхищающее «Грамматику любви» «серебро икон в божничке», а также очередной экфрасис, на сей раз фотографический: «…дагерротипы, / Черты давно поблекших лиц…» (I. 195).
[Закрыть] и подчеркнул тем самым свое вполне рациональное несогласие с этим частым у Бунина образом, в котором книга делается не источником сообщения, понятного потенциально всем, но участником какой-то персональной истории лирического героя, ассоциации и повороты которой ведомы ему одному.
Намеченная в «Антоновских яблоках» мотивная линия продолжена в «Грамматике любви», где читатель также сначала наблюдает экфрастическую рамку книжной коллекции. Чтобы добраться до последней, героям нужно пройти через четыре комнаты, а входя в пятую, задержаться «возле низенькой двери», «в ржавой замочной скважине» которой с трудом повернулся «большой ключ» (IV. 49). Именно в этой дальней комнате мы видим «два книжных шкапчика из карельской березы» (IV. 49), которые, в том числе, содержат и главный раритет этой библиотеки – книгу Демольера, ставшую благодаря Бунину знаменитой.
Как и в «Антоновских яблоках», экфрастичность библиотеки подчеркнута соседством с изображениями – на сей раз это иконы. В божнице «выделялся и величиной, и древностью образ в серебряной ризе…» (IV. 49). Соседство, впрочем, скорее повествовательное, поскольку божница находится в зале, втором помещении, которое пройдет Ивлев со своим спутником, в то время как библиотека расположилась в дальней «каморке» – пятой комнате по ходу движения. Рядом с нею находится сумрачная комната «с лежанкой, с черными масляными картинами на синих стенах»126126
Бунин И.А. Грамматика любви // Клич: Сборник на помощь жертвам войны. С. 51.
[Закрыть]. Упоминание о картинах в поздних редакциях рассказа снято. Тем не менее «рамочный» смысл всех артефактов маршрута не вызывает сомнений: наряду с многочисленными входами-выходами, это еще и «лубяная перепелиная клетка» (IV. 49), а также бокалы «в золотых ободках» (IV. 49). Семантический шлейф от божницы с иконами тянется из второго помещения прямиком к последнему, пятому, где находится библиотека, сообщая всему пути Ивлева смысл проникновения в сакральный локус127127
Главными качествами аристократического книжного собрания, противостоящего утилитарной «городской» библиотеке, Б. Дубиным названы эмблематизм, акцент на визуальном начале, некоммуникабельность, церемониальность. См.: Дубин Б. Книга и дом (к социологии книгособирательства) // Дубин Б. Слово – письмо – литература. Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С. 54–55.
[Закрыть]. Так, серебро ризы, т. е. семиотической рамки, сложно спроецировано на образ самого ценного артефакта рассказа, книги. «А это что? – спросил Ивлев, наклоняясь к средней полке, на которой лежала только одна очень маленькая книжечка, похожая на молитвенник, и стояла шкатулка, углы которой были обделаны в серебро, потемневшее от времени» (IV. 50). В нарративных рифмах текста молитвенник, очевидно, отсылает к иконе, а стоящая рядом с книгой шкатулка с серебряными углами – к иконной ризе (других серебряных предметов в доме Хвощинского нет).
Наконец, отметим метатекстуальность книжного собрания и его существенную знаковую семиотичность. Не говоря уже о том, что «Грамматика любви» Демольера дала название бунинскому рассказу, выступив по отношению к нему как текст в тексте, приводимые из неё цитаты представляют собой фрагменты любовного лексикона XVIII в., феномена щегольской культуры, в которой, по Ю.М. Лотману, насыщенность значением каждой детали свидетельствовала о достигнутом сознании «автономности знака», выступившего «важным стимулом для формирования личностной культуры эпохи романтизма»128128
Лотман Ю.М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели культуры // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 32.
[Закрыть]. Нарочитая эстетичность, литературность образа библиотеки подчеркнута также тем, что многие заглавия составляющих ее произведений Бунин придумал сам, реализовав через это комбинирование общих мест словесности рубежа XVIII – начала XIX в. свою явную фикциональную установку129129
О «параллельном» основному сюжету «Грамматики любви» сюжете книжных цитат см.: Капинос Е.В. Стихи и книги Хвощинского (И. Бунин, «Грамматика любви») // Филоlogos. 2013. № 17 (2). С. 30–35.
[Закрыть].
Перейдем к рассказу «Несрочная весна» (1923). Уже знакомая нам рамка уединенной усадьбы-музея, ее нижних зал с книгохранилищем, абсолютного одиночества наблюдателя («И я был один, совершенно один не только в этом светлом и мертвом храме, но как будто и во всем мире» [IV. 273]) соблюдена полностью. Традиционная экфрастичность подчеркнута в данном случае еще и явными имперскими аллюзиями: картины, расположенные в верхних залах над библиотекой, – это портреты Екатерины II и ее окружения. Примечательно, что это вновь «оживающие» портреты. «И всюду глядели на меня бюсты, статуи и портреты, портреты… Боже, какой красоты на них женщины! Какие красавцы в мундирах, в камзолах, в париках, в бриллиантах, с яркими лазоревыми глазами! И ярче и величавее всех Екатерина. С какой благостной веселостью красуется, царит она в этом роскошном кругу» (IV. 271). Метатекстуальность предельно обнажена: приводимые далее изысканные цитаты из книжного собрания противопоставлены есенинскому образу «Солнце, как лужа кобыльей мочи…» (IV. 272) – по Бунину, квинтэссенции модернистских и большевистских культурно-языковых новаций.
Во всех приведенных примерах эстетизация и музеификация книги, основанные на понимании суверенности культуры и писательского ремесла как ее слагаемого, наличия у него «правил», подчинены отчетливому идеологическому заданию: противопоставить канон прошлого современности. В библиотечных зарисовках книга значит не только то, что она своим содержанием способна донести до читателя: соотносясь с эпохой своего появления, она символизирует саму эту эпоху; из точки наблюдения, расположенной в настоящем, наводит мост в прошлое. Метатекстуальная функция книги расширяется таким образом до масштабов национальной истории, понимаемой как сверхтекст.
Повторим, однако, что позиция Бунина была в ряде отношений парадоксальна. Придавая старой культуре черты канона и одновременно будучи убежден в том, что этой культуры больше нет, ее монопольным наследником писатель полагал одного себя. Следовательно, как уже было отмечено, всякое использование литературного опыта прошлого превращалось под пером Бунина в волевое «переписывание классики»130130
См.: Лотман Ю.М. Два устных рассказа Бунина (к проблеме «Бунин и Достоевский») // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997. С. 730–742; Марченко Т.В. Переписать классику в эпоху модернизма: о поэтике и стиле рассказа Бунина «Натали» // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2010. Т. 69. № 2. С. 25–42.
[Закрыть], перемешанное с интенсивным автобиографическим самоанализом. Присущее неклассической поэтике пересечение контуров субъекта и объекта становилось в этих условиях особенно заметным, а нарративная стратегия устремлялась прочь от задач сюжетной и риторической гармонизации мира к иконическим значениям художественного слова, которые в своем пределе сводились просто к имени. Первые примеры данной тенденции встречаются еще в дореволюционных произведениях.
* * *
Обратимся к рассказу «Крик» (1911). Повествователь на русском корабле, проплывающем турецкие проливы, наблюдает старого турка-таможенника, у которого в Аравии убили сына-солдата. Значение сюжета здесь исключительно «обстановочное». Все основные повествовательные приемы остро ставят вопрос о пределах литературы, так как знающим биографию самого Бунина ясно, что он имплицирует в текст главную травму своей жизни: гибель единственного ребенка, сына Коли в 1905 г. Зашедший на русский корабль турок поначалу очень активен в коммуникативном отношении: он общителен, его речь многоязычна. Угостившись спиртом, турок «долго бормотал и по-турецки, и по-гречески, и даже по-русски:
– Русс – карашо, араб – нет карашо!» (III. 164).
Раз за разом обычная коммуникация переходит у турка в прямое иконическое изображение смерти сына: «…Сын его был красив, нежен и почтителен, как девушка, да увезли его в Стамбул, отправили на войну в Аравию, а из Аравии не вернешься, нет! – говорил он. И, вскакивая, громко вскрикивал, как бы стреляя из карабина, падал на спину, изображая убитого наповал, и задирал свои кривые ноги в шерстяных полосатых чулках» (III. 164). Проснувшись в тяжелом похмелье, турок пресекает всякое общение с повествователем: «Я взял его ледяную руку. Он отшатнулся, вырвал ее. И опять, не сладив с хмелем, тяжело упал задом на пятки» (III. 168). Его речевое поведение сводится теперь к одному: к выкликанию имени сына («Юсуф!»), которое на разные лады повторяется на протяжении большей части рассказа. Древнее иконическое переживание инвокации как оживления дано у Бунина предельно четко: Турок «начинает кричать Стамбулу, лунной ночи, что он один и погибает. Нет, этого не может быть! Сын жив, он должен быть жив, он должен вернуться!» (III. 168). Как и в раннем рассказе «Вести с родины», фабула останавливается в момент произнесения имени (т. е. номинация вытесняет событийность), а герой, повествователь и даже биографический автор словно соединяются в недифференцированное целое. В данном рассказе смысл этого соединения вынесен за эстетические рамки рассказа – на уровень подтекста и комментария: в гибели Юсуфа воспроизводится смерть Коли. А в «Вестях с родины» специально подчеркнут телесный контакт повествователя с героем: в детстве Волков с Мишкой, «как с родным братом, спал на своей детской кроватке».
Коммуникация, сводящаяся к иконичности имени, и хронотоп Востока вместо подчеркнуто европейской обстановки русских усадебных библиотек позволяют по-новому осмыслить функции книги и художественного письма. Рамка, экфрасис, знаковость и метатекст инвертируются и опознаются теперь от противного – как лакуны. Первый пример в названном контексте ожидаем: это не раз комментировавшийся цейлонский травелог «Воды многие» (1911–1926). Повествователь на борту французского судна читает взятые с собой книги. Читает – и выбрасывает за борт.
…Решительно пошел в каюту, развязал набитый книгами чемодан, который мы с ненавистью таскали всю зиму по отелям в Египте, и торопливо стал отбирать прочитанное и не стоящее чтения. А отобрав, стал бросать за борт и с большим облегчением смотреть, как развернувшаяся на лету книга плашмя падает на волну, качается, мокнет и уносится назад, в океан – навеки. <…>
Всё читаю, читаю, бросая прочитанное за борт. <…>
Дочитал «На воде» (Мопассана. – К.А.). <…> Дочитав, бросил книгу за борт (IV. 461; 465; 467).
Не будем говорить о несомненной экспериментальной природе этих зарисовок131131
Анализ этого эпизода бунинского травелога см. в: Пращерук Н.В. Художественный мир прозы И.А. Бунина: язык пространства. С. 63.
[Закрыть]. Отметим лишь то, что интересует нас непосредственно. Во-первых, книга извлекается из своей привычной «библиотечной» рамки, в чём Бунин, противопоставляющий культуру природе, прекрасно отдает себе отчет. «Думала ли она (книга. – К.А.), в свое время мирно лежавшая в орловской деревне, побывать в Каире, у порогов Нила, в Красном море, а потом кончить свои дни в Индийском океане!» (IV. 461). Во-вторых, она дана вне экфрастического конвоя. В-третьих, она бесполезна и ничего не значит, по крайней мере здесь ничего не значит. «Как смешно преувеличивают люди, принадлежащие к крохотному литературному мирку, его значение для той обыденной жизни, которой живет огромный человеческий мир, справедливо знающий только Библию, Коран, Веды!» (IV. 462). Это топографическое «здесь» принципиально важно. Элегическое любование локусами высокой культуры сменяется восторгом перед примитивом полуживотной жизни132132
По-видимому, «ростком» этой темы в текстах предшествующей группы является отношение повествователя к Лушке, «внесценической» героине «Грамматики любви», оценочный спектр образа которой подчеркнуто амбивалентен: от ужаса до восхищения. «Странная» любовь Хвощинского к Лушке – это, кроме всего прочего, еще и страсть обладателя навыков сложной письменной культуры к носительнице фольклорного сознания. Немаловажно и то, что упоминаемое в рассказе стихотворение Е. Баратынского «Последняя смерть» (1827) строится на характерном противопоставлении утопии просвещенческого торжества разума – одичанию деградировавшего человечества, умалившего свою «телесную природу» и предавшегося эфемерной «фантазии». Метатекстуальная ориентация стихотворения Баратынского на историю бунинского библиофила Хвощинского представляется очевидной.
[Закрыть].
А через несколько минут после этого на баке «Юнана» уже стояла кучка еще никогда мной не виданных людей, тех самых «диких», о которых читал в детстве: кучка высоких черно-шоколадных тел, одинаково узких в плечах и в бедрах, шелковисто-сухих даже на вид. Это были сомалии, о которых говорят, что они и теперь еще не прочь от людоедства. <…> А я смотрел на их наготу и испытывал какое-то странное, даже как будто стыдное, райское (да, истинно райское) чувство (IV. 459).
В-четвертых, книга не играет никакой метатекстуальной роли в контексте травелога. Приводимая Буниным цитата из Мопассана представляет собой яркий пример функционирующего в качестве минус-приема антиметатекста, показательно содержащего в себе отказ от наррации как таковой: «Я видел воду, солнце, облака, больше я ничего не могу рассказать…» (IV. 467)133133
Если, заняв альтернативную позицию, признать всё же в цитате из Мопассана актуальный метатекст бунинского произведения, то в таком случае придется констатировать сознательный отказ русского писателя от придания «Водам многим» вообще какого бы то ни было умопостигаемого смысла. Свободная композиция путевых заметок, проблематизирующая содержательность формы, отсутствие внятного зачина и концовки, не говоря уже об антикультурной идеологии повествователя, подталкивают именно к такому восприятию текста.
[Закрыть]. После этих слов книга отправляется за борт134134
По-видимому, парадигмальным значением для всей линии текстов, в которых суверенность и эстетическая состоятельность литературы ставятся под вопрос, обладает рассказ «Легкое дыхание» с подчеркнутой в нём парностью портрета и книги. Повествование здесь окольцовано начальной картиной ветреного апрельского дня с Олиным портретом-медальоном в центре и финальной сценой беседы о «старинных смешных» книгах (одна из них цитируется), а также всё того же холодного весеннего ветра, в котором словно растворяется книжное «легкое дыхание». Причем фикциональность книжного концепта преодолевается не только ликвидацией рамки между книгой и природой, в которой «рассеялось» легкое дыхание, но также синтагматической увязкой этих конечных слов рассказа с предшествующим упоминанием о классной даме, дискредитирующейся по причине своей приверженности к разнообразным «выдумкам», суррогатам «истинной» жизни, прожитой Олей. Существенно также и то, что в истории бунинского творчества «Легкое дыхание» с очевидностью восходит к стихотворению «Портрет» (1903), кладбищенская зарисовка в котором аналогична экспозиции знаменитого рассказа. См.: Колосова С.Н. Идея портрета в одноименном стихотворении И.А. Бунина // Творчество И.А. Бунина и философско-художественные искания на рубеже XX–XXI веков: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения писателя. Елец, 2006. С. 70–74. Об Олином портрете как «оживающем» см.: Жолковский А.К. «Легкое дыхание» Бунина – Выготского семьдесят лет спустя // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 112. Здесь же см. наблюдения исследователя о развязке рассказа как слиянии «детали портрета героини с представляющим макромир ветром» (С. 115) и о принципиальной для «серебряного века» зависимости «жизни» от «слова» (С. 116), инспирировавшей одного из последователей А.К. Жолковского радикально трактовать событийное наполнение «Легкого дыхания» как троп (смещение) его текстуальной фактуры (Щербенок А. Деконструкция и классическая русская литература: От риторики текста к риторике истории. М., 2005. 119–120).
[Закрыть].
Следующий пример – программный рассказ «Надписи» (1924)135135
Один из последних опытов целостного анализа этого рассказа см.: Мароши В.В. Жанр граффити-автографа в травелогах русских писателей // Литература путешествий: культурно-семиотические и дискурсивные аспекты / под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск, 2013. С. 78–114.
[Закрыть]. Здесь писатель делает очередной шаг в сторону дисперсии книги как эстетической реальности и разложения ее на слова, из которых главным является имя. Герои обсуждают туристические граффити на стенах архитектурных достопримечательностей: высокая эстетика большой литературы сведена к примитиву настенной надписи. Литература при этом принципиально приравнивается к таким граффити. «Вся земля покрыта нашими подписями, надписями и записями. Что такое литература, история? Вы думаете, что Гомером, Толстым, Нестором руководили не те же самые побуждения, что и седьмым Ивановым?» (автором одного из граффити, чеховским персонажем. – К.А.) (IV, 323–324). Таким образом, рамка снова нарушена, и литература помещена в принципиально внеэстетическое пространство. Экфрасис и метатекст отсутствуют, а знаковость сведена к имени (содержание любой такой надписи одно – это имя ее автора136136
Было бы любопытно проследить, как от героя «Надписей», ошибочно названного В.В. Кудасовой «безымянным» (Кудасова В.В. Герой и книга в художественной прозе И.А. Бунина. С. 89), но на самом деле имеющего имя – Алексей Алексеич (IV. 326), сюжетная нить тянется к главному герою одноименного рассказа Бунина 1927 г. В рассказе «Алексей Алексеич», близком «Надписям» повествовательным дуализмом идеолога и его собеседницы – опытной и умной дамы, герой дан как человек книжных фраз и бесконечных цитат, которые он произносит, «не думая ни единой секунды о том, что говорит» (IV. 497). При этом его визави княгиня предполагает даже, что «это вы всё сами выдумываете» (IV. 497). Писавшийся, как показала Е.К. Созина (Созина Е.К. «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого в художественном сознании И. Бунина // Классическая словесность и религиозный дискурс. Екатеринбург, 2007. С. 266–282), на фоне «Смерти Ивана Ильича» Толстого, рассказ оканчивается многозначительной сценой визита к врачу, сообщающему Алексею Алексеичу неутешительный диагноз. При этом простонародное происхождение врача, наряду с его враждебностью к эстетике, подчеркнуты специально. Одна из типовых фраз этого бунинского Базарова, стоящего при вратах смерти и наделенного говорящей фамилией Потехин, звучит так: «Ну что ж, вам и книги в руки: весьма охотно допускаю, что это гениально, замечательно…» (IV. 502). В пороговой ситуации, за несколько минут до скоропостижной кончины своего героя, умершего в экипаже по дороге от доктора домой, Бунин находит нужным давать характеристики эстетическим воззрениям врача. Это обстоятельство, впрочем, странно лишь на первый взгляд. Толстовский «медицинский» сюжет переплетен здесь с бунинской рефлексией о художественном слове, показанном как предельно условное, утратившее связь с исходными смыслами – резким контрастом является то, что в качестве примеров фигурируют пассажи из древнерусской нравоучительной словесности. Недаром Алексей Алексеич, зайдя к врачу, резиденция которого, вообще говоря, показана как храм смерти (пациент сидит в «проклятой приемной», где время течет «дьявольски медленно», где «безжизненно <…> каменеет» мебель и вся обстановка окружает напуганного человека тягостным «ждущим молчанием» [IV. 499–500]), сразу меняет свой шутливо-цитатный стиль на серьезный: «…сказал серьезно, и дело пошло обычным порядком» (IV. 502). Игриво-эстетское обращение со словом здесь двояко противопоставлено: стилевому и общекультурному «нулю» речевого поведения доктора-палача, и – через границу данного текста – внеэстетической «надписи», т. е. имени-граффити, о котором рассуждал герой по имени Алексей Алексеич в другом рассказе писателя.
[Закрыть]). Особенно отметим нарушение принципа метатекста. Подобранные с филигранной точностью цитаты из книг в библиотечных зарисовках первого типа заменены здесь нарочито бессмысленной кумуляцией имен писателей и их героев. Чаще всего в рассказе «Надписи» читатель слышит упоминание имени Гоголя, затем идут Данте, Андромаха, Гектор, Вертер, а увенчивает список снова гоголевский Иван Никифорович. Если традиционный метатекст целенаправленно ориентирует свое микросодержание на макросодержание обрамляющего его повествовательного пространства и уже поэтому не может без разбора соединяться с какими-то посторонними привнесениями, то в данном случае перед нами осмысленное нарушение этого правила137137
В.В. Кудасова предложила понимать данные перечни как интерференцию бытового и собственно литературного планов, «стремление автора ввести имена и судьбы литературных персонажей, равно как и их создателей, в общий поток жизни» (Кудасова В.В. Герой и книга в художественной прозе И.А. Бунина. С. 89). Внутритекстовые функции приведенных перечислений исследовательницей не рассматривались.
[Закрыть].
Через два месяца после «Надписей» Бунин создает миниатюру «Книга», в которой, как кажется, тема исчерпывается. Героем этого автобиографического рассказа сначала четко идентифицируется литературность как фикциональность и тем самым создается семиотическая рамка. «Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, как своими собственными…» (IV. 330) «Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака – всё жило своей собственной, настоящей жизнью» (IV. 330), – добавляет в толстовском духе повествователь.
Концептуализированная таким образом рамка далее знаково разрушается, причем жест ее разрушения аналогичен уже виденному нами в «Водах многих». «И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и радостью какими-то новыми глазами смотрю кругом…» (IV. 330). Книга не только растворяется в природе, но и противопоставляется ей идеологически. Встреченный героем мужик (носитель устной, а не письменной культуры), говорит ему: «На своей девочке куст жасмину посадил! <…> Доброго здоровья. Всё читаете, всё книжки выдумываете?» (IV. 331). Об экфрастичности здесь нет и помину, а вместо метатекста снова встречаем минус-прием: кумуляцию лишенных всякого значения для данного произведения персонажей из мировой литературы и их создателей-авторов. Авраам, Исаак, Сократ, Юлий Цезарь, Гамлет, Данте, Гретхен, Чацкий, Собакевич, Офелия, Печорин, Наташа Ростова: понятно, что на их место может быть поставлен принципиально кто угодно – без всякого ущерба для главной мысли рассказа.
Любопытным примером в рамках проблематизации литературы как эстетической деятельности является включение образов библиотек и вообще книжного знания в контекст известных инвектив писателя против символистов, а также авторов круга Горького, которых Бунин волевым образом соединял в свои поздние годы с символистами. Приведем сначала реакцию Бунина на известный факт библиофильских увлечений Брюсова:
И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительная. Я попросил у него на несколько дней какую-то книгу. Он странно сверкнул на меня из своих твердых скул своими раскосыми, бессмысленно блестящими, как у птицы, черными глазами и с чрезвычайной галантностью, но и весьма резко отчеканил:
– Никогда и никому не даю ни одной из своих книг даже на час! (VI. 573)
В относящемся к 1917-му году плане посвященной Брюсову лекции (или, что тоже вероятно, – статьи) содержатся такие слова: «Оторванность от жизни, незнание ее, книжность, литературщина – гибель от нее: Бальмонт, Брюсов, Иванов, Горький, Андреев. И это “новая” литература, “добыча золотого руна”! Копиисты, архивариусы! Подражание друг другу. Да что же! Так легче писать…»138138
Переписка Бунина с В.Я. Брюсовым. 1895–1915. Вступ. ст. А.А. Нинова // Лит. наследство. Т. 84. Кн. 1. М., 1973. С. 438.
[Закрыть] Опуская публицистический пафос высказывания, отметим связь содержащихся в нем эпитетов с одним из бунинских рассказов этого времени – «Архивным делом» (о нем см. ниже, в гл. 3 данной работы). Позднее необычайная книжно-литературная активность упомянутого здесь Горького, другого, наряду с Брюсовым, раздражителя Бунина-эмигранта, составит специальный сюжет в посвященном Горькому разделе бунинских «Воспоминаний» (о нем мы упоминали выше). «Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души…»139139
Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 123–124.
[Закрыть], – сразу заявил Горький, поставив себя в интерпретации создателя мемуарного цикла в позицию ученика, для которого книга оказывается не только объектом эстетического поклонения, но вполне рациональным инструментом самообразования и повышения социального статуса.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































