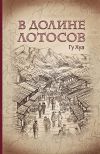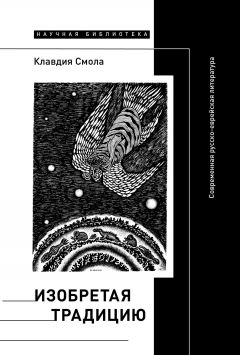
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
ПЕРЕИЗОБРЕТЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ
Эпоха еврейской неофициальной культуры в Советском Союзе воскресила еще одну литературную традицию: еврейское повествование, или идишский (рас)сказ. Сюжеты и характерология идишского фольклора и идишской литературы (порой их трудно было отличить друг от друга) перекочевали у ряда авторов в русско-советскую систему культурных координат. Переизобретение еврейского сказа было, пожалуй, одним из самых непосредственных, эстетически действенных и опробованных традицией способов включения в культуру неуслышанных голосов. Если воспользоваться постколониальной риторикой, то перспектива сказа давала еврейским литераторам возможность художественными средствами обрести агентность, но она же была и жестом нарративного, ставшего фактурой письма воспоминания. Вместе с тем возможность воскрешения еврейской речи была наименее идеологизированным, по контрасту с сионистской литературой, ресурсом культурного отмежевания, творческого обретения своего голоса.
В этой главе я анализирую прозу Эфраима Севелы и Филиппа Бермана – художников, которые именно так, на перформативном уровне, стремились преодолеть культурное забвение277277
В России большинство произведений Севелы и Бермана были опубликованы лишь после перестройки; интерес к юмористике Севелы заметно возрос с конца 1980‐х годов.
[Закрыть]. Характерный сплав исторической достоверности, фольклоризации и юмора, в котором сочувственная насмешка или даже сатира переплетается с ностальгией, вписывает обоих авторов в историю идишского рассказа, возникшего во второй половине XIX века, но вместе с тем и в контекст разноязычной еврейской литературы, которая и сегодня продолжает актуализировать эту традицию. Идиосинкразии еврейской устной речи, анекдотический сюжет, диалогизм, ирония и остроты, игра с идиомами, окказиональные и вербальные алогизмы – эту повествовательную поэтику я рассмотрю далее с помощью анализа истоков еврейского рассказа и семиотики идиша.
В работах, исследующих мультилингвальную еврейскую литературу, часто ставится вопрос об отличительных признаках этого очень гетерогенного феномена и о том, какие уровни повествования позволяют выявить и осмыслить еврейскую традицию. Вопрос этот влечет за собой и другие: можно ли говорить о существовании всемирной еврейской литературы, чьи характерные свойства выходят за пределы того или иного национального языка? Иначе говоря, можно ли все разнообразие текстов, которые мы называем еврейскими, интерпретировать как принадлежащие к одной культуре? Обусловлено ли предполагаемое единство такого макротекста одним лишь узнаваемым еврейским содержанием – или еще и определенными стратегиями письма, поэтиками, риторическими фигурами, тропами? Эта проблема особенно хорошо видна на примере еврейского повествования в Восточной Европе, которое, выйдя далеко за пределы своих идишских истоков, заметно повлияло на стилевую специфику различных еврейских литератур.
Характерное еще для маскильской литературы соединение сатиры, просветительских тенденций и морально-религиозной назидательности призвано было в творчестве таких классиков, как Айзик-Меер Дик и Ицхок-Лейбуш Перец, разоблачить и высмеять «иррационализм» хасидов и безоговорочную веру простых евреев в чудотворство цадиков. Так возник особый тип повествования, сочетавший бытописание еврейских религиозных обычаев с профанацией и остроумием, насмешкой над еврейскими нравами. Однако излюбленные темы идишских писателей: повседневные ритуалы и молитвы местечковых евреев; заработок на жизнь, нередко связанный с разъездами и торговлей; семейные традиции с их кульминацией в день шабеса; анекдотические и чудесные истории, обычно случающиеся в дни еврейских праздников; мир хасидов и отношения евреев с богом – использовались еще и для развития того уже ставшего «классическим» типа рассказа, в котором сатира сливалась с сочувствием, трагикомизмом, порой сентиментальностью и который превратился в очередной историко-литературный архетип в текстах Менделе Мойхер-Сфорима и Шолом-Алейхема. Как бы то ни было, связка священного и профанного становится стратегией многозначного повествования, в котором самоирония, вырастая из противоречия между притязанием на избранность и убогостью фактического существования278278
Ср. остроумное высказывание Сэнфорда Пинскера о происхождении еврейского юмора: «Быть может, еврейский юмор начался с того, что некто задался вопросом: почему бы Господу хотя бы разок не избрать кого-нибудь другого?» [Pinsker 1991: 9].
[Закрыть], выступает «фирменным знаком» еврейского народа. Эта поливалентность выражается в особого рода текстуре – плотной сети отсылок к Торе, Талмуду, каббале, как бы натянутой на каркас еврейской повседневности. Именно так в еврейском рассказе крайне заостряется контраст двух регистров – священного и бытового.
Посредником между читателем и евреем штетла выступает рассказчик – сам обитатель местечка, сохраняющий в своем идиолекте и мышлении черты идишской народной культуры: установку на устную речь, ученость и наставительность магида (странствующего проповедника) или благочестивого рабби, наивность тама (простака) или шлемиля (неудачника), критическую остроту бадхена (скомороха, свадебного шута)279279
Перечисленные народные персонажи не раз выводились в идишской литературе. Так, целый ряд еврейских простаков и неудачников, например реб Калмен Айзика-Меера Дика, Бонце-швайг (Бонця-молчальник) Ицхока-Лейбуша Переца или Гимпель-дурень Исаака Башевиса-Зингера, не говоря уже о Тевье-молочнике и Менахем-Мендле Шолом-Алейхема, в коллективном сознании превратились в легко узнаваемые, символичные фигуры, литературные прототипы и архетипы. О литературной обработке еврейского фольклора, питающей творчество нескольких поколений идишских прозаиков, см.: [Роскис 2010].
[Закрыть]. Зачастую именно сочетание этих голосов в повествователе и создает трагикомический эффект (ср. такие хрестоматийные для еврейских нарративов фигуры, как книгоноша Менделе у Абрамовича/Мойхер-Сфорима и Тевье-молочник у Шолом-Алейхема). При этом балансирование на тонкой грани между взглядом на еврейскую действительность изнутри и снаружи выдает двойственность авторской позиции: рассказчик живет внутри коммуникативной системы мира штетла, обращаясь к таким же, как он сам, обитателям этой среды, однако стоящий за его спиной автор иронически наблюдает за этим голосом, вступая в тайный диалог с читателем, вполне способным воспринять эту многозначность – искусство двойного прочтения и иронии280280
Дов Садан прослеживает, как монолог в творчестве Шолом-Алейхема, черпая из традиции сатиры периода Хаскалы, вместе с тем ее преодолевает [Sadan 1986: 58–60]. Именно речь героя-рассказчика, наивного и мало знающего, разоблачала его перед маскилом. Впоследствии сюда добавились нотки социального сострадания, сместившие акцент с невежества рассказчика, нередко ам-хаареца (еврейского невежды, см.: [Loewe 1920: 41–43]), на его социальную неустроенность. «Идентификация с ментальностью рассказчика» [Ibid: 59] сливается у Шолом-Алейхема с унаследованной от литературы Хаскалы иронической дистанцией по отношению к позиции этого внутридиегетического повествователя. Именно эта амбивалентная фокальная структура и стала «фирменным знаком» еврейского storytelling в Восточной Европе; ею и сегодня пользуются, перенося ее в современность, многие авторы.
[Закрыть].
Еврейский сказ, воплощаемый живой фигурой рассказчика, передает, что не раз отмечалось, своеобразие самого идиша как языка устного общения. В работах о влиянии разговорного идиша на язык еврейской литературы важен вывод о том, что эта литература почти всецело обусловлена устным характером и идиоматикой языка, на котором написана, и особенностями еврейской социальной коммуникации. С самого зарождения идишская литература обнаруживает тенденцию к подражанию, мимикрии, языковой театрализации, жесту и комизму. В своей работе 1941 года о прозе Шолом-Алейхема Меер Винер называет вербальность главным источником комического в его творчестве. Словоохотливость, болтливость («garrulousness») рассказчика становится поэтической системой тропов, приемов стилизации и звуковых эффектов, – системой, обладающей своей логикой и позволяющей автору передавать точки зрения разных персонажей [Wiener 1986: 46 f.]. В результате словесная ре-акция героев на происходящее отодвигает само действие на второй план. Весьма смело для своего времени – почти в духе деконструктивизма – звучит вывод Винера о том, что психология, среда и человеческое поведение в мире Шолом-Алейхема в сочетании с «многословием его персонажей […] со всеми вторичными продуктами интенсивной речи – повторениями и отступлениями, жестикуляцией, модуляциями голоса, выражением лица» [Ibid: 48] – оказываются иллюзорными, ирреальными. Предвосхищая более поздние труды о классиках идишской литературы281281
См., в частности: [Miron 1973: 67–69, 79–84; Baumgarten 1982: 74–76; Harshav 1990: 91 f.; Wisse 1994].
[Закрыть], Винер возводит совокупность интонации, словесной игры, жестики, мелких семантических сдвигов и словотворчества в ранг главного смыслопорождающего приема Шолом-Алейхема.
Одной из характерных составляющих габитуса «маленького еврея» был диалогизм его речи (см.: [Miron 1973: 82 f.]). Если Мирон говорит о тенденции к нарративным «переодеваниям» и театральности идишской прозы [Ibid: 79–84], то Харшав в своем исследовании семиотики идиша подчеркивает использование «транслогического» начала и непрямого высказывания, пришедших в литературу из еврейского фольклора. Апеллятивные и эмоциональные формулы, вставные словечки и звуки, поговорки, образно иллюстрирующие мысль, подходящие истории вместо ответов на вопросы, цитаты, загадки и шутки – все это повлияло на природу идишского дискурса, превратив идиш в метаязык, функционирующий не в последнюю очередь на (мифо)поэтическом уровне. Из традиций талмудического диспута и толкования Торы возникло внимание еврейской речи к самому слову и языку (метадискурсивность) и перемежающие ее отсылки к (священным) текстам [Harshav 1990: 98–102; 1994: 145–154].
Так, чтобы понять специфику еврейской литературной традиции, надо учитывать не только узнаваемые культурные реалии и топосы, например, еврейские праздники и ритуалы или места еврейской жизни (города, штетлы, ярмарки, синагоги и т. д.), но и пришедшие из еврейского фольклора и/или еврейской литературы фигуры шлемиля c родственными ему «маленьким человечком» (kleyne mentshele), «человеком воздуха» (luftmensh) и шлимазлом, мешугенера (сумасшедшего) и тама (дурня), а также еврейского плута, рабби-чудотворца и тайного праведника. Подобно перечисленным выше лингвистическим атрибутам еврейской литературы, эти архетипы, выйдя из своей изначальной среды (Восточной Европы позапрошлого века), влились в современную литературу в новом обличье. Как и сам описанный Харшавом еврейский дискурс, упомянутые типы и поныне демонстрируют такие особенности поведения и мышления, которые даже при радикальной реконтекстуализации опознаются как часть еврейской культурной традиции. Они способны рассказать о трагедиях, выпавших на долю еврейства в XX веке, и о последствиях непоправимых исторических переломов. Рут Вайс в своей работе о шлемилях и простецах как о «современных героях» приписывает еврею-неудачнику качества, которые именно сегодня приобретают особый обличительный смысл: герой силен своей слабостью, потому что, игнорируя военную мораль и пропаганду насилия, тем самым им противостоит [Wisse 1971: ix–x, 3–10].
Однако функцию культурной аллюзии в современной прозе может выполнять и отсылка к определенным сюжетным структурам и коллизиям, восходящим к Талмуду или еврейской религиозной развлекательной литературе, в частности, к популярной книге майсе-бух (сборнику рассказов из Талмуда, мидрашей и еврейской и нееврейской агиографии), но в первую очередь к еврейской литературе начиная с XIX века. Это, например, чреватый последствиями, трагикомический уход/отъезд героя из родного штетла и иногда его бесславное возвращение282282
О Вениамине Третьем – персонаже Менделе – см.: «Конец дихотомии: разрушенная утопия алии», с. 241.
[Закрыть]; злоключения бедного еврея, отправившегося на заработки; встреча – в зависимости от сюжета – с чертом, злым духом, мертвецом, диббуком, праведником, пророком или ангелом, за которой следуют казуистические препирательства или попытки перехитрить друг друга и т. д.
Говоря о литературной рецепции еврейских традиций, нельзя не учесть, наконец, феномен опосредованности их передачи, то есть вторичности предания. Если Дэвид Роскис говорит о литературно осовремененных и потому вторичных формах еврейского фольклора, о модернизированной еврейскости рубежа XIX–XX веков (см. «Еврейство и обновление традиции: текст и комментарий», с. 7), то в случае с авторами конца XX века мы имеем дело с гораздо более многослойной интертекстуальностью, охватывающей несколько поколений еврейских писателей. Она включает порой прямые источники – религиозное и устное предание, – но, вероятнее всего, еще и тексты «отцов-основателей» (Мойхера-Сфорима, Шолом-Алейхема и Переца), их последователей и тех еврейских авторов, которые восприняли идишские литературные традиции под влиянием местных культур и на разных языках (часто в переводах). Так, в русско-еврейском культурном контексте именно и прежде всего созданный Ильей Эренбургом в 1927 году Лазик Ройтшванец – персонаж глубоко укорененный в еврейском фольклоре и идишской «прото-литературе» – воплощает еврейского плута и шлемиля. Понятно, что использование элементов идиша в разных еврейских литературах и иногда сам характер их гетероглоссии опирается не на личные воспоминания и языковой опыт самого автора (или в редких случаях не только на них), а на еврейскую традицию соответствующей национальной литературы. Например, одесский говор прозы Исаака Бабеля с его многоязычием, дефектным использованием русского языка, особой ритмикой, фонетикой и чувственностью (см.: [Koschmal 1997: 320–327]) оказал мощное воздействие на последующие поколения русско-еврейских писателей, многие из которых едва ли уже владели идишем.
Шлемили и плуты: «Легенды Инвалидной улицы» Эфраима СевелыВымышленные воспоминания о жителях Инвалидной улицы – «легендарной» родины повествователя в цикле рассказов Эфраима Севелы «Легенды Инвалидной улицы» (1971), написанном в парижской эмиграции, состоят из анекдотических, сентиментальных и сатирических сюжетов и черпают из традиции еврейского сказа более всего, пожалуй, в духе Шолом-Алейхема. Сам жанр легенды намекает на фиктивный характер «мемуаров» и дополнительно дает понять, что рассказанное без остатка принадлежит прошлому и никогда больше не станет реальностью. Синтез стилизации, автобиографизма и подпитываемого интертекстуальностью воображения – так Севела подступается к полумифическому еврейству белорусского довоенного местечка. Соединение вымышленной исторической достоверности, бытописания и литературности, создает эффект фольклоризации еврейского прошлого – эффект, который в многочисленных текстах еврейской литературы задолго до Севелы породил идеализированное восприятие штетлов времени до шоа, но был запущен, как замечает Харшав, еще зачинателями идишской литературы: «…идишская классическая литература использовала иконографию штетла и его мифологизированные поведение и язык (курсив мой. – К. С.) в качестве микрокосма еврейскости: таковы образы Кабцанска у Менделе и Касриловки у Шолом-Алейхема» [Harshav 1990: 94]. Рассуждая о прозе Севелы, Анджей Янковский интерпретирует этот прием как создание новой мифологии еврейства после геноцида (например, мифа о потерянном рае): «За специфическим сплетением анекдота и байки, исторических фактов и агиографических биографий стоят фигуры людей, которые […] являются объектом легенд Инвалидной улицы, ее своеобразным мифом» [Jankowski 2004: 36].
Остраненный, жестикулирующий язык рассказчика283283
См. главу «Мимический автор и его „маленький еврей“» в монографии Дана Мирона: [Miron 1973]. Мирон реконструирует программатику, которая – например, в высказываниях Шолема-Янкева Абрамовича (Менделе Мойхер-Сфорима) и Михи Иосефа Бердичевского, – определила зарождение идишской прозы и все ее дальнейшее развитие. Состояла она в том, что писатель должен был отстраниться от самого себя, даже забыть о себе, то есть отказаться от аутентичного авторского голоса. Искусство превращения предполагало нарративное слияние с миром «маленьких человечков»: «…идишский автор должен прятать свою непосредственную идентичность, используя письменную технику самоостранения или даже самоустранения. Для этого необходим дар актерского перевоплощения и уверенное чувство необходимых ограничений, налагаемых мнимой невинностью рассказчика» [Miron 1973: 79].
[Закрыть] и часто его непосредственное участие в событиях делают его медиумом постфактум и постмортем, посредником между евреями прошлого и читателями. Однако постоянные заимствования из идишской литературы подрывают эту, казалось бы, прямую связь времен, выдают художественный вымысел, питаемый не столько личной, сколько культурной памятью. В рассказе «Почему нет рая на земле», который я рассматриваю далее в качестве примера, трагикомический эффект возникает как раз из такой амбивалентной повествовательной позиции, при которой субъективность и патетический речевой жест рассказчика, местечкового еврея, смешиваются с иронией и интенсивной интертекстуальной работой автора.
Выделенные Харшавом поэтические характеристики идишского рассказа используются Севелой для того, чтобы построить «мост желания» [Роскис 2010], ведущий в прошлое, для чего он и избирает рассказчиком как будто непосредственного «потомка» книгоноши Менделе – героя, впитавшего или театрально воспроизводящего обычаи общения внутри штетла и тем самым перформативно о них напоминающего. Он начинает с темпераментного объяснения, почему жители Инвалидной улицы имеют множество имен и кличек:
На нашей улице еврей с одним именем – это не человек и даже не полчеловека. К его имени приставлялись все имена родителей, чтобы не путать с другим человеком, у которого может быть такое же имя. Но чаще всего давалась кличка и она намертво прирастала к имени и сопровождала человека до самой смерти [Севела 1991a: 74].
Этот и другие пассажи, снабженные отступлениями, заверениями и риторическими вопросами к читателю, нужны только для того, чтобы объяснить, почему жительницу штетла звали Рохл Эльке-Ханэс284284
Ср. аналогичный эпизод из рассказа Шолом-Алейхема «Dray almones» («Три вдовы»), цитируемый Мюрреем Баумгартеном как пример характерного для идишских текстов «языкового действия» и «эпичности идиша»: «Итак, приступаю к самому рассказу. Терпеть не могу предисловий, лишней болтовни. Звали ее Пая, а прозвали – „молодой вдовой“. Почему? Начинается история: почему да отчего?» [Baumgarten 1982: 74; Шолом-Алейхем 1961: 278].
[Закрыть]: «А какой нормальный человек с Инвалидной улицы назовет женщину по фамилии?» [Там же]. Речевой диалогизм отражает тот факт, что в прежние времена идиш был средством коммуникации внутри живого еврейского коллектива со своими неоговоренными правилами и системой аллюзий, встроенный в речь диалог затрагивал «наиболее глубинные слои коллективной восприимчивости» [Pinsker 1991: 16]. Устность и сказовость создают то воображаемое пространство доверительной близости и взаимодействия, в котором действовала общая ценностная система. Об экзистенциальном значении устного слова как средства сопротивления и духовного выживания евреев диаспоры пишет, например, Рут Вайс в эссе «Разговор двух евреев. Взгляд на современную идишскую литературу»:
Два еврея лепят крошечный островок посреди опасного или просто чуждого моря. Кем бы они ни были: друзьями или противниками, чужими людьми или родными, ровесниками или нет, – до тех пор, пока длится их разговор, абсолютно все должно взвешиваться и осмысляться в рамках определенного морального контекста [Wisse 1994: 129].
В то время как перенесение собственной меры оценок на весь близкий и далекий мир создает часто комический эффект, идишские писатели преобразуют действие в разговор – этот (пусть и хрупкий) оазис социальной защищенности, восходящий к универсальному для них талмудическому слову [Ibid: 132]285285
См. также у Мюррея Баумгартена: «[Язык] – это единственное средство, помогающее персонажам поддерживать […] свою непрочную культурную сеть» [Baumgarten 1982: 76].
[Закрыть]. Однако в современном Севеле контексте эта нарративная позиция оказывается неоднозначной, ведь практическое отсутствие посвященного еврейского читателя неизбежно подразумевает стилизацию, анахронистическое столкновение аутентичного взгляда «изнутри» в духе пословичного Тевье-молочника с необходимостью объяснять мир еврейства Восточной Европы плохо знакомому с ним сегодняшнему читателю. Повествователь, этот (ненадежный?) гарант достоверности, ссылается на традицию: «Так было принято при наших дедах, а может быть, еще и раньше и, как говорится, не наше собачье дело [это] отменять» [Севела 1991a: 74]. Именно эта традиция, перформативно практикуемая в самом акте еврейской речи, да и упоминаемая эксплицитно, запечатлена в диегезисе рассказа в момент своего исчезновения: еврейские формулы наименования и обращения устаревают и меняются в ходе советизации. Советская манера обращаться к мужчинам и женщинам по фамилии в духе новой морали труда и равноправия гротескно сталкивается с живучими еврейскими оборотами. Пылкой общественнице Рохл Эльке-Ханэс, ратующей за модернизацию местечка, нравится, чтобы ее называли «товарищ Лифшиц», но еще больше – «мадам Лифшиц». Последнее обращение – этот яркий пережиток «буржуазного» мира, с которым вообще-то надлежит бороться, – выдает своеобразную мечту Рохл о социальном возвышении. В целом внедрение модерности советского образца в патриархальную жизнь штетла отмечено печатью абсурда. Если рассказчик явно гордится описываемой реальностью – своей родной средой, то автор контрабандой проносит в текст горькую иронию исторических сравнений. Эта нарративная мимикрия становится художественным приемом самоироничного еврейского рассказа, чей перенаправленный на новые условия политический скепсис «отложен» в подтекст.
Трагикомическая амбивалентность Севелы наследует известным прототипам: как некогда Шолом-Алейхем, он изображает исторические переломы, разрушение старого мира при помощи иронии, закрадывающейся в панегирик. «Наивный» рассказчик надевает хвастливую маску гордого уроженца местечка, так инсценируя поэтику уникального и чрезвычайного:
Уж кого-кого, а рыжих у нас было полным-полно. Всех оттенков, от бледно-желтого до медного. А веснушками были усеяны лица так густо, будто их мухи засидели. Какие это были веснушки! Сейчас вы таких не найдете! Я, например, нигде не встречал. […]
Одним словом, красивые люди жили на нашей улице. Таких здоровых и сильных, как у нас, еще можно было найти кое-где, но таких красивых – тут уж, как говорится, извини-подвинься [Севела 1991a: 78].
Далее приводится анекдотический эпизод неудавшегося похищения еврейского ребенка бездетной супружеской парой польских дворян. Он показывает, что дети с Инвалидной улицы были необыкновенно хороши собой, а их отцы – в данном случае дед рассказчика, плотник Шая, – никогда не давали себя в обиду кому бы то ни было. После того случая гордые местечковые евреи стали с вызовом спрашивать у чужих: «И вы это нам говорите? Или: – И вы нам хотите что-нибудь доказать?» [Там же: 79].
Любопытно сравнить языковую жестику севеловского рассказчика и повествователя в автобиографическом романе Шолом-Алейхема «Funem jarid» («С ярмарки», 1916):
…velkhe shtot oyf der groyser velt, es meg zayn Odes, oder Paris, oder London, oder afile Nyu York, kon zikh barimen mit aza groysn, breytn mark un mit azoy fil yidishe kleytn un kleytlekh, tishn, tishlekh un shtelkhelekh, mit gantse berg frishe shtekedike eplekh un barlekh, dinyes un kavenes [Sholem Aleykhem 1940: 8].
…какой еще город во всем огромном мире – будь то Одесса или Париж, Лондон или Нью-Йорк – может похвастаться таким богатым и обширным базаром, с таким множеством еврейских лавок и лавчонок, со столькими прилавками, столиками, лотками, заваленными грудами свежих душистых яблок и груш, дынь и арбузов [Шолом-Алейхем 1960: 272].
В эту похвалу, высказанную с ограниченной (географически и не только) точки зрения потомка тама или шлемиля маскильской литературы, проникает упомянутый иронический взгляд извне, который высвечивает распадающуюся хрупкость тесного мирка, одновременно и как бы между прочим излагая безрадостную историю всей еврейской диаспоры:
Velkhe shtot farmogt aza alte ayngekhoykerte beys-medresh […]? Inem dozikn altn beys-medresh, dertseylen alte yidn, hobn zikh undzere zeydes amol farshlosen far Mazepen, gezesn dray teg mit dray nekht ongeton in tales u tfiln un gezogt tehilim – un durkh dem nitsl gevorn fun toyt [Sholem Aleykhem 1940: 9].
Какой город обладает такой старой, сгорбившейся синагогой […]? В этой старой синагоге, рассказывают старики, наши деды заперлись от Мазепы, будь проклято его имя! – сидели в ней три дня и три ночи в молитвенных облачениях и читали псалмы, чем спаслись от неминуемой смерти [Шолом-Алейхем 1960: 272].
Вполне закономерно, что похвала бане у Шолом-Алейхема завершается упоминанием антиеврейской травли, последовавшей за слухами, будто в ней повесили гоя: «Городу пришлось пострадать» [Шолом-Алейхем 1960: 272] («Hot di shtot gehat oyf zikh nokh dem a pekl» [Sholem Aleykhem 1940: 9]). А на красивой высокой горе, «вершина которой почти достигает облаков» [Шолом-Алейхем 1960: 278] («vos zayn shpits dergreykht biz der khmare» [Sholem Aleykhem 1940: 13]), до сих пор ищут клад времен Хмельницкого, но находят лишь кости убитых евреев.
Рассказчик же Севелы с не меньшей гордостью сообщает, что на его улице жил настоящий православный поп, которого, правда, вскоре после революции, «как и полагается» [Севела 1991a: 75], расстреляли. Его вдова, старая попадья, позволяет большевикам вырыть в ее огороде бомбоубежище, чтобы отвести от себя подозрения в неблагонадежности: в гротескной сцене она стоит перед домом в старом платке, из набожности повязанном поверх противогаза, «гостеприимно» приглашая евреев в укрытие. Читатель узнает также, что незадолго до войны, когда за хлебом уже приходилось стоять в очередях, Сталин открыл в Москве детскую железную дорогу – и тем самым посрамил Запад: «Сталин – лучший друг советских детей, а заодно и советских железнодорожников, осчастливил московских пионеров, а про остальных забыл или у него просто не хватило времени. Ведь он тогда вел всю страну к коммунизму» [Там же: 87 f.]. Казни, голод, «ликвидация» церквей на волне антирелигиозной пропаганды – таков исторический фон событий идишской вундермайсе, или еврейского плутовского рассказа (см. далее)286286
Иронический контраст между энтузиазмом рассказчика/героя и жалкой провинциальной действительностью – основной прием и в «Путешествии Вениамина Третьего» (1878) Менделе Мойхер-Сфорима. Как уже говорилось, напускная наивность персонажа ам-хаареца из литературы Хаскалы переходит во многие тексты еврейской литературы.
[Закрыть]. Так в своем первом эмигрантском произведении Севела, недавний диссидент-эмигрант и еврейский активист, пишет историю своего народа – еврейского и советского287287
Как не раз отмечали исследователи творчества Шолом-Алейхема, исторические цезуры, слом традиции и судьба еврейства в необратимо изменившемся мире становятся непосредственной темой «Тевье-молочника». Меер Винер пишет: «На первый взгляд, предмет Тевье-молочника вполне домашний: проблема воспитания детей. Однако на деле этот цикл „портретов из частной жизни“ изображает не только и не столько невзгоды одной семьи […], сколько упадок общественных основ в период между разными историческими эпохами» [Wiener 1941/1986: 44]. Библейские цитаты, считает Майкл Стерн, служат старому Тевье исконно еврейским средством сопротивления окружающим переменам – или хотя бы их истолкования, включения в знакомую картину мира: «Будучи бессилен остановить перемены, он способен бороться с ними разве что при помощи цитат и глосс» [Stern 1986: 93].
[Закрыть].
Главный герой рассказа – Берэлэ Мац, друг детства рассказчика. Берэлэ – неистощимый на выдумки и проделки плут, а также, по словам рассказчика, самоотверженный маленький герой, стремившийся осчастливить всех детей улицы. Берэлэ хитрец, но и шлемиль, потому что за шалости его нещадно сечет отец, грузчик Эле-Хаим Мац. Автор наделяет его гротескной внешностью: если все обитатели местечка красивые и высокие блондины или рыжие, светлоглазые и необыкновенно сильные288288
Эту плакатную внешность, прямо-таки зеркально противоположную клише о местечковых евреях, можно интерпретировать как провокационное опрокидывание Севелой – диссидентом и политическим эмигрантом – антисемитских стереотипов. Если перенести сионистскую фразеологию в контекст его вымышленного штетла, то речь здесь в буквальном смысле идет о пресловутых «мышечных евреях». Севела отказывается от изображения внешней инаковости евреев, более того, они превосходят своих нееврейских соседей по выраженности таких якобы нееврейских качеств, как физическая сила, простоватость и необразованность. Во внешности севеловских богатырей соединились, как кажется, черты сионистского и советского идеалов. Такие же мускулистые евреи действуют, например, в опубликованном издательством «Советский писатель» в 1983 году рассказе Бориса Гальперина «Моя родословная» (см. «Над андеграундом», с. 64), где сильные, хмурые, неотесанные еврейские лесосплавщики воплощают суровый идеал советского рабочего.
[Закрыть], то «Берэлэ Мац был плодом неудачного скрещивания» [Севела 1991a: 79], маленького роста289289
Низкорослость словно наглядно воплощает еврейский архетип маленького человечка (kleyne mentshele).
[Закрыть], с буйной черной шевелюрой, разноцветными – один зеленый, другой карий – глазами и огромными оттопыренными ушами. Эта нелепая внешность, отмеченная явной субверсивной гибридностью, контрастирует у Берэлэ с бесконечными оптимизмом и энергией:
Его оптимизм происходил от огромной силы таланта, причем таланта разностороннего, который бушевал, как огонь, в маленьком тельце под узким, заросшим волосами, лобиком [Севела 1991a: 81].
Берэлэ – одна из тех необыкновенных, нередко трагикомических фигур, которые представляют собой изюминку и, более того, самый дух еврейского рассказа. Он аутсайдер и альтруист, которого, как не раз с негодованием отмечает рассказчик, не понимают и не ценят окружающие. Рассказчик с комическим ужасом говорит о гениальных идеях Берэлэ Маца, не принесших последнему ничего, кроме дурной репутации и неисчислимых порок. Чтобы осуществить передовой проект «экономичного» молочного хозяйства, который позволил бы в нелегкие времена сэкономить на металле для ведер, друзья вдвоем ловят соседскую козу и пытаются (впрочем, без особого успеха) подоить ее прямо в рот Берэлэ290290
Вот что пишет о хелмер нароним (хелмских мудрецах/простецах) Мюррей Баумгартен: «Когда требуется решить некую проблему, хелмские мудрецы всегда предлагают теоретически правильный, однако практически абсурдный выход» [Baumgarten 1982: 79]. В современных условиях хасидскому сопротивлению, которое в свое время было направлено против оторванной от мира еврейской учености и которое стало богатым материалом для еврейского фольклора, соответствует протест против советской действительности, суровой не только к евреям.
[Закрыть]. Не ожидая ни от кого благодарности и прекрасно сознавая неминуемость расплаты, Берэлэ крадет деньги сначала у родителей, а потом и у соседей, чтобы купить всем детям местечка мороженое или воздушные шары у китайца-коробейника.
Фигуру Берэлэ Маца можно интерпретировать как детский вариант человека воздуха, шолом-алейхемского Менахем-Мендла. По мнению Баал-Махшовеса, необыкновенный авантюризм и находчивость Менахем-Мендла объясняются тем, что евреям недоступны были привычные для неевреев способы заработать или разбогатеть: «В результате еврейский торговец сосредоточился на всевозможных исключениях, фантастических сделках и необычных предприятиях (курсив мой. – К. С.). Еврей находился в таком же положении, что испанский или португальский путешественник XVI века, мечтавший об открытии неведомых земель, вроде Писарро или Васко да Гамы» [Ba’al-Makhshoves 1986: 9]. Плутовское обаяние Берэлэ заключается в его способности и желании привнести в нищую жизнь довоенного местечка радость и капельку роскоши, добыть вещи «из ничего», из воздуха. Иронически сравнивая еврейских «воздушных людей» с великими первопроходцами и путешественниками, Баал-Махшовес намекает на подлинное вдохновение, стоявшее за подобными инициативами, которые не сводились к одним лишь практическим нуждам. Уже в ранние литературоведческие работы вошла шолом-алейхемская интерпретация маленького человечка как еврейского донкихота, растрачивающего свою неистощимую жизненную силу на эфемерные цели; в частности, Меер Винер пишет: «Незначительность их идей трагична сама по себе, но еще трагичнее тот факт, что их сверхчеловеческая энергия расходовалась впустую» [Wiener 1941/1986: 50]. Еврейским «простакам, шлимазлам, мечтателям, одержимым» Винер приписывает «кихотические устремления» («quixotic striving») и героизм [Ibid: 52].
Переосмысление нееврейских норм героизма в еврейском фольклоре и литературе исследуют Рут Вайс [Wisse 1971] и Сэнфорд Пинскер [Pinsker 1991]: «Если нееврейский мир гордился своими армиями и политическим влиянием, еврейство штетлов помещало эту „власть“ в определенную перспективу. Еврейский юмор служил в таком случае способом одержания побед при помощи одних лишь иронии и скептицизма» [Pinsker 1991: 13]. Понятия «армия» и «победа» пересматриваются здесь в свете еврейского «словесного оружия».
Берэлэ Мац, сообщает рассказчик, был личностью выдающейся, призванной осчастливить человечество, и мучеником, который заслугами превосходил Джордано Бруно и Галилео Галилея. Преклонение перед героем, выдержанное в традиции еврейских сатирических народных книг, историй о дураках и более позднего плутовского романа, и здесь пóходя приподнимает исторический занавес: на фоне открытия Сталиным в Москве детской железной дороги обреченная на крах попытка Берэлэ устроить «железную дорогу» и для маленьких жителей Инвалидной улицы выглядит актом подлинной человечности: на краденые деньги он покупает старую клячу, которой, к восторгу детей, удается какое-то время провезти их на санках.
Призывая будущих историков увековечить деяния Берэлэ Маца «[и] не смущаться от того, что человек этот – увы! – еврей», Севела намекает на советскую историографию: ведь историки должны рассказать обо всем объективно, а «не так, как в Большой Советской Энциклопедии» [Севела 1991a: 87].
Рассказ о детских приключениях с отчаянным нарушением взрослых правил и взрослыми наказуемых восходит, кроме того, к прозе Шолом-Алейхема о детях. Так, Берэле Мац – прямой литературный потомок Шолома, сына Нохума Вевикова из уже упомянутого романа «С ярмарки». Шолом – «этот „бездельник“», который «не хотел расти» [Шолом-Алейхем 1960: 288] («a sheygets un nisht gevolt vakzn in der heykh» [Sholem Aleykhem 1940: 32]) – так же сообразителен, как и непослушен; учитель хедера, соседи и родители осыпают его оплеухами и тычками, но ему все нипочем. Фигура Берэлэ Маца связана, наконец, и с более старинной традицией еврейского повествования – с образами «мудрых» простецов, будь то вошедшие в поговорку хелмер нароним или «простаки и плуты в ермолках» [Loewe 1920] вообще291291
О традиции простаков и плутов в еврейской народной культуре см.: [Loewe 1920]. Как уже в историях рабби Нахмана, прежде всего в знаменитом рассказе «Мудрец и простак» («A mayse mit a khokhem un a tam»), (хасидские) простаки и есть подлинные мудрецы, так как умеют быть счастливыми, несмотря ни на что, не ведают сомнений и недовольства; на этой ценностной шкале «маленький человечек» становится великим. См. также главу «Хасидский дурак» в монографии Рут Вайс: [Wisse 1971: 16–24].
[Закрыть].
Рассказ завершается тотальным уничтожением, постичь которое повествователь не в силах: почти всех жителей местечка убивают немцы, так что некогда важные различия внутри этого тесного мирка перестают играть какую-либо роль292292
Ср.: «…я никак не понимаю, как это выдержал земной шар, который продолжает по-прежнему вертеться, как ни в чем не бывало, а солнце так же всходит каждое утро, ни разу не покраснев. Уму не постижимо!» [Севела 1991a: 95].
[Закрыть]. Из семейства Мац в живых остался только старший брат Берэлэ – герой-фронтовик Гриша, но и его расстреливают незадолго до конца войны за то, что после посещения растерзанного штетла он, обезумев от отчаяния и жажды мести, направляет танк на колонну немецких военнопленных и убивает множество людей. Стилистика шоа проявляется в том, что еврейская речь рассказчика и героев обрывается, а литература – эксцентрика еврейской плутовской майсе – уступает место истории, не знающей нарратива. Такой отказ от поэтической традиции перед лицом жестокости, превосходящей всякий художественный вымысел, как бы начинает отсчет постгуманной эпохи – феномена, после шоа ставшего характерным для еврейских литератур на разных языках. Именно в этом контексте Дэвид Роскис рассуждает о еврейском черте из рассказа Исаака Башевиса-Зингера «Последний черт» (оригинальное заглавие «Майсе Тишевиц» – «Тишевицкая сказка», 1959): еврейские мистики прежних времен считали нечистого могущественным, а теперь он утратил всю свою силу. Раби, дважды отразивший демоническое искушение, уже не получает возможности выстоять против «темных сил» в третий раз или проиграть, так как «приходят немцы и уничтожают евреев Европы, не оставляя в живых никого, кто был бы достоин этого испытания. Черт не может тягаться с бесами в человеческом обличье» [Roskies 1994: 126]293293
Ср. об этом также: [Dauber 2004: 3].
[Закрыть]. Черт-рассказчик дает читателям понять: и эта история, и сам он навсегда стали достоянием сказок:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?