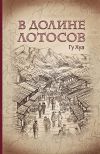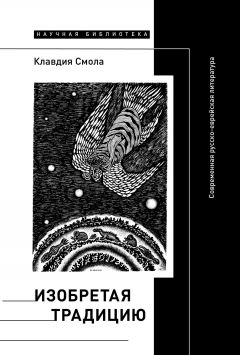
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
«Роман-палимпсест» Якова Цигельмана «Приключения желтого петуха» – оригинальный, фантастико-сюрреалистический вариант скептического травелога, отчет о вымышленном путешествии, который соединяет притчевость с литературной (интертекстуальной) игрой и рассказывает историю эмиграции. Заглавная зоологическая метафора еврейства в галуте, подобная тем, которые, как мы видели, в литературе исхода часто используются для проблематизации и иронического обыгрывания еврейских моделей ассимиляции, приспособления и мимикрии262262
Такое толкование зоологической метафорики в русско-еврейской прозе требует, однако, историко-литературного уточнения. Как видно уже из названия, а также из смысловой структуры романа Давида Маркиша «Пес», образ пса – это прежде всего троп советской государственной милицейско-надзорной системы, но также и вечного скитальчества и неприкаянности советско-еврейского интеллектуала. Здесь Маркиш отсылает к своему выдающемуся предшественнику, Шмуэлю Йосефу Агнону, с его уже упомянутым романом «Темол шилшом». Герой этого произведения, Ицхак Куммер, выходец из простой семьи восточноевропейских евреев и пламенный сионист, переселяется из Галиции в Палестину, где переживает глубокое разочарование; правда, во второй части романа ему удается более или менее приспособиться к реалиям жизни на Святой земле. У него есть таинственный двойник – бродячий, всеми гонимый и проклинаемый, безумный пес Балак, который в финале загрызает Ицхака насмерть. Амир Эшель трактует это двойничество как символ невозможности достичь святого места маком в реальной Палестине: «В фигуре бродячего пса, сливающейся с седым сионистом Куммером, Агнон мастерски кодирует современную радикализацию старинного противоречия между космосом и макомом» [Eshel 2003: 132]. Слияние конкретного места с духовным достижимо лишь в смерти. Так и герой романа «Пес» Вадим Соловьев, как было упомянуто, тщетно ищет единственную родину, затем решается на возвращение в страну рождения, а в конце его тоже загрызает собака. Необъяснимое отвращение Вадима к собакам и вместе с тем его постоянно подчеркиваемое сходство с псом как бы предвосхищаются у Агнона. Важно, что глубоко укорененный в восточноеврейской традиции Агнон изображает проблемы заселения евреями Палестины и провалы сионистской идеологии изнутри, с точки зрения участника сионистского строительства. Напротив, внешняя в силу социально-исторического контекста точка зрения ассимилированных евреев Севелы, Милославского, Маркиша или Цигельмана приводит к радикальному отрицанию израильской реальности.
[Закрыть], здесь реализуется и воплощается в главном герое, субъекте трагикомических философских размышлений о судьбе еврейских эмигрантов.
Роман про желтого петуха – развернутая аллегория Другого. Герой, желтый петух, рожден от кенара и потому не любим матерью-курицей. О своем несчастье он начинает догадываться лишь в тот момент, когда, случайно услышав пение канарейки, оказывается способен ответить на том же наречии. После этого он понимает, что ему остается одно – покинуть родные края. Желтый петух, этот интеллектуал среди простого плебса, сразу же осознает проблему своей «расколотой идентичности»:
Кто я? Внешне никто не отличит меня от петуха. Но кто приглядится ко мне, тотчас обнаружит, что слишком я желт для обыкновенного петуха.
А разве я кенар? Кто они и кто я? Немного я знаю про них, то есть про нас. Главное знание мое идет из каких-то моих глубин [Цигельман 2000: 33].
Эти размышления касаются его гибридной сущности – важной, но смутно воспринимаемой части собственной природы. Другой герой романа и человеческое alter ego желтого петуха, АФ, «белокурый молодой человек с крупным носом» [Там же: 37], соединяет в себе два устойчивых стереотипа о славянской и о еврейской внешности и, соответственно, тоже гибриден. АФ эмигрирует в Израиль, увозя с собой в чемодане желтого петуха (как выясняется, это мягкая игрушка!).
Следуя характеру своих персонажей, Цигельман создает в высшей степени гибридный интеллектуальный жанр: здесь вымысел сочетается с историческими и литературоведческими экскурсами, подчас весьма пространными, а бесчисленные цитаты и аллюзии то и дело растворяются в тексте, ставя перед читателями задачу дешифровки. Интертекст сообщает дискурсу эмиграции характер литературного и культурологического путешествия: он отсылает к «Письмам русского путешественника» Карамзина, «Путешествию в Арзрум» Пушкина, «Хожению за три моря» Афанасия Никитина, «Езде в остров Любви» Тредиаковского и романам Гончарова. Рассуждения о путешествиях в русском культурном контексте подкрепляются ссылками на историков и этнологов. Так, желтый петух, которому принадлежит бóльшая часть размышлений, а подчас даже целые вставные трактаты, приходит к мысли об особых исторических корнях русской эмиграции как движения несогласных: поскольку для русского человека заграничные поездки издавна были и до сих пор остаются чем-то исключительным, у него протест против государственного деспотизма выражается в форме пространственной изоляции.
Таким образом, поездка в Израиль инсценируется как культурный факт. Достигается это, помимо вставных метатекстов, через стилистическую архаизацию повествования: оба героя романа, вскормленные высокой русской культурой, нередко изъясняются рифмованными репликами в духе сентиментализма, то есть эпохи не позже конца XVIII – начала XIX столетия. Желтый петух предстает философствующим, несколько меланхоличным и тонко чувствующим молодым человеком сродни героям Карамзина и Жуковского. При этом контраст современных реалий и старинного, возвышенного языка производит комический эффект, а подражание риторикам разных эпох постепенно складывается в мозаику, своего рода пастиш.
Репатриация на израильскую землю показана в зеркале зоологических или, вернее, орнитологических теорий, которые сначала говорят в пользу еврейской автономии, а потом, после того как петушиный травелогический проект терпит неудачу, в пользу ассимиляции. На первом этапе желтый петух выясняет в ходе своих научных штудий, что народ канареек веками хирел в окружении чужаков, теряя изначальную окраску, певческие способности и родовую память. Однако после опыта такой же принудительной ассимиляции в Израиле – так, пристрастие желтого петуха к темным лесам заставляет соплеменников подозревать, что он может вступить в сговор с их врагами, – герой меняет свою точку зрения. Здесь тоже приходится следовать заповеди: «Пой, как все поют!» [Там же: 102]. Лишь в Израиле он понимает, что по-прежнему остается петухом, так же как в России был и будет кенарем, и порочный круг его аутсайдерства замыкается. Отныне он настаивает на том, что культура еврейской диаспоры черпает свое богатство из слияния с другими культурами. Диаспора, полагает он теперь, создала уникальные условия для развития многообразия и индивидуальности канареек как вида, а также их певческого искусства (прозрачный намек на культурную продуктивность евреев). Иными словами, европейское еврейство никогда не станет органичной составляющей израильского народа, так как речь идет о разных биологических видах263263
В пессимистических вариантах сионистского травелога можно найти немало неприглядных зоологических параллелей с приручением и укрощением (ср. ранее о «Врата Исхода нашего» Феликса Канделя и «Картины и голоса» Семена Липкина, с. 218). В уже упоминавшемся романе «Остановите самолет – я слезу!» Эфраима Севелы рассказчик описывает опыт репатриации так: «В Израиле есть целое Министерство абсорбции. Оно только тем и занимается, что превращает евреев в израильтян. Вольных, необъезженных евреев вылавливают из диаспоры, как диких мустангов из прерий, и пропускают через машину абсорбции, чтобы довести их до местной кондиции» [Севела 1980: 72].
[Закрыть].
Сходство двух родин, старой и новой, подчеркивается тем обстоятельством, что в Израиле желтый петух в конце концов вынужден уйти во «внутреннюю эмиграцию» [Там же: 198], тем самым оживляя расхожую метафору пассивного сопротивления диктатуре. Он впадает в депрессию и наконец покидает Израиль, чтобы отправиться в путешествие по Европе. Так эмиграция становится для желтого петуха – этой живой аллегории – образом жизни, имманентным существованию, и методом исследования собственной природы. Его интеллектуализм и авторефлексия – это тоже признаки внутренней эмиграции, которая отныне сопровождает его повсюду и не имеет географической привязки.
Повторяющиеся отсылки к литературным утопиям от Платона до Чернышевского придают всему приключению характер вымысла, но вместе с тем и научных (а подчас и псевдонаучных) дискуссий. Плотная сеть культурных ассоциаций ослабляет судьбоносность изображенного странничества: скитания петуха выглядят скорее исследованием многократно исхоженных (мыслительных) путей, интеллектуальным конструктом, выращенным на российской культурной почве264264
Ср. высказывание Петра Вайля и Александра Гениса о советской алии: «Разочаровавшись в России, они увозили ее с собой. Утопия меняла лишь адрес, но сохранила признаки своего российского происхождения: веру в возможность осуществления царства Божьего на земле; веру в творческий коллектив свободных людей […]; веру в равенство, братство и счастье – для всех и навсегда» [Вайль/Генис 1996: 306].
[Закрыть]. О том, что авторская ирония направлена на движение алии как на продукт утопического мышления в традиции русской оппозиционной интеллигенции, свидетельствуют два ведущих к Чернышевскому сна АФ265265
См. главы «Первый сон АФ» и «Второй сон АФ» в: [Цигельман 2000: 67 f., 214 f.].
[Закрыть] и расплывчатый, идеальный образ Израиля, который герой рисует себе перед отъездом:
Но никакая достоверная информация не могла разрушить в душе АФ образ той страны. Он слышал смешанный шум голосов, автомобилей, музыки. Ему чудились светящиеся окна в домах неведомых городов, мелькали тени. Там собралась веселая толпа, происходил живой обмен мыслями; там живут легко, шумно и радостно [Цигельман 2000: 51].
Роман-палимпсест Цигельмана, эта постмодернистская притча с ее центральной метафорой бесконечного, захватывающего интеллектуального путешествия, утверждает культурную инклюзию и открытость миру, гибридность как естественное духовное состояние и деконструирует при помощи зоологических метафор любые попытки эссенциализации еврейства, тем самым косвенно развенчивая и телеологию новой иудаизации.
Самое позднее с начала секуляризации скептический путевой нарратив в еврейской литературе рассказывает о неудавшемся возвращении, будь то возвращение в штетл, или – в более широком смысле – к оставшемуся в диаспоре прошлому, или воображаемое, утопическое «возвращение» в Землю обетованную. В своей работе о романах возвращения Йозефа Рота Клаудио Магрис пишет о «путешествии домой после поражения»: такой нарратив повествует о том, «как человек возвращается домой или как он возвращается обратно, чтобы найти родину» [Magris 1971: 27]. Однако если Рот размышляет о первых необратимых утратах идентичности в эпоху еврейской модернизации, когда ассимиляция вела к отчуждению от некогда священного «своего» пространства, то современные авторы показывают невозможность постисторического возвращения к еврейской истории и на еврейскую территорию. Модели инаковости, продолжающие формироваться по ту сторону границы, свидетельствуют, как и географические пути отчуждения у Рота, о выходе из истории как таковой: «…разорвавший все связи индивидуум предстает теперь во всей своей хрупкости и незащищенности» [Ibid: 33]. Земля обетованная воплощает идею пространства как семантической пустоты, как необитаемого, неосвященного места, анти-макома.
МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В НОНКОНФОРМИСТСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Еврейская диссидентская литература основывала свои утопии на символическом осмыслении не только географических, но и временных пространств. Пересечение времени и пространства возникало уже из одного лишь контраста между покидаемой страной с ее прошлым и настоящим – и территорией будущего. Концепция исхода отражалась в самой художественной организации времени и пространства, образуя при этом изоморфные структуры на уровнях системы персонажей, повествовательной перспективы, а подчас и языка266266
Например, когда одним семантическим пространствам соответствует возвышенная стилистика, а другим – разговорно-бытовая.
[Закрыть]. Израиль как «поэтическое заселение» Сиона (Амир Эшель) или «текстуальная репатриация» (Сидра ДеКовен Эзрахи)267267
См. «Конец дихотомии: разрушенная утопия алии» (с. 241).
[Закрыть] – одно из тех пространств, «которые определяются не только реально – территориально и физически – но уже и не только символически, но являются и тем и другим одновременно и поэтому возводятся в новое качество: „гетеротопиями“ называет их Фуко, „воображаемой географией“ – Саид, как „глобальные этнопространства“ обозначает их Аппадураи, как „третье пространство“ („thirdspace“) или „реальные-и-воображаемые места“ („real-and-imagined places“) – Соджа» [Бахманн-Медик 2017: 354].
Исследуя семантику географических пространств русского средневековья, Юрий Лотман отмечает «религиозно-нравственное» значение географических понятий и мест: «…те или иные земли воспринимаются как земли праведные или грешные. Движение в географическом пространстве становится перемещением по вертикальной шкале религиозно-нравственных ценностей, верхняя ступень которой находится на небе, а нижняя – в аду» [Лотман 1996: 239]268268
В своем типологическом исследовании русской культуры Игорь Смирнов развивает концепцию Лотмана, постулируя похожую «конъюнкцию» земного и метафизического миров, характерную для раннесредневекового мышления. Трансцендентное напрямую вводилось в эмпирически наблюдаемую действительность. Проявляется это, в частности, в пространственных моделях древнерусской литературы, наносившей рай и ад на географическую карту: «…рай и ад размещаются в участках земного пространства, причем пребывание там рисуется как продолжение земного бытия» [Смирнов 2000: 261]; «Раннему средневековью хотелось бы, чтобы перемещение в запредельное не означало исчезновения из физической среды, чтобы одно и то же явление знаменовало собой пребывание как посюстороннего в потустороннем, так и потустороннего в посюстороннем» [Там же: 263].
[Закрыть]. Лотман подчеркивает символико-утопические качества средневековых ландшафтов и границ: «Этот особый характер подхода к географии, которая еще не воспринималась как особая естественнонаучная дисциплина, а скорее напоминала разновидность религиозно-утопической классификации, очень характерен для средневековья […] Разрыв с грехом мыслился как уход, пространственное перемещение» [Там же: 242]269269
Как показывает в своей часто цитируемой книге Мирча Элиаде, связь тех или иных мест с божественными или демоническими силами и атрибутами – основополагающее свойство архаических культур. Чтобы географические места могли войти в картину мира древнего человека, необходимо было приписать им божественное происхождение и, соответственно, «внеземной архетип» [Элиаде 2000: 27–30].
[Закрыть]. Основоположник геопоэтики Кеннет Уайт270270
См. о геопоэтике Уайта: [Marszałek/Sasse 2010: 7–8].
[Закрыть] указывает на инфантильную герметичность христианских представлений о пространстве; география как наука не вписывалась в эпистемологический контекст христианского средневековья: «Христианский мир – полностью замкнутый, ограниченный, даже инфантильный, связанный символическими узами с Иерусалимом, ombilicus terrae. Для географии христианская эпистемология оставляла мало места или не оставляла его вовсе» [White 2007: 18]. В такой картине мира Иерусалим как umbilicus terrae («пуп земли») определял пространственные категории близости и удаленности.
Мистико-мессианские и нравственно-религиозные модели пространства и времени возродились в ситуации восстания новых «сект» в позднесоветской империи: географическое перемещение превращалось в моральное восхождение, вновь становился актуальным образ небесного Иерусалима из книг еврейских пророков, о котором пишет Элиаде [Элиаде 2000: 27 f.].
Аллюзии на апокалиптически-мессианский иудаизм в нонконформистской прозе исхода, безусловно, неслучайны. Алейда Ассман связывает написание книги пророка Даниила с новой духовной установкой, сложившейся в эпоху еврейского сопротивления эллинизации, а точнее – с годами восстания Маккавеев:
Апокалиптическое видение истории формировалось у религиозных меньшинств, которые противопоставляли себя репрессивной политической власти. Их оружием против имперской экспансии становилась идеология; они обращались к инстанции, чья мощь превосходила силы поработительской державы. Так рождалось представление о духовном, трансцендентном царстве [Assmann 1999b: 22].
Ассман называет Даниила «субверсивным умом, который […] подготавливает переворот изнутри» [Ibid]. Здесь и не только апокалиптическое видение истории исходит «от периферийного социума противников» действующей власти, которые провозглашают «универсальный исторический план», стоящий над официальной концепцией истории [Ibid: 23]. При этом «линейное время становится […] разрушительной силой в руке Всевышнего Судии» [Ibid: 24]. Ян Ассман описывает тот же самый феномен как размыкание цикличного времени в линейное:
Из круга вечного возвращения получается прямая, ведущая к далекой цели. […] Поэтому иудейская апокалиптика, возможно, не исток этого исторического феномена, а лишь самое раннее свидетельство культурно-антропологической универсалии [Ассман 2004: 85].
Литературные стратегии сопротивления еврейских диссидентов по-новому задействуют субверсивную апокалиптическую метафорику пространства и времени, чтобы опровергнуть или выключить «имперское время», не менее телеологическое и эсхатологическое [Assmann 1999b: 24].
В изменившемся историческом контексте еврейские интеллектуалы, радикально противопоставляя себя вере большинства, воскрешают иудаистскую заповедь соблюдения чистоты и исключительности еврейства диаспоры. (Опираясь на теорию еврейской культурной мнемотехники Яна Ассмана, Фолькер К. Дёрр определяет еврейскую диаспору как «закапсулированную, отгороженную форму детерриториализации („Ortlosigkeit“), которая неразрывно связана […] с закодированным в текстах культурным воспоминанием» [Dörr 2009: 67].) В то же время еврейский принцип воплощенной в слове духовной территории, этого «переноснóго отечества», по выражению Генриха Гейне [Гейне 1959], а также важнейшая иудаистская концепция макома 271271
Амир Эшель описывает эту концепцию на материале еврейской литературы и специфики ее духовных топографий. Главный его тезис звучит так: «Разрушение Второго Храма и изгнание евреев из собственной страны в значительной мере укрепило интерпретацию макома как лингвистического маркера идеи, что Бог может являть себя где угодно, что маком содержится прежде всего в тексте» [Eshel 2003: 124].
[Закрыть]упраздняются в идее окончательного закрепления на конкретной земле, то есть в идее опространствления религии. В этом заключается утопическая модификация религиозной апокалиптики: «Предполагалось, что возвращение в Землю Обетованную приведет к реинтеграции иудаизма – воссоединению Книги, народа и места» [Gurevitch/Aran 1994: 196]272272
Диалектическое соотношение утопизма и апокалиптики метко формулирует Оге Ханзен-Лёве в связи с «эндшпилями и нулевыми формами» русского авангарда: «С одной стороны, утопизм апокалиптичен, так как обращен к эсхатону в сфере посюстороннего, […] с другой – антиапокалиптичен постольку, поскольку использует модель времени и действия, противоположную (классической, библейской) апокалиптике. Утопист переносит потустороннее в этот мир, подменяя пророчества утопическим планом, проектом» [Hansen-Löve 2005: 705].
[Закрыть].
В связи с иудаистским пониманием места – ХаМаком, – которое парадоксальным образом сочетает в себе духовные и пространственные смыслы, стоит процитировать и Хельгу Фёлькенинг: «После вторичного разрушения Храма […] Господь тоже […] становится бездомным, теряет свое земное обиталище, тем самым разделяя, согласно еврейским представлениям, изгнание со своим народом – народом Израиля. […] божественное присутствие, соответственно, уже не мыслится как постоянно привязанное к определенному месту, а скорее раз за разом актуализируется на какое-то время. […] В раввинистическую эпоху термин «маком» также использовался в переносном значении повсюду – несомненно, в силу своей абстрактности и неопределенности: в конечном счете (Ха)Маком (то самое, единственное место) включает в себя все места, оно может быть где угодно. Соответственно, эпитет Бога ХаМаком […] переводился как „Вездесущий“ (курсив в оригинале. – К. С.)» [Völkening 2007: 78–80]. О дуализме этого понятия Зали Гуревич и Гидеон Аран замечают: «Хамаком – „то самое место“ – имеет двоякое значение. С одной стороны, имеется в виду определенная территория на восточном побережье Средиземного моря, где находится современный Израиль. С другой стороны, это идея, голос, мысль, в сравнении с которыми конкретное место, это земное проявление Хамакома, оказывается вторичным» [Gurevitch/Aran 1994: 195]273273
Характерный для иудаистских текстов прием переноса топографических понятий в сферу универсального анализирует Аркадий Ковельман. В частности, он показывает, как земля Ханаан в трактате Мишны «Санхедрин» становится метафорой вечного и вместе с тем будущего царства и, соответственно, особым местом возвращения всех евреев [Ковельман 2008: 9–32, особ. 26].
[Закрыть].
Шестидневная война, в итоге приведшая к культурному ренессансу в (полу)подполье, спровоцировала и запечатлела момент спиритуализации израильского пространства, ведь теперь библейские израильские территории были «отвоеваны», что позволяло осмыслить победу как грандиозный божественный план. Эту цезуру 1967 года Зали Гуревич и Гидеон Аран рассматривают как время слияния геоисторической и метафизической концепций Израиля и ремифологизации пространства и времени:
Всего за неделю Израиль как бы вернулся на две-три тысячи лет назад […]. Чтобы пуститься в это удивительное путешествие во времени, достаточно было проехать лишь несколько километров, иногда даже метров. […] Это сокращение дистанции и создание территориального континуума сделали возможным телескопическое приближение истории. В Иудее и Самарии как бы воцарилась библейская реальность – посетители сталкивались там с реальной ситуацией, которая еще вчера считалась архаической или мифической [Ibid: 205].
Открыто критически рассматривает израильскую «сионистскую утопию», которая особенно ярко заявила о себе в 1967 году, Ури Айзенцвайг, считая ее примером «израильского социального воображения» («l’imaginaire social israélien») [Eisenzweig 1980: 18]. В своей монографии о коллективном воображаемом в контексте израильского государственного сионизма Айзенцвайг сопоставляет мистико-религиозные проекции, «фундаментальный вред религиозной басни „Возвращение в Сион“» («la nocivité fondamentale de la fable religieuse du „Retour à Sion“») [Ibid: 16], с их реальной историей и географией.
Конечно, коллизия двух пространственно-временных утопий – коммунистической, которая захватила бóльшую часть Восточной Европы, и иудаистской, во многом соответствовавшей израильской политике государственного социализма и противопоставлявшей коммунизму провиденциальное государство на Ближнем Востоке, – не была случайной. Диссидентские утопии возникали на почве той пустоты, которую коммунистическая идеология уже не в силах была заполнить. Так, Петр Вайль и Александр Генис описывают путешествия в Сибирь и образ далекой северной земли 1960‐х годов как источник метафизики для советских людей, который ненадолго закрыл историческую пустоту и потому сыграл важную роль в компенсаторном поддержании советской «веры» [Вайль/Генис 1996: 84]274274
См. главу «География вместо истории. Сибирь».
[Закрыть]. Постепенно утрачивая свою мифическую силу и идеализм, Советский Союз мутировал в империю [Там же: 278–292].
В средах альтернативных диссидентских и полудиссидентских движений позднего Советского Союза возникала новая версия апокалиптической концепции времени, неизбежно соположная и родственная имперской:
Обе модели времени, имперская и апокалиптическая, эсхатологичны; они находятся в одном и том же контексте исторического избавления […]. В обобщающем смысле можно, пожалуй, утверждать, что всякое апокалиптическое движение – это восстание против Рима, а всякий Рим борется с зелотами-апокалиптиками. Имперское время с его преклонением перед долговечностью и апокалиптическое время с его ожиданием, надеждой, нетерпением соответствуют противоположным перспективам сверху и снизу, но в рамках общей модели истории. Имперское время означает сакрализацию власти и торможение перемен […]. Апокалиптическое время означает делегитимацию власти и уничтожение мира [Assmann 1999b: 29].
Введение нового летосчисления изменяет пространство как место памяти. Так, Ян Ассман определяет те или иные ландшафты как «медиум культурной памяти», они «возводятся в ранг знака, т. е. семиотизируются» [Ассман 2004: 63]. Отсылая к последней работе Мориса Хальбвакса «Легендарная евангельская топография в Святой земле» («La Topographie legendaire des Évangiles en Terre Sainte», 1941), Ассман рассматривает Святую землю как классический «мнемотоп», или «ландшафт воспоминания». Одновременно в позднем Советском Союзе в очередной раз актуализуется «контрапрезентная», т. е. идущая вразрез с настоящим, функция культурной памяти [Ассман 2004: 83] – «функция освобождения через память» [Там же: 90], эффективное средство политической борьбы с «сейчас» [Там же: 90–91]. Для авторов алии (авторов движения и ее культуры) и ее реальных и вымышленных героев Израиль становится «горячим» воспоминанием, «которое […] извлекает из прошлого элементы собственной идентичности, точку опоры для надежд и целей» [Там же: 83].
Как уже упоминалось, Яэль Зерубавель исследует обращение к такому «горячему воспоминанию» в культуре позднего ишува. До создания государства «символический мост» («symbolic bridge») [Zerubavel 2005: 116] к героическому библейскому прошлому служил консолидации национального сознания и позволял поселенцам в Палестине конструировать исторический нарратив своего народа: «Это был настоящий вызов, с которым сионистская национальная память […] столкнулась в попытке нащупать преемственность между древним национальным прошлым земли Израиля и его возрождением после двухтысячелетнего разрыва» [Ibid]. Избирательность актуализированных воспоминаний – «селективный аспект национальной памяти» [Ibid] – сплавлялась с пространством (Зерубавель следует концепции памяти Мориса Хальбвакса), сообщая ему мифическую способность сопрягать далекое.
Впрочем, литературные стратегии еврейского инакомыслия не исчерпывались восприятием религиозной (у)топики Израиля. Они непрестанно воспроизводят определенные пространственные структуры и отношения – плотную сеть коннотаций, создающую хронотопы противостояния. Декларируемые в текстах культурные и этические ценности семантизируются при помощи пространственных иносказаний. При этом конституируются следующие семантические пространства:
– пространства кары и изоляции: такие закрытые и охраняемые пространства, как психиатрическая больница, тюрьма, следственный изолятор, лагерь, а также государственные ведомства, например ОВИР. Местом изоляции и надзора становится и архив, пришедший на смену библиотеке как открытому публичному пространству памяти; структурное соответствие «ссылки» еврейских книг и рукописей в архивы – это аресты и последующая изоляция самих евреев.
– воображаемые пространства: это пространства безумия, фантазии и сновидений, которые часто мыслятся как своего рода параллельные миры, прибежище для угнетенных. В таких пространствах возникают образы еврейских святынь, земли Палестины, навсегда оставшихся в детстве штетлов, ушедших эпох еврейской истории и опыт оккультного, каббалистического познания мира. «Сама она не хотела ни в Париж, ни в Лондон, а только в Иерусалим. Один звук этого имени казался ей волшебным. Для нее это был не город, где пьют кофе и покупают мыло, а некоторая таинственная обитель, специально для духовных потрясений. Туда вела извилистая тропа, по древним, каменистым горам Иудейским; […] и вдруг на одном из поворотов в открывавшемся проеме вставал Иерусалим, мистический город в поднебесье» (из рассказа Юлии Шмуклер «Уходим из России») [Шмуклер 1975: 48].
– пространства вытеснения, стирания и переписывания: здесь образ палимпсеста с его многослойностью становится всеобъемлющей структурной метафорой коллективной амнезии, спровоцированной властью или самими евреями. Устойчивые мотивы – использование синагог не по назначению (в качестве хлебозаводов, складов или конюшен)275275
См. документальный отчет о преимущественно нерелигиозной эксплуатации российских синагог (на примере отдельных регионов) еще в 2001 году: [Белова/Петрухин 2008: 165].
[Закрыть] или еврейских надгробий в качестве стройматериалов. Когда надгробия переносят в другое место, например на нееврейское кладбище, мы наблюдаем практику переписывания с наглядной буквальностью: сбитые еврейские имена и цитаты из Торы заменяются на другие, то есть изымаются из своей синтагматики и встраиваются в другой культурно-идеологический контекст.
Показательно в этом смысле апокалиптическое видение психиатра Эммануила Кардина из романа «Лестница Иакова»: Кардин видит, как великие произведения искусства и древнееврейские рукописи распадаются и растворяются в воздухе. Его пациент Плавинский, выступающий в романе духовным наставником Кардина, упоминает Стикс – реку забвения – и предрекает, что память «сотрут, как фрески Шагала со стен бывшего еврейского театра на Малой Бронной, как имена Кандинского, Татлина. Останется вот – светящееся табло – вершина урбанистической мысли…» [Баух 2001: 199]. Пустое светящееся табло – городская метафора культурного истребления. Каббалистическому соединению имен, отвращающему темные силы, противостоит, объясняет Плавинский, «стирание имен» [Там же] – дело рук сатаны.
Однако главным объектом переписывания и забвения становится сам человек: у Ефрема Бауха это, среди прочих, духовный конвертит Борис Пастернак; у Давида Шраера-Петрова – евреи, принявшие в ходе ассимиляции русские и украинские имена, и народ караимов, из страха отрицающий свое иудейство. Тема сохранившихся следов, полускрытых в палимпсесте, этих покрытых новыми надписями и все-таки отчасти уцелевших слоев прошлого, смыкается с темой криптоеврейства, мимикрии и подполья (позже это откликнулось в постсоветских рассказах Давида Шраера-Петрова «Мимикрия», 1996, и «Белые овцы на зеленом склоне горы», 2005)276276
В «Белых овцах на зеленом склоне горы» рассказчик, приехав в Азербайджан, вместе с коллегами-писателями останавливается на ночлег в доме местной семьи. Во время застолья он задает вопрос: не приходятся ли домочадцы родственниками известному хирургу Елизарову? Возникает неловкая пауза, после чего хозяин дома Сулейман отвечает, что это не так, ведь они азербайджанцы, а Елизаров – горский еврей. После трапезы Сулейман внезапно ведет рассказчика в укромную комнатку, которая находится в подвале, за несколькими запертыми дверями. Эта каморка оказывается тайной молельней с серебряными подсвечниками для шабата и Танахом, лежащим на талесе. Сулейман рассказывает, что его семья, происходящая от горских евреев, некогда была насильно обращена в мусульманство. «Но мы все равно остались евреями», – говорит он [Шраер-Петров 2003: 297]. В идиллическом пейзаже вокруг дома Сулеймана рассказчику мерещатся поэтичные ландшафты древнего Ханаана, а затем он как будто бы слышит, как Авраам приносит в жертву овцу, чтобы господь когда-нибудь примирил его сыновей – Исаака и Измаила.
[Закрыть]. Однако в глобальном смысле вся история ассимиляции евреев диаспоры осмысляется как процесс «стирания имен».
Часто местом вытесненной или потаенной еврейской культуры выступает советская периферия – некогда покинутое героем местечко или удаленные от центра власти Литва и Средняя Азия. Так как на окраинах еврейская культура кое-где еще сохраняется, периферийное нередко становится местом порождения смыслов, живой устной памяти и предания. Окраина империи тем самым – в духе лотмановской семиосферы – семиотически заряжается и противопоставляется знаковой пустоте центра. Так, Эммануил Кардин едет в родной городок, чтобы получить откровение, в буквальном смысле вернуться к собственным корням. В романе Шраера-Петрова «Герберт и Нэлли» рассказчик посещает литовский город Тракай, где еще живут караимы. Выросший в Узбекистане Эли Люксембург изображает в «Десятом голоде» среднеазиатское еврейство Бухары. В «Присказке» Давида Маркиша казахстанская ссылка в итоге оказывается альтернативой Палестине, своеобразной заменой территории свободы, местом вызревания сионистских идей и преддверием алии. Похожую замещающую функцию выполняют, однако, и «оазисы» еврейской веры и протеста в крупных городах, эти редкие топосы еврейской публичной сферы, например, московская синагога на улице Архипова. Напротив, квартиры – традиционное место собраний еврейских (и нееврейских) интеллектуалов – выступают пространствами вытесненного, тайного еврейства.
– антипространства еврейства: литературными антипространствами еврейства служат городские центры советской жизни, в большинстве случаев совпадающие с местом проживания героев-нонконформистов и воплощающие репрессивный идеологический дискурс. С этой точки зрения центр противопоставлен не только периферии, но и городскому андеграунду (то есть закрытым помещениям в квартире или на даче, где собираются новые евреи).
Зеркальная противоположность Израиля в «Похоронах Мойше Дорфера» Якова Цигельмана, своего рода антипространство, – это биробиджанский «красный Сион». Биробиджан выступает местом дистопии, антиместом, местом-симулякром, фальшивкой, искажающей еврейскую мечту о Земле обетованной, местом коллективного обмана.
– центральный троп литературы исхода – восхождение алии и пересечение экзистенциальной границы – создается благодаря фольклорно-мифологическим топосам пути и границы. Владимир Топоров замечает, что в мифопоэтических повествовательных моделях протагонист должен избрать трудный, подчас даже безнадежный путь, чтобы достичь высокого духовного или сакрального статуса [Топоров 1994: 74–76]: «Значимо и ценно то, что связано с предельным усилием, жертвой, с ситуацией „или – или“ […] Кульминационный момент пути […] приходится на стык двух частей, указывающих на границу-переход» [Там же: 79]. Топографическое зеркало, своего рода «овнешнение» этого духовного процесса – это попытки героев попасть в Израиль подземными ходами или через афганскую границу (у Люксембурга). За образец при этом берутся библейские протосюжеты пути и перехода/неперехода через границу, например, странствия израильтян в пустыне. Особый трагизм мотивы освобождения и трансгрессии приобретают тогда, когда они происходят в воображаемом пространстве – во сне или в бреду помешанного. В «Третьем храме» попытка преодолеть границу и вернуться на родину перечеркивается грехом совершенного в прошлом убийства, а Святая земля предстает сакральным пространством чистоты, недоступным для Исаака Фудыма.
Поиск духовных альтернатив в позднесоветском обществе выражался, среди прочего, в переоткрытии и расширении географического и повседневного пространства, а подчас и в бегстве за его пределы. В радикальной форме тенденция эта проявлялась в политическом спиритуализме еврейского эмигрантского движения; к менее радикальным формам пространственного отмежевания от режима относятся, как показывает Юлиане Фюрст, поездки в провинцию, экспедиции и командировки в советские республики, жизнь на дачах, в подвалах и на кухнях: «Идея эмиграции, таким образом, становится предельной формой бегства от советской официозной действительности, характерного для критически настроенной интеллигенции конца 1950‐х – 1960‐х годов» [Fürst 2012: 154]. Алексей Юрчак пишет о пространствах вненаходимости, так называемых «детерриториализованных средах» («deterritorialized milieus») эпохи позднего социализма [Yurchak 2006: 127, 131, 158]. Однако до Юрчака и Фюрст уже Вайль и Генис приводили примеры периферийных, альтернативных пространств, служивших советской интеллигенции способом бегства от коммунизма. В их коротком списке дано все многообразие состояния такого смещения (displacement): ссылка, уход в подполье, безработица, бездомность, эмиграция: «Чтобы сохранить себя, [интеллигенция] должна была перебраться на окраину. Отныне ее место было в подвале истопника, в ссыльном поселке, в будке сторожа, в пригородном бараке, наконец, в эмиграции» [Вайль/Генис 1996: 285].
Очевидно, что Израиль стоял в ряду искомых и (из)обретенных «других» пространств, которые в зависимости от контекста мыслились как места частной жизни, протеста или свободы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.