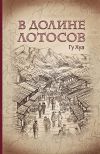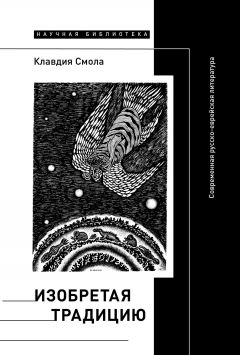
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Эфраим Севела и Филипп Берман принадлежали к совсем небольшой группе еврейских авторов, которые в позднесоветское время переизобретали «букву и дух» литературной традиции. Маска еврейского рассказчика как носителя внутренней перспективы, архетипы еврейского фольклора, самоирония и трагикомика – все это в период окончательно уходящей культуры служило созданию ее новой мифологии. Тяга идишского письма к мимикрии выражается и у Севелы, и у Бермана прежде всего в стилизации устного жеста и инсценировке внеречевых, ситуативных оборотов, которые отличали искусство еврейского монодиалога в духе Менделе и Тевье. Вероятно, именно этой знаменитой преемственностью и объясняется исключительный успех «Легенд Инвалидной улицы» в США и Западной Европе, а также фраза Иды Шагал, что Севела – последний в этом мире еврейский классик [Jankowski 2004: 30].
Стилизованная идишская речь пришла в русско-еврейскую литературу ХХ века более всего через Исаака Бабеля. Его влияния – эффектно ломавшего языковые нормы скрещивания русского языка с окказиональными, разговорными выражениями еврейского «жаргона», – не избежали и позднесоветские авторы. Однако как раз в использовании языка и способе фокализации становится видна пропасть между Бабелем, причастным к живому еврейскому культурному контексту и еврейской гетероглоссии, и более (Севела) или менее (Берман) ассимилированными авторами, пишущими о прошлом с (пост)исторической дистанции. В своей русскоязычной прозе Бабель умел, как я уже отмечала в главе о Якове Цигельмане (см. «Яков Цигельман: „Похороны Мойше Дорфера“», с. 226), балансировать между разными культурными смыслами и таким образом ориентироваться как на еврейских, так и на нееврейских читателей (ср.: [Sicher 2012]). Читатели Бабеля были вполне способны отличать стилизацию одесского жаргона от индивидуального сказа, языкового творчества, так как та языковая среда, которую он воспроизводил, включавшая элементы русского, идиша, украинского, а подчас и иврита, для них еще оставалась естественной. Трагическая разорванность рассказчика «Конармии» (1923–1937)297297
См. об этом у Шимона Маркиша: [Маркиш 1997: 17–21]. О расколе в сознании рассказчика – «внутренней неслиянности роевого сознания с сознанием уединенным» – в «Конармии» см. также: [Добренко 1993a: 54–101, цитата на с. 75].
[Закрыть] между русско-украинской и еврейской версиями революции, Гражданской войны и советизации в последующем культурном сознании стала символом диссонантной бикультурности самого писателя и русско-еврейской интеллигенции в целом.
Ироническая игра Бабеля с многоязычием своей публики, его мастерское жонглирование подтекстами298298
К которым, как известно, в равной степени принадлежали Танах, Талмуд, а также русская и всемирная литературы (см., в частности: [Жолковский 1994] и [Sicher 2012]).
[Закрыть] и сама возможность разных культурных толкований его текстов (ср. очень подходящее выражение Зихера «double book-keeping», «двойная бухгалтерия» [Sicher 2012: 24]299299
«Сознавая свой статус маррана, такие писатели, как Бабель, вплетали в свой русский язык скрытый язык Другого, имея в виду тех еврейских читателей, которые, будучи двуязычными, понимали этот еврейский „тайный язык“: своего рода „двойная бухгалтерия“» [Sicher 2012: 24].
[Закрыть]) имеют в виду ситуацию, которая для Севелы и Бермана была уже совершенно чуждой. Севела черпает свои знания о еврействе и идише из фрагментарных воспоминаний и литературы, Берман перефразирует и объясняет идишские выражения для русскоязычного читателя – и приводит их в глоссарии в конце текста. Тонкая дифференциация читательских адресатов, основанная на работе с коннотациями и различными уровнями словесного смысла (так выражалось, например, соотнесение революции с мессианским спасением), сменяется идеализированным, ностальгическим изображением кажущегося теперь однородным еврейского мира, обобщающим взглядом издалека. Оба автора используют элементы идиша в качестве деавтоматизированного миметического приема – цитаты – в отсутствие носителей языка. Пропорция между художественным преобразованием традиции и изобретением нового, которую исследовал на материале идишской литературы вплоть до XX века Дэвид Роскис, заметно смещается в сторону второго полюса. Неслучайно поэтому, что Севела и Берман, рефлектируя в своих текстах советско-еврейскую историю, обращаются к «прототипам» еврейского коллективного воображения – родоначальникам идишской прозы Менделе Мойхер-Сфориму и Шолом-Алейхему: произведения этих классиков, рождавшие коллективные мифы на протяжении целых поколений300300
Таких героев Шолом-Алейхема, как, например, Тевье, Менахема или Мотла, Михаил Крутиков называет «воплощениями еврейской „сущности“», которые именно во времена общественных кризисов обеспечивали основу для позитивного самоопределения: «Персонажи подобного типа были чрезвычайно популярны, так как служили символической цели национальной репрезентации» [Krutikov 2001: 212].
[Закрыть], позволяют идентифицироваться с легко узнаваемой традицией и предлагают поэтому действенную компенсацию утраты.
Примечательно, что сам мифотворец Шолом-Алейхем создавал своих литературных героев в эпоху, когда мир еврейского штетла уже стал для многих фольклором и потому воспринимался еврейскими читателями – ассимилированными и часто эмигрировавшими в Новый Свет – как элемент прошлого: смешного или ностальгического. Так что еврейский «speaking voice» Тевье уже представлял собой цитату (см.: [Butwin/Butwin 1977: 124]). Тем не менее семиотическая связь между автором, посвященным в диегезис рассказчиком и таким же читателем все еще обеспечивала успешное восприятие языковых отсылок и культурных аллюзий (что и отражено в названии эссе Рут Вайс «Two Jews Talking», 1994). В условиях прогрессирующей культурной десемиотизации этих аллюзий в эпоху Бермана и Севелы переизобреталась память о «пословичном мифологическом пространстве, коллективном локусе» [Harshav 1994: 147], давно отделившемся от местечковых декораций и обитающем только в языке: этот речевой жест говорил о «трансисторическом уделе» евреев [Ibid: 158], мало изменившемся со времен Тевье-молочника.
ЗНАЧЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ КОНТРКУЛЬТУРЫ
Влияние еврейского движения 1960–1980‐х годов на последующую русско-еврейскую культуру заслуживает отдельной монографии. Процессы, берущие начало в еврейском андеграунде, несомненно, предвосхитили и подготовили «культурную революцию» перестройки. Характерный для литературы позднего коммунизма синтез воспоминания и протеста фактически определил путь, по которому еврейская проза пойдет, начиная с конца 1980‐х годов, в эпоху открытия архивов и массовой эмиграции по всему земному шару. Эта (полу)документальная литература стремилась зафиксировать забытое и исправить еврейскую историографию, но в первую очередь рассказать об истреблении, репрессиях и притеснениях евреев до, во время и после советской власти. Таковы, например, мало кому известные «Труба исхода» (1999) Павла Сиркеса, «Зяма Фискин, однофамилец» (2005) Владимира Переплетчика, «Одесская история» (2006) Юрия Эдельмана, «Здесь, под небом чужим» (2006) Михаила Серебро, «Простая история» (2009) А. (sic!) Мар, «Идентичность» (2017) Леонида Подольского, «И угораздило еврея родиться в глубокой яме и вырасти в ней» (2018) Элиэзера Трахтенберга, «Там, где мы есть. Записки вечного еврея» (2018) Лео Певзнера301301
Я сознательно перечисляю произведения «второго ряда», неоднородные в художественном смысле, однако имеющие историко-биографическую ценность – меморативные свидетельства эпохи.
[Закрыть].
Развитие еврейской контркультуры и борьба за репатриацию или просто отъезд не только сопутствовали историческим переломам, но и отчасти были за них ответственны. Причем еврейская литература нового геополитического извода, по ту сторону границы, долго была (да и сейчас еще) похожа на ту, что писалась в России. В 1970‐е годы авторы-эмигранты, особенно в первое время после переезда, продолжали – или начинали наконец открыто – разрабатывать материал, мотивы и ситуации из прежней советской жизни; так эмиграция во многих случаях вовсе не приводила к возникновению транснациональной литературы с новым – израильским, немецким или американским – кругом культурных референций или новым – глобальным или чаянным сугубо еврейским – мировоззрением и другой поэтикой.
Если сопоставить написанную в разных частях света, а также поздне– и постсоветскую еврейскую прозу на русском языке, то можно легко заметить, что во многом она образует единый гипертекст с набором устойчивых мотивов, восходящих к общему историческому материалу, и нередко похожей реалистической или документально-фактографической повествовательной техникой. Так, снова и снова описывается «дело врачей» и антисемитская травля накануне смерти Сталина, часто через фильтр восприятия затравленного еврейского школьника или школьницы: в «Последнем нонешнем денечке» Юлии Шмуклер, опубликованном в Тель-Авиве в 1975 году, в рассказе «Второго марта того же года» Людмилы Улицкой, написанном в 1994 году и напечатанном в Москве или (с той же топикой и сравнимыми повествовательными деталями) в вышедшем в Тель-Авиве в 1990‐е годы рассказе Марка Зайчика «В марте 1953 года». Не только те же эпизоды начала 1950‐х, но зачастую и те же топосы и тропы мы находим в романах «Жизнь Александра Зильбера» Юрия Карабчиевского, «Ветка Палестины» Григория Свирского и «Псалом» Фридриха Горенштейна и в повести «Родословная» Израиля Меттера.
Подобно холокосту в разноязычных еврейских литературах, существование в условиях советского антисемитизма стало той травмой, которая запустила машину порождения (авто)биографических текстов и которая неустанно побуждает к воспоминаниям и письму, питая поэтику сопротивления мимесисом. С этой точки зрения советский субжанр анти-антисемитской прозы, возникшей в еврейской подпольной культуре, задал одну из основных парадигм репрезентации постсоветского литературного еврейства. От романов Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» (1959) и «Свежо предание» (1962) Ирины Грековой эта линия тянется к таким знаковым текстам, как «Пятый угол» (1967) Израиля Меттера, «Псалом» Фридриха Горенштейна (1975), «Исповедь еврея» (1993) Александра Мелихова и «Лестница на шкаф» (1998) Михаила Юдсона.
В то же время как раз еврейский андеграунд и эмиграция привели к тому, что дихотомическая модель еврейской идентичности, на которой строились эти тексты, стала постепенно расшатываться или же радикально деконструироваться. Релятивизация прежних политических контрастов заметно усложнила картину «своего» и «чужого», а единая геополитическая оппозиция сменилась множеством более мелких и частных. «Чужое» отныне отождествляется не только с государством и антисемитски настроенным большинством, а «свое» – не только с фактом еврейства по рождению: более тонкие различия формируются, например, между евреями русскими и американскими, ими же и русскими евреями Израиля или между религиозным еврейством (какой бы то ни было точки прибытия) и еврейством «по крови». Эти новые внутренние различия, концепции еврейства, переставшие быть простыми и производящие новые конфликты, также определяют облик русско-еврейской литературы, а точнее, русско-еврейских литератур разных стран и культур.
Тем не менее обещания о гармоническом разнообразии времен перестройки – о мирном сосуществовании еврейских конфессий и их культур – исполнились лишь отчасти: как в 1990‐е, так и в 2000‐е и 2010‐е годы крайняя политическая поляризация и новые национализмы обернулись тавтологизацией прежних историко-топографических дихотомий. Примеры тому в следующей главе.
Сионистское почвенничество: новейшие литературные проекцииЧастичный перенос еврейской литературы за границу привел к подчас противоречивым переменам в концепции русского еврейства. Главной темой, расколовшей еврейские умы и еврейскую литературу, стал сам Израиль, превратившийся для многих из мифа о единении во вполне проблематичную реальность: иудаистски-телеологический взгляд на еврейскую историю одних авторов соседствует с едким скепсисом других и нейтральностью третьих. Линия Эфраима Севелы, автора «Продай свою мать», продолжается, например, в проникнутых сухим юмором или горькой иронией израильских текстах Дины Рубиной302302
Правда, у Рубиной представлены две противоположных модели Израиля – и сатирическая, и судьбоносно-спиритуальная.
[Закрыть], Мириам Гамбурд или Михаила Барановского303303
О прозе Барановского см.: [Smola 2011d].
[Закрыть].
Литература исхода с ее пафосом духовно-религиозного перерождения предвосхитила между прочим ту радикально иудаистскую прозу, которая обратила провиденциальное возвращение «блудных» евреев в нарратив единения по признаку крови, почвы и веры. Таковы, в частности, поздние произведения Эли Люксембурга «В полях Амалека»304304
Так, рассказ Эли Люксембурга «В полях Амалека» написан с точки зрения автобиографического рассказчика – религиозного еврея, эмигрировавшего из Советского Союза. Герой исполнен горькой непримиримости по отношению не только к антисемитски настроенному населению Восточной Европы, но и к тем евреям, которые решили остаться дома, то есть в местах страшного преступления – холокоста. Рассказчик последовательно считает чужаками всех неевреев, всех неверующих евреев и всех евреев, живущих не в Израиле. В данном случае обретение – или топографическое завершение – новой еврейской идентичности совсем не означает отказа от полярного мышления.
[Закрыть] и «Записки ешиботника» (2000), рассказы Аркадия Красильщикова из сборника «Рассказы в дорогу» (2000) или рассказы Якова Шехтера из книги «Каббала и бесы» (2008).
Эхо позднесоветской сионистской прозы отдалось, помимо этого, в нескольких автобиографических романах конца 2010‐х, которые вполне можно назвать нарративной публицистикой и в которых миф о священной территории Израиля сочетается, с одной стороны, с обилием общеисторической информации, с другой – с консервативными, нередко националистическими идеологиями. Авторы как будто возвращаются – или так по-своему транслируют политику реставрации Израиля–России эпохи Нетаньяху и Путина – к одномерному пониманию еврейства, отсылающему к доэмансипаторной эпохе верности догме. Сегодня идеологическая архаика лишена, однако, той исторической энергии протеста, которая питала мифологическую картину инакомыслящего еврейства времен алии и переизобретения иудаизма.
Сумевший после долгих перипетий и тяжб перебраться в Израиль немолодой герой романа Леонида Подольского с говорящим заглавием «Идентичность» (2017)305305
Издание снабжено послесловием Льва Аннинского, в котором тот занят главным образом обсуждением национальных вопросов.
[Закрыть] рассуждает:
…он был счастлив оттого, что похоронят его в родной земле, которую господь Б-г завещал праотцу Аврааму. Слова Тель-Хай, Мегиддо, Эль-Куней-Тра, Масада наполняли его грудь гордостью и заставляли чаще биться его сердце.
…В отличие от Лени, [отцу] никогда не довелось […] ступить на Землю Израиля. Он принадлежал к поколению, которое, повторяя судьбу дальних предков, снова оказалось во власти фараона [Подольский 2017: 9].
Этапы биографического пути героя отсылают к сюжетной морфологии, типажам и интертексту литературы исхода. Герой вспоминает, как дедушка Мендель шептал, склонившись над иероглифами старых еврейских книг, как рассказывал внуку об ужасах шоа, о Земле обетованной и библейских героях. Дед говорит устами теперь уже обращенного рассказчика: «Болезнь началась давно, с Гаскалы» [Там же: 18–25]. Подробная документация собственной жизни перемежается сравнениями Сталина с Аманом или Шабтаем, изложением судьбоносных идей первых олим (евреев алии), внявших завету Авраама, и синопсисом мировой истории еврейства, неуклонно ведущей в Палестину.
Подольский снабжает книгу приложением с 757 сносками, в которых скрупулезно поясняет даже общеизвестные еврейские понятия (кипа, Талмуд, иудаика), а также события мировой еврейской истории с библейских времен до настоящего времени. Такой избыточный этнографизм преследует не в последнюю очередь педагогическую задачу – увековечить коллективную память избранного и пострадавшего народа. В финале романа рассказчик сокрушается о «поколении манкуртов», вырощенных в советском галуте, этой «империи зла», хвалит современных самсонов – Щаранского и Эдельштейна [Там же: 366–368] и переходит на возвышенно-лирический, библейско-анафорический стиль, при этом не забывая о сносках с указаниями на источники: «…и они вернулись, как возвращаются реки к истокам своим755, и они взошли756 (сноски в оригинале. – К. С.). […] И сплелись ветви, тянувшиеся в разные стороны. И образовали единое могучее дерево: народ израильский» [Там же: 370].
Но, наверное, самый яркий пример неоконсервативного сионистского дискурса – это автобиографическая повесть Элиэзера Трахтенберга с изящным заглавием «И угораздило еврея родиться в глубокой яме и вырасти в ней» (2018). Автор, настойчиво представляющий себя ученым, философом и логиком – его гений восхваляется в коротких предисловиях единомышленников, – излагает историю своей жизни с кишиневского детства до участия в сионистской подпольной организации, лагерного заключения и последующего пребывания в Соединенных Штатах. Одной из основных своих заслуг он считает то, что «…вывел свою семью из рабства в СССР»: «еврей сегодня (подчеркнуто в оригинале. – К. С.) может вести нормальную человеческую жизнь только в суверенном еврейском обществе государства Израиль» [Там же: 17–18]. Неожиданно, впрочем, оказывается, что автор-рассказчик, пламенный сионист и твердый приверженец правоконсервативной еврейской морали, обречен жить на «испорченном» Западе (который тоже сравнивается с богатым библейским Египтом), а именно – в Америке: «И понял я, что такова уж моя доля здесь, в Америке, как была и в России: готовить евреев к Исходу» [Там же: 20]. Строгое соблюдение религиозных заповедей он также возлагает на детей и внуков – сам он, к сожалению, на это уже неспособен [Там же: 223].
Фигура деда оказывается ключевой и в этом тексте: на атеистический довод внука, будто запуск первого искусственного спутника доказал отсутствие Бога, этот погруженный в изучение иудаистских книг молчаливый мудрец отвечает громким смехом, тем самым преподав внуку лучший в жизни урок [Там же: 87–88]306306
Ср. очень похожий эпизод в романе Юрия Карабчиевского «Жизнь Александра Зильбера» (1975) (см. об этом «Постколониальный mimic man: „Исповедь еврея“ Александра Мелихова», с. 370).
[Закрыть]. Другой «путеводной звездой», компасом будущего сионизма для героя выступает бабушка, живущая по еврейской традиции и исключительно ради семьи. Бобци придерживается еврейского календаря и категорически отвергает смешение (прежде всего брак) евреев с гойим: именно она внушила ему, «чтобы я не пускал гоев в душу, не смешивался с ними кровью, отделялся от них» [Там же: 94–95]. Здание аргументации Трахтенберга держится на знакомых эссенциалистских тропах: таково сравнение любимой матери, которую он рано потерял, с желанной родиной Израилем, а мачехи – со странами галута [Там же: 50–51]. Апофеозом этой аргументации становится геополитическое видéние, в котором Израиль выступает примером всем народам и оплотом борьбы против зла, а Дональду Трампу отводится созидательная роль Дария Великого [Там же: 285–286].
Громоздкие логические умозаключения Трахтенберга приводят к таким, например, выводам: прогресс движется завистью; равноправие женщин и мужчин невозможно, потому что неестественно (правы талмудисты, которые предписывали мужчине изучение Торы, а женщине – работу в лавке); ислам мертв в силу самой своей природы и истории [Там же: 24–31].
Неоконсервативная еврейская проза, изобилующая художественными банальностями и вдохновленная идеологическим догматизмом, говорит о частичном возвращении в 2010‐е годы сознания холодной войны и жестких мировоззренческих барьеров. Нарратив исхода обретает новое дыхание – и вполне причудливые формы. У Леонида Подольского и Элиэзера Трахтенберга возрождение (анти)коммунистических иудаистских мифов намертво спаивается с новой жаждой коллективной педагогики и национального летописания: оба автора снабжают свои историографические трактаты не только сведениями о мире307307
Нечто подобное наблюдается и в автобиографии Лео Певзнера «Там, где мы есть. Записки вечного еврея» (2018).
[Закрыть], но и многочисленными цитатами на языке оригиналов.
Переоткрытие еврейства в советском андеграунде вливается в гораздо более широкий феномен (поп-)культурного еврейского возрождения – Jewish Revival, которое охватывает разные страны и части света, а потому развивается в очень разных идеологических контекстах. Я упоминала этот феномен в начале книги. Обращение к еврейской традиции в «мире без евреев» еще ждет отдельного сравнительного исследования на европейском и американском материале. Рут Э. Грубер отмечает символическую, заместительную, «виртуальную» («virtual») роль еврейства, которое особенно в коммунистической Восточной Европе стало способом утолить жажду свободы и культурной альтернативы [Gruber 2002: 95]. Если на Западе обращение к еврейству сулило ценности, дефицитные в плюралистичном, коммерческом мире без обязательных духовных ориентиров, предлагало утраченную патриархальную естественность и «другое» мейнстрима, то в Польше и России позднесоветского периода оно было важной составляющей культуры протеста, представленной и творимой как евреями, так и неевреями308308
Грубер справедливо указывает, что тоска по «аутентичному еврейству» и желание вернуться к корням явились продуктом начавшейся задолго до холокоста и коммунизма ассимиляции европейских и американских евреев и Хаскалы, а переоткрытие и мифологизация еврейского культурного наследия Восточной Европы еврейскими интеллектуалами начались еще в конце XIX века [Gruber 2002: 30 f.]. Моника Рютерс отмечает следующие эпизоды возврата к прошлому: этнографические экспедиции Ан-ского в еврейские штетлехи; хасидский ренессанс – в частности, в творчестве Мартина Бубера – первой трети XX века и невиданную популярность фотографий евреев Восточной Европы в Америке 1930‐х годов – например, альбомов Романа Вишняка [Rüthers 2010: 78–83]. Утраченная традиция уже тогда противопоставлялась «разорванной современности» [Ibid: 83].
[Закрыть]. В целом еврейский ренессанс был симптомом, одной из форм культурной реконструкции, адаптированной к современным нуждам.
Говоря о многоязычных еврейских литературах периода постхолокоста, ученые отмечают схожие процессы. По мнению Роскиса, идишская литература после шоа тяготеет к цитатности, стилизации, воспоминанию, архивности, переоткрытию традиции и другим формам культурной компенсации [Роскис 2010: 508–513]. Шимон Маркиш констатирует необратимую утрату живого представления о еврействе и, как и Григорий Канович, объявляет собирание остатков еврейского культурного наследия единственно возможной задачей и долгом нынешних поколений [Маркиш 1997: 203–206].
Предложенное Дэвидом Роскисом понятие «творческой измены» («creative betrayal») [Роскис 2010: 19 f.] маркирует главную и вместе с тем уязвимую точку современной археологии еврейского прошлого. Творческая измена в общем означает продуктивную стратегию переплава и перетолкования; в этом смысле ею сопровождается любой акт обновления, усваивающий «язык традиции». На примере ключевых текстов – от рабби Нахмана из Брацлава до Шолом-Алейхема и Исаака Башевиса-Зингера – Роскис демонстрирует не особенно уважительное обращение значимых идишских авторов с еврейским фольклором, религиозным преданием и основами еврейской святости: именно так они создавали то, что потом включалось в канон «истинно еврейской» культуры, которая, однако, каждый раз откликалась на открытую толкованиям, запутанную современность:
Вся моя книга посвящена утрате и повторному обретению. Ее герои – современные еврейские революционеры, мятежники и иммигранты, которые пытались сохранить для отошедшей от традиции публики те формы культуры, которые принадлежат этой традиции. Когда представители народа уже не существуют, недоступны или не интересуются своей культурой, стилизованные идишские сказки, монологи, баллады, любовные песни и пуримские представления занимают опустевшую нишу [Там же: 19–20].
Характер такого переизобретения традиции, основанного на диалектике культурного отрыва и преемственности, радикально меняется после холокоста: в эпоху стремительного стирания знаний о еврействе творческая измена – это единственное, что оставалось еврейским авторам, так как продолжение и прямая связь сделались невозможными.
Утрачена оказалась и особая интертекстуальность идишского письма: Тора, комментарии к Талмуду и мидраши, агадические истории и хасидские легенды перестали быть частью еврейской коммуникативной памяти; еврейская народная культура с ее устной речью магидов, шутов, скоморохов, музыкантов и бадханов теперь стала областью историографии – и художественной литературы.
Если в публичных мемориальных актах и массовой культуре309309
Ср., например, Фестиваль еврейской культуры в краковском районе Казимеж (см. об этом: [Gruber 2002: 46–49]) или празднование еврейских мемориальных дат.
[Закрыть] обращение к еврейскому прошлому служит институционализации, отбору «нужной» истории (например, увековечению памяти) или сенсации/шоку, в контексте выставок, музеев, энциклопедий и в науке – сбору информации, объяснению и реконструкции в строгом смысле слова, то в литературе прошлое включается в символический, воображаемый порядок, который прежде всего проблематизирует дистанцию между автором, читателем и изображаемым миром. Для современного обращения с еврейской культурой такое положение дел, само по себе не новое, чрезвычайно важно. При соприкосновении с утраченной традицией русско-еврейские авторы часто балансируют между безостаточным погружением в прошлое, воссоздаваемое во всех подробностях и призванное дарить иллюзию живой современности, и попыткой диалектического включения еврейства в реальное настоящее310310
В лучшем случае это как раз и становится продуктивной «творческой изменой» в понимании Дэвида Роскиса, предполагающей одновременно близость и дистанцию.
[Закрыть], пусть даже такая реинтеграция неизбежно обнаруживает свою сконструированность. Напряжение, возникающее между двумя этими полюсами, создает двойственный эффект: часто именно стилизация с ее инсценированной, обманной фактографичностью ведет к идеализации и мифологизации еврейского мира, говорящим о том, что эту нишу уже ничем нельзя заполнить. Кроме того, литератор «постгуманной» эпохи нередко выступает в роли культуролога и комментатора, который берет на себя единственную адекватную задачу: достоверно рассказать о прошлом. Однако в художественной литературе такого рода рассказ не допускает прямой привязки к исторической реальности, то и дело выдавая ненадежность нарративной инстанции: непосредственный доступ к тому, о чем ведется этот рассказ, утрачен.
Именно этот (дис)баланс между культурной реконструкцией и переизобретением – в форме подражания, гибридного переплетения традиции с актуальными культурными дискурсами, провокационной игры с выдуманной памятью или культурно-лингвистического перевода – характерен для рассматриваемых далее текстов, написанных в разных странах и в разные микропериоды постсоветской истории русско-еврейской литературы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.