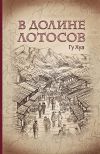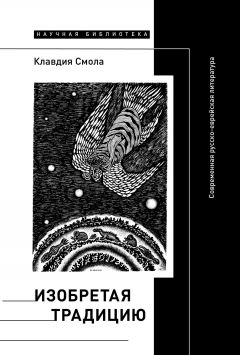
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Как природный черт свидетельствую и утверждаю: чертей на свете больше не осталось. К чему они, когда человек и сам такой же? Зачем склонять ко злу того, кто и так к тому склонен? Я, должно быть, последний из нашей нечисти, кто пытался это сделать. А теперь я нашел себе пристанище на чердаке в местечке Тишевиц и живу томиком рассказов на идише, уцелевшим в великой Катастрофе. Рассказы эти для меня – чистый мед и птичье молоко, но важны и сами по себе еврейские буквы. Я, разумеется, еврей. А вы что думали, гой? [Башевис-Зингер 1990]
Еврейские литературы по-своему перекликаются с известным высказыванием Теодора Адорно о невозможности художественного творчества после холокоста. В рассказе Севелы поэтика холокоста видится в том, каким образом оформляется на поэт(олог)ическом и (мета)фикциональном уровнях финал, – сказ сменяет траурная историческая справка: «Берэлэ стал одной из шести миллионов еврейских жертв фашизма» [Севела 1991a: 95]. Повествование становится иконическим и поэтическим слепком сюжета, который невозможно продолжить в традиционной форме. В финале мимическое письмо майсе тем не менее в последний раз включается в постгуманный контекст: риторика официального траурного дискурса военных и послевоенных лет (ср. выражение «жертв фашизма» из последней процитированной фразы) сливается с глубоко личным пафосом «внутреннего» рассказчика:
И я потом ни разу не встречал людей по фамилии Мац. И видимо она не будет иметь продолжения.
Я вас очень прошу. Если когда-нибудь вы встретите кого-нибудь с такой фамилией, не поленитесь черкнуть мне пару слов. У меня камень спадет с души. Значит, не все еще потеряно. И возможно через два или три поколения на земле снова появится со своим низеньким лобиком, большими ушами и вечной улыбкой новый Берэлэ Мац, и человечество снова сможет надеяться, что на земле, в конце концов, все же будет рай [Севела 1991a: 96].
Этот металепсис – апелляция вымышленной фигуры к читателю поверх барьеров художественной иллюзии – также интертекстуально заряжена, так как имитирует уже упомянутый прием еврейского сказа – вовлечение читателя в диалог и, соответственно, во внутреннюю коммуникативную систему повествования. Через этот речевой акт читатель, рассказчик и персонажи включаются в единое воображаемое пространство доверия и беседы, а пространство штетла семиотически удваивается: он явлен в качестве обозначаемого и (в акте коммуникации) обозначающего. Идишские писатели часто использовали этот прием для создания иллюзии непосредственного общения с читателями. Тем самым как бы создавался общий жизненный мир, в рамках которого циркулировала информация и происходил обмен новостями. Так, в конце повести Менделе Мойхер-Сфорима «Маленький человечек» («Dos kleyne mentshele», 1864–1879) рассказчик помещает объявление о пропаже одного из героев – своего хорошего знакомого и делового партнера господина Гутмана. Этот фиктивный анонс обращен к читателю, который вроде бы должен знать пропавшего:
A moydoe!
Raboysay! Ver fun aykh veyst, vu ergets gefint zikh her Gutman, oder er vet zikh mit im ergets bagegenen, zol moykhl zayn mit im tsu reden, az er zol lemaanhashem teykef taki kumen keyn Glupsk, vu der Rebe kumt oyf im aroys, er zol ineynem mit im onfirn a barimte talmud-toyre mit a shul far balmeloches, un mesaken zayn dort nokh a sakh andere gute zakhn.
Yisroel bney rakhmones, hot rakhmones un tut es tsulib oreme yidishe kinder! [Moykher-Sforim 1913: 154].
Почтеннейшие! Тот из вас, кто знает, где находится repp Гутман, или встретится с ним где-нибудь, пусть потрудится попросить его во что бы то ни стало немедленно прибыть в Глупск, где его дожидается раввин, чтобы вместе с ним учредить образцовую талмудтору и школу для ремесленников, а также затеять много других полезных нововведений.
Евреи, сыны милосердия, сжальтесь и сделайте это ради бедных еврейских детей!.. [Мойхер-Сфорим 1961в: 184]
Как видно из обеих цитат, заключительный монолог севеловского рассказчика написан с оглядкой на финал повести Менделе294294
Но также и на другие идишские тексты, например, тот же роман Шолом-Алейхема «С ярмарки», где рассказчик, разыскивающий друга детства, тоже обращается к читателю.
[Закрыть] с его прочувствованной просьбой о помощи и ссылкой на благо всей еврейской общины. Восприимчивый к интертексту читатель легко заметит, однако, контраст между двумя этими текстами, один из которых стоит у истоков еврейской литературной традиции Восточной Европы, а другой ее завершает: если в рамках художественного мира Менделе поиск пропавшего персонажа выглядит вполне оправданной инициативой, которая лишь в качестве литературного приема подвергается десемиотизации, то у Севелы аналогичный призыв изначально предстает чисто риторическим предприятием. Разыскать выживших членов семьи Мац после Катастрофы невозможно, и поэтический жест обращения к публике становится не чем иным, как актом воспоминания о поэтике идишского рассказа.
В цикле новелл «Легенды Инвалидной улицы» Эфраим Севела выступает мастером перевоплощения и одновременно диссидентом от литературы, размышляющим о трагической, искаженной в советском официозном сознании исторической эпохе. Подобная связь историзма с фольклорностью характерна и для других рассказов цикла, многослойный еврейский интертекст которого заслуживает отдельного исследования. Один из ярких примеров – новелла «Шкаф „Мать и дитя“». В главной сцене этого рассказа описывается устроенная всей улицей свадьба двух нищих, одиноких обитателей местечка: глуповатого, молчаливого тележечника Шнеера и невзрачной старой девы Стефы. Какое-то время все женское население штетла с воодушевлением занимается подготовкой торжества; вершиной этих хлопот становится неслыханно пышное бракосочетание. Здесь Севела явно переносит во временной контекст своего детства еврейский обычай «холерных свадеб» и, кроме того, отсылает к «Фишке Хромому» (1869) Менделе Мойхер-Сфорима. Рассказчик Менделе упоминает этот обычай, констатируя, что община Глупска забыла о Фишке даже во время холеры, так что тот оставался холостым [Мойхер-Сфорим 1961в: 348]: в случае эпидемии верующие евреи, желая отвратить дальнейшее распространение заразы, устраивали на кладбищах свадьбы нищих и увечных. Сюжетная аллюзия Севелы к Менделе состоит еще и в том, что злосчастный Фишка тоже очень скоро и почти без какого-либо собственного участия женится на слепой сироте, причем во время торжества голодные гости и сами посредники наконец-то получают возможность наесться досыта295295
Ср. также рассказ «Холерная свадьба» Якова Ромбро (1890?).
[Закрыть]. У Севелы «эпидемия» переносится в сферу политики: действие разворачивается незадолго до войны, в эпоху массовых арестов и сталинских чисток.
К еврейской фольклоризации советской истории Севела прибегает еще в одном своем произведении – военной сатире «Моня Цацкес – знаменосец» (1977), где в очередной раз гротескный сюжет строится вокруг плута и шлемиля. Военная пропаганда с ее культом героизма советских солдат оказывается в повести абсолютно бесполезной, поскольку насаждается она в литовской дивизии, состоящей из совершенно невоинственных евреев, которые к тому же не очень хорошо владеют русским языком. Однако обманчиво простодушный герой, Моня Цацкес, умудряется обратить все трудные ситуации на пользу себе, а иногда и своим менее удачливым товарищам, и не остаться внакладе. «Моня Цацкес – знаменосец» принадлежит к еще мало исследованной традиции антисоветской еврейской военной сатиры, плутовского романа новой формации, развивающего линию «Бурной жизни Лазика Ройтшванеца» (1928) Ильи Эренбурга. Этот текст заполняет нишу еврейского антивоенного канона, как, например, и роман «Мемуары ротного придурка» Льва Ларского, имевший широкое хождение в андеграунде. Фигура еврейского антигероя с его пикантными приключениями, невинными хитростями, безграничной волей к выживанию и удивительной способностью исподволь выставлять и высмеивать, казалось бы, монолитную систему военной державы предвосхищала падение коммунистического режима или, во всяком случае, констатировала его постепенный распад в 1970–1980‐е годы. Еврейский пикаро разоблачает выморочную фантасмагоричность рассыпающегося здания идеологии, которое в сравнении с неоспоримой реальностью голода или армейского антисемитизма оказывается фантомом. Позднесоветский еврейский плутовской роман по-своему наследует горько-иронический пафос классических образцов плутовского романа, возникшего в Испании XVI века как (искаженное) отображение социальной действительности в противовес рыцарскому роману (см.: [Томашевский 1975: 8–13]). Одновременно еврейская антивоенная плутовская проза продолжает, конечно, и традицию трагикомического еврейского рассказа, используя приемы еврейской поэтики с ее архетипическими персонажами, алогизмами, иронией, интертекстуальными отсылками и парадоксами.
Субжанр еврейской военной сатиры получил второе дыхание в прозе репатриировавшихся в Израиль авторов: так проблематика адаптировалась к реалиям уже израильской армии. Помимо самого Севелы, в 1980 году Владимир Лазарис, которого я цитировала ранее (см. «Советские евреи: факты, коллективные представления, мифологемы», с. 90) как свидетеля и актора движения за алию, написал повесть «Резервисты», отмеченную чертами плутовской сатиры и черпающую из армейского опыта автора после эмиграции. Неслучайно лейтмотивом повести становится ироническое сравнение не только военной, но и вообще всей политической системы Израиля со слишком знакомыми советскими реалиями: текст порывает с созданным еврейской контркультурой мифом об Израиле. Строжайшая израильская военная цензура, охватывающая все вплоть до мелочей, возведение «потемкинских деревень» к приезду генералов и высших надзорных инстанций, идеологическое (пере)воспитание многонациональной армии в духе нового патриотизма и вездесущая пропагандистская риторика неустанно напоминают рассказчику об оставленном позади советском прошлом. Например, он цитирует обязательную для солдат лекцию, своего рода политинформацию: «Сионизм как национально-освободительное движение и учение, призванное сплотить мировое еврейство, был и остается до настоящего времени… теперь уже государство Израиль воплощает в жизнь бессмертные идеи Герцеля…» [Лазарис 1987: 94]. В свете такого удручающего параллелизма библейские аллюзии – в частности, сравнение израильских солдат с легендарными Маккавеями – оказываются (само)обманом всех причастных и вместе с тем элементом насквозь идеологизированной программы перековки личности (ср. главу «Новые Маккавеи» [Там же: 42–47]). С учетом системы двойных геополитических отсылок показательно признание резервиста Берни-Дова: «Когда я мечтал об Израиле, об этой армии, я думал, что буду тут настоящим солдатом, воином. Что-то вроде Бар-Кохбы. Но Бар-Кохбы из меня не получилось. Шлимазл. Шлимазл я». Библейская интертекстуальность (Бар-Кохба) сменяется здесь интертекстуальностью еврейской диаспоры (шлимазл); тем самым имплицитный рассказчик Лазариса осмысляет Землю обетованную как новую чужбину.
Старая еврейка в монологе с читателем: «Сарра и петушок» Филиппа Исаака БерманаФилиппу Исааку Берману (род. 1936) было предложено эмигрировать после того, как в 1980 году он вместе с Владимиром Кормером, Евгением Поповым, Евгением Харитоновым, Дмитрием Приговым и другими коллегами принял участие в издании независимого московского литературного альманаха «Каталог», уведомил власти о возникновении «независимого клуба писателей» и был арестован. В 1981 году он выехал в США. Свой самый, пожалуй, известный рассказ «Сарра и петушок» он писал почти десять лет, с 1979‐го по 1988 год. Как и многие другие еврейские авторы, Берман, будучи частью русско-советской литературы (самыми известными покровителями Бермана были Юрий Трифонов и Юрий Нагибин), пытался печататься – как правило, безуспешно – и в итоге ушел в литературный андеграунд. Менее типична семейная социализация Бермана. Его отец был верующим евреем и посещал московскую хоральную синагогу; дома говорили на идише (см.: [Shrayer 2007: 1027–1028]). «Я был внутренне религиозным человеком, но синагоги не посещал. […] Читали […] [еврейских классиков], Авторханова, Солженицына, Свирского, Синявского, Даниэля, весь самиздат, израильские и американские журналы»296296
Из моей электронной переписки с Филиппом Берманом от 20 сентября 2018 года.
[Закрыть]. Проза Бермана – своеобразный аттестат о еврейском образовании: при том, что в ней нередко миметически воссоздается русско-советско-еврейская действительность, густая сеть интертекстуальных отсылок говорит о включенности в литературную традицию. Многие его произведения, пронизанные как библейско-иудаистскими, так и идишскими аллюзиями, передают еврейский «взгляд изнутри» на недавнее прошлое. Но, как и у Севелы, эта живая перспектива дана парадоксальным образом в качестве «меморативного» приема, обозначающего эпоху еврейской постистории в настоящем.
Героиня «Сарры и петушка», старая Перэл, рассказывает читателю о своей жизни в советской коммуналке, захватывая между прочим и дореволюционное прошлое. Как и в случае Севелы, читатель с первых строк погружается в стилистико-коммуникативный мир еврейской устной речи, диалогического монолога: «Вы знаете, на старости лет я стала ашатхынты. Вы не знаете, что это такое. Это сваха по-вашему будет, а по-нашему, это значит по-еврейскому, это будет ашатхынты. Я вам хочу рассказать, как я стала сватать» [Берман 2014: 77]. Это фольклорно окрашенное обещание – фигура сводни, чаще всего комическая, встречается во многих идишских текстах, народных и литературных, – так и не будет исполнено. Вместо этого самые разные эпизоды сменяют один другой, о чем еще в самом начале предупреждает Абрам, муж Перэл: «…у нас, у евреев, так: если он хочет рассказать вам про пуговицу от пиджака, так он начинает сначала от шнурков про ботинки» [Там же]. Особенно в начале текста – семиотическом «входе» в еврейский мир – обилие идишских словечек, выражений (рассказ снабжен глоссарием с переводом) и индексальных знаков, передающих жесты, обнажают интертекстуальный код повествования. Перэл говорит о даре своего мужа, который еще в детстве знал все ответы на трудные вопросы из Талмуда раньше раввина, и тем самым вызывает в памяти топос почитаемого всей общиной еврейского ученого, талмид-хохема. Однако прежде всего она рассказывает о лично пережитом, причем ее поэтически окрашенная наивность и прямота превращают коммунистические заповеди в жестокий абсурд. Полный повторов и сравнений, дефектный и яркий язык старой еврейки становится неповторимым медиумом, разоблачающим, например, советское преклонение перед техникой, военную телеологию и веру в научный прогресс:
Они летают туда, они летают сюда, одним одевают ордена, другим одевают ордена, плескают руками туда, плескают руками сюда.
Как они могут что-нибудь увидеть, если они не знают Бога?
Зачем мы с вами живем на земле?
Они знают, как убивать, они знают, как сделать бомбу, что они еще знают? Как из человека сделать калеку.
Сначала были погромы, потом революция, потом опять погромы, потом опять революция.
Потом были красные, потом были белые, потом были зеленые [Там же: 79].
Не выказывая особенного восторга перед фактом покорения космоса, Перэл вслед за Тевье Шолом-Алейхема перечисляет несчастья, которые обрушились на голову kleyne mentsheles XX века, а заодно «одомашнивает», мировоззренчески присваивает себе весь политический строй и всю историю Восточной Европы, переводя их на язык своих ценностей и знаний. Подобно другим старым евреям – персонажам неофициальной русско-еврейской литературы, Перэл произносит неканонические истины, усвоенные в рамках «простой» религиозной картины мира, а в качестве языковых артефактов отсылающие к идишскому рассказу. Перэл – дитя литературной традиции, в которой наивные, необразованные герои становятся рупором нонконформистских воззрений автора.
Что же случается с семьей Тевье и Голды после Шолом-Алейхема? Брат Перэл Изя, лучший портной окраины, становится коммунистом случайно, после того как его, пьяного, забрали с собой большевики; другой, Есиф, грузчик и невероятный силач, в четырнадцать лет бежал из дома: «Когда один сын стал красным, а другой убежал из дома, так маме есть о чем переживать» [Там же: 80]. К погромам и революции, пережитым литературными предками Перэл, добавляются сталинизм и «дело врачей». В духе своих предшественников героиня, читая в газете еврейские имена «отравителей», ищет ответа у еврейского Бога: «Ой, готыню, […] чем же мы у тебя провинились, что ты нам это посылаешь? […] Шрек мир, готыню, но только не наказывай!» [Там же: 81, 84]. Это уменьшительно-домашнее обращение к Богу, восходящее к хасидскому «интимному», диалогическому общению с Творцом, несвоевременно переводит сталинские преступления на язык Торы – язык греха, милосердия и воздаяния.
Центральный эпизод рассказа – бурная кухонная ссора Перэл с соседкой по коммуналке (та, начитавшись «Правды», впадает в антисемитскую истерию) – кульминация поэтики, в которой документ и цитата сохраняют баланс. Юмористически стилизуя крикливую разборку двух евреек (например, ярмарочных торговок), Берман в то же время оперирует узнаваемыми историческими реалиями. Соседка Зойка, она же «бандитка», воспроизводит формулы поношения, в 1953 году ставшие клише в советском обиходе:
…вот теперь всех евреев перережут ножами. Чтобы не отравляли наших вождей. Слава Богу, что хоть Сталин живой остался. Он вас к порядку призовет. А всех евреев, кто в живых останется, кого не дорежут, пошлют в Сибирь лес пилить. […] Гитлер вас резал, не дорезал, теперь мы дорежем! Ну, где ваш Бог? [Там же: 83]
В ответ разъяренная Перэл сыплет проклятиями из еврейского (литературного) фольклора: «Ешьте нас, бандиты, но нашими костями вы подавитесь! […] Когда они раздерут ваш желудок, то вы захлебнетесь в своей собственной крови от наших костей!» [Там же]. Разгоревшаяся потасовка завершается расплатой: Перэл, окончательно войдя в раж, бьет «бандитку» чугунком по голове, напоминая при этом скорее библейскую героиню, нежели домохозяйку. В этой трагикомической сцене возникает топос «ветхозаветного гнева» и воздаяния – того состояния, которое наступает, когда чаша знаменитого еврейского терпения наконец переполняется. Правда, ярость очень быстро уступает место религиозной этике, запрещающей убийство и тем самым отличающей евреев, по мнению Перэл, от гойим: «И я уже говорю Богу. Спасибо тебе, готыню, что я не убила эту курву. […] Потому что мы не так воспитаны, чтобы кого-то убивать» [Там же: 85]. Фольклорный жанр «бабьей разборки» из штетла переносится в советскую коммуналку, превращаясь в своего рода еврейский «кухонный эквивалент» политики. Так же, как в трагифарсе перебранки отражается «дело врачей», так в вольном поведении бандитки высмеивается советская дружба народов. Соседка Маруся, подруга Перэл, ругает Зойку: «…у тебя, хоть армян, хоть еврей, хоть наш Иван-дурак! […] этому дала, тому дала. Давалка нашлась тут» [Там же: 87]. Как бандитка, явно не отличаясь космополитическими взглядами, демонстрирует безукоризненный интернационализм в сексуальной сфере, так и Маруся хвастается собственной исключительной половой разборчивостью с политическим намеком: «Да если бы я только захотела, то ко мне бы очередь стояла, […] ко мне бы чернилом на руках писали, как за мукой стояли в войну. […] К ней [вагине. – К. С.] надо пропуск иметь, как на парад» [Там же]. Как и у Юлии Шмуклер в рассказе «Последний нонешний денечек», перепалка в страшное время перед смертью Сталина (или же после нее) перетекает в карнавал непристойностей и безудержную – здесь лингво-дискурсивную – бойню.
Постепенно бермановский «физиологический очерк» все больше превращается в притчу, ведь еврейский сказ не только переводит исторические катастрофы на язык анекдота, но, как известно, и самые обыденные эпизоды в состоянии сделать поводом для разговора об экзистенциальных вопросах. Сцена спасения бандитки от ревнивого мужа, выдержанная в духе грубой народной комики, – Перэл и Абрам прячут ее в своей комнате, – дает рассказчице пищу для философских размышлений о человеческой связи перед лицом общих жизненных тягот: «Один в одном киселе, другой в другом киселе. Потому что жизнь плывет над нами, а не мы над ней» [Там же: 95]. В загадочном сне, который ей истолковывает старая знакомая Рахиль, Перэл предвидит смерть Сталина: одетый в одни кальсоны тиран стоит на здании мавзолея с красным петушком во рту и веревкой на шее. Рахиль рассказывает ей историю о том, как захороненные в стене мертвецы по ночам встают, пьют чай с лыкехом (медовым пирогом) и рассказывают друг другу, кто кого убил; они спорят и танцуют фрейлехс вокруг лежащей в мавзолее «куклы», а потом исчезают в земле или в стене. Эту политическую аллегорию поясняет библейская история Авраама: почитаемую евреями глиняную куклу Авраам заменил истинным Богом, который явил себя ему, и увел овец своих в другую землю. А сон переходит в обращение Перэл к Богу – ритмизованную, полную повторов, аллитераций и цветовой символики прозу. Принесенная Рахилью новость о смерти Сталина, как и в других упомянутых текстах, встраивается в еврейскую историю спасения, но связывается еще и с тропом безудержного весеннего половодья и небывало голубого неба:
Тут же появилась Рахиль. Она шла ко мне сто лет. Когда же она пришла ко мне, это небо вошло ко мне, а не она. […] Скоро много будет воды. Вода потечет ручьями по площадям, чуть не потопит всех. Тогда все напьются. […] Вот такая это будет весна. Оттого, что сейчас такое голубое небо.
От такого солнца и неба все могут утонуть [Там же: 105–106].
В сюрреалистическом видении в финале рассказа все герои едят темный, сладкий медовый пирог жизни, разрезанный Рахилью: в описание всеобщего любовного единения где-то за пределами реальных отношений и времен вплетаются развернутые парафразы Песни Песней.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.