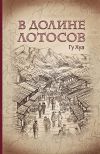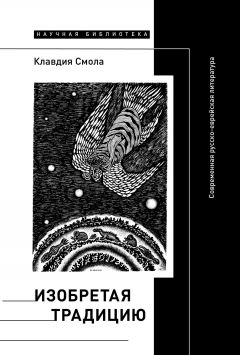
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
В удвоении и зеркальности повествовательной перспективы (или перспектив) обеих частей романа проявляются «балансирование между разными позициями» и «раскол „я“» [Hausbacher 2006: 251], которые Ева Хаусбахер усматривает в постколониальных литературных идентичностях: «…двойная или множественная личность – парадигматический мотив постколониальной литературы», сопровождаемый симбиотической «связью настоящего с прошлым» [Ibid]. Именно гибридная – или расщепленная, если рассматривать оба внутренних монолога как части одного, – точка зрения передает разные и по-разному ограниченные внутренние взгляды на русское еврейство: и это с самого начала исключает однозначное толкование истории – фабулы текста и истории евреев. Игра с дискурсами и историко-культурными (контра)фактами, а также приемы иронии, пародии и метафикции413413
Метафикционально прежде всего приложение-комментарий, но такова и самоироничная интертекстуальность всего текста, зеркальная структура книги и характерная для поэтики Юрьева игра с иконическими приемами.
[Закрыть] обнаруживают общую для постмодернистского и постколониального письма тенденцию к деконструкции застывших нарративов и форм. В результате анализируется «система знаний и репрезентаций» – «сама деконструкция […] оборачивается методом интеллектуальной деколонизации» [Бахманн-Медик 2017: 224].
Утрата еврейскими литературами Восточной Европы прежней системы культурных отсылок и живой связи с читателем стала, особенно с конца 1980‐х годов, импульсом к появлению новых поэтик. Ситуация, в которой потеря исторической памяти и традиций оказалась основным предметом литературы, породила, как уже говорилось во Введении к этой книге, разные и подчас несовместимые тенденции: с одной стороны, к реконструкции и архивированию, с другой – к компенсаторным практикам воображения, а порой и радикальному переизобретению. Постмодернистская проза с ее палимпсестной структурой, эклектизмом, интертекстуальным антипафосом, растворенной в тексте аукториальной инстанцией, а также безостаточной дискурсивностью становится тропом воспоминания. Такая литература – и это роднит ее с еврейским жанром мидраша – занимается экзегетикой прошлого: она переводит предание на идиоматический язык модерна и постмодерна.
В романе «Шебсл-музыкант» (1996) Яков Цигельман414414
Яков Цигельман (1935–2018) вырос в Ленинграде и жил там до эмиграции в Израиль в 1974 году. В 1970–1971 годах писатель работал в Биробиджане – административном центре Еврейской автономной области (см. «Яков Цигельман: „Похороны Мойше Дорфера“», с. 226).
[Закрыть] предпринимает что-то вроде апдейта еврейского культурного наследия, инсценируя его талмудическое толкование. Иронически и сочувственно, бесцеремонно и любовно писатель стилизует приемы еврейской герменевтики, чтобы в итоге продемонстрировать полный, но неизменно творческий крах традиционного подхода к культуре еврейства и к вековой еврейской учености. Однако пестуемые (не без двусмысленности) сокровища еврейской мудрости как раз потому запускают механизм культурного при– и освоения, что говорят они здесь на сложном, семантически мерцающем языке современности и постоянно ставят под вопрос собственную догматическую интепретацию.
Михаил Вайскопф отметил в рецензии на роман, что он написан в форме мидраша – ученого комментария к отрывку из Танаха [Вайскопф 1999: 105]. История о музыканте Шебсле, рассказанная в начале романа, состоит из 271 главки, многие из которых, однако, содержат всего одну короткую фразу, так что собственно фабула занимает лишь двадцать две страницы; оставшиеся почти 300 (!) страниц приходятся на толкование этой истории несколькими увлеченными, образованными, охваченными духом талмудического диспута хасидами. Пристрастие этих ребе к скрупулезному толкованию деталей объясняется условностями жанра: в классическом мидраше ученые, пишет Лео Ростен, «но также и „дилетанты“-энтузиасты […] даже в самых простых стихах, в каждой точке, каждой запятой Библии [открывали] сложные смыслы […] Мидраш притязает на постижение „духа“ того или иного библейского места и предлагает неочевидное толкование (не всегда, правда, убедительное)» [Rosten 2008: 375]. Цигельман играет с этим жанром «изощренного толкования, изложения и экзегезиса священных текстов» [Ibid: 374], заставляя своих евреев спорить, вдаваясь в мельчайшие детали, о гротескной, местами не поддающейся толкованию истории, отчасти профанной, отчасти мистической. Цитаты из талмудического учения и каббалы, а также подробные исторические сведения о мире штетлов и еврейской этике соседствуют с далеко идущими объяснениями незначительных, обыденных событий, так что граница между серьезностью и пародией размывается. Именно в этой двойственности и заключается художественное обаяние текста: игровой, юмористический подход к еврейству говорит о стремлении к интеллектуальному аффирмативному бунту; скрупулезный комментарий и многочисленные сведения, напротив, передают позицию внимательного культуролога, заинтересованного археолога культуры. Как раз из последнего обстоятельства и становится очевидным, что традиционное еврейское письмо уже невозможно без исторического разъяснения, а иудаистская экзегетика сможет достичь современного читателя лишь в том случае, если сумеет воскресить условия своего возникновения – жизненный мир толкователей.
Пронумерованные, как в иудаистских текстах, предложения и абзацы, из которых состоит фабула, складываются в сюжет лишь местами; по большей части их последовательность не дает внятного контекста или хронологии событий. За намерением Цигельмана отказаться от синтагматической семантики стоит не только постмодернистское желание разрушения иллюзии. В одном интервью он рассказывает:
И как бы мне в руки попала история этого Шебсла. Но в книжке – лакуны, вытертые места, оборванные места в страницах и тому подобное. Поэтому этот текст и читается, мягко говоря, с удивлением: почему вдруг абзац обрывается? почему где-то всего одна строчка? А потому, что очень старая, потрепанная книжка, что-то из текста вырвано, вырезано, выдрано, выжжено… А теперь давайте попробуем восстановить. И мы пытаемся… [Топоровский 2010].
Согласно этому замыслу, роман отражает не только структуру, но и историческую судьбу еврейских книг – их материальность, повреждения, претерпеваемые в миру, и конечность. Вместе с тем воображаемые лакуны позволяют автору воплотить в литературе особенности жанра мидраша: безудержную семантизацию толкуемого текста, а кроме того, принцип внеконтекстуального, ассоциативного, интертекстуально нагруженного чтения, направленного на разгадку смысла415415
О толковании Торы методом д(е)раш см. Введение.
[Закрыть]. Ведь комментировать – значит еще и строить предположения, дополнять и продолжать.
Упомянутое интервью содержит еще один ключ к пониманию жанра романа:
Существовал такой жанр литературы на идише – «майсэ бихл», то есть «книжка историй», можно так перевести. Эти книжки рассказывали жизненные, как говорится, истории, истории из жизни. Или это были какие-то фантастические истории вроде сказок [Там же].
Автор использует не только элементы канона, но и широкие возможности выросшей из него еврейской народной истории – майсе – и соединяет бытовые эпизоды с хасидским фантастическим рассказом, еврейской волшебной сказкой – вундер-майсе. Ульф Дидерихс, впервые издавший книгу старинных идишских майсе (майсе-бух) на немецком языке, подчеркивает в предисловии связь ма’асим с «началом всех еврейских повествований Нового времени»; они «опираются на Талмуд, мидраши и ашкеназское предание» [Das Ma’assebuch 2003: 7–8]. Ма’асим возникли на основе агады (арам. «повествование») – «общего понятия для обозначения той части устной Торы, которая не относится к нормативным предписаниям, религиозным законам (Галаха). Агада охватывает библейские толкования раввинистического еврейства […], а также множество мидрашей […]. Агада не авторитарна [/авторитетна], для нее характерна игра фантазии» [Ibid: 8]. Цигельман обращается таким образом к истокам идишской литературы, несущим дух еврейской традиции Восточной Европы и хранящим в себе знания о еврейской жизни идишских евреев. Свойственная традиции «игра фантазии» в «Шебсле-музыканте» конгениально сочетается с игровой же эстетикой постмодернизма416416
Еврейская практика библейской экзегетики у Цигельмана сочетается с постмодернистской поэтикой пространных (фиктивных) комментариев, продолжающих рассказывать историю дальше, например, в примечаниях: ср. [Lunde 2006] о «сверхточном, почти наивном комментарии» в «Подлинной истории „Зеленых музыкантов“» (1999) Евгения Попова и рассказах Вячеслава Пьецуха [Ibid: 75–79, здесь 78]; Лунде пишет о клише постмодернистской «литературы сносок» [Iid: 79].
[Закрыть]. Свобода от пиетета и творческая субверсия парадоксальным образом (в духе «творческой измены» Дэвида Роскиса) делают возможной связь с традицией, позволяют вступить с ней в нетривиальный диалог.
Фигуру Шебсла и хронотоп старого Камница Цигельман заимствовал из «Моих воспоминаний» Ехезкеля Котика («Mayne zikhroynes», 1913–1914)417417
Ср.: «Шебсл-музыкант кратко описан в книжке Иехезкеля Котика, которая называется „Зихройнэс“ („зихронот“ – воспоминания). Эта книжка до недавнего времени была только на идише, недавно переведена на русский язык. Я когда-то делал переводы каких-то кусков для себя. А потом, копаясь в своих бумагах, нашел там своего героя, Шебсла, и краткую историю его встречи с царским наместником» [Топоровский 2010].
[Закрыть]. Там Котик описывает свое родное каменецкое местечко и уделяет несколько абзацев некоему вундер-клейзмеру Шебслу:
Derhoypt hobn zikh in yene tsaytn oysgetseykhnt di klesmer fun Kobrin mit reb Shebslen in der shpits, velkher hot nor keyn notn nit gekent. Nor er hot mit zayn shpiln gekont makhn, az der gantser oylem zol zikh tseveynen.
Di ziskayt fun zayn shpiln iz eyn-leshaer.
Der Shebsl iz gevorn aza mefursem, az es hot dergreykht zayn nomen biz Paskevitshn, dem poylnishn namestnik. Yener hot geshikt nokh im, un Shebsl hot geshpilt aleyn mit zayn fidl.
Paskevitsh iz iberrasht gevorn un hot im forgeleygt zikh toyfn. Un bald hot er im gefregt tsi kon er shpiln oyf notn. Shebsl hot umshuldig geentfert:
– Ikh kon nisht.
– Nitshevo – hot im Paskevitsh ongepatsht in pleytse, ikh vel dikh oyslernen notn, nor du zolst zikh toyfn.
Demolt hot shoyn reb Shebslen fardrosn, un er hot gezogt, az ven men zol im makhn far a firsht, volt er es oykh nisht gevolt.
Paskevitsh hot im dokh opgekhaltn ba zikh dray teg.
Ale ovnt flegt er farbetn tsu zikh di fornemste gest, un Shebsl hot geshpilt tsum mitog bam tish a tsvey, dray shoen.
Keyn vayn, keyn shnaps hot Shebsl nisht gevolt ba im farzukhn, esn hot Paskevitsh geheysn brengen far im fun a idishn restoran.
Az Paskevitsh hot derzen, az er kon mit im gornisht makhn, hot er im gegebn toyznt rubl mit a diplom, vu er hot geshribn, az Shebsl hot a getlikhn muzikalishn talent, nor er iz nisht gelernt.
Bam gezegenen hot er im gezogt, az er volt im forgeshtelt dem keyser un Shebsl mit zayn familye voltn geven gliklekh, un efsher dos gantse folk Yisroel. Nor Shebsl hot zikh aroysgemakht und iz besholem avekgeforn [Kotik 1922: 38–39].
Особенно в то время отличались клейзмеры из Кобрина во главе с реб Шебслом, который не знал никаких нот, но игрой своей заставлял всех плакать. Сладость его игры описать невозможно.
Шебсл стал так знаменит, что его имя дошло до русского наместника в Польше Паскевича. Тот за ним послал, и Шебсл сыграл ему на скрипке. Паскевич, тронутый его игрой, предложил ему креститься и тут же спросил, может ли он играть по нотам.
Шебсл с виноватым видом ответил: «Не могу».
«Ничего, – похлопал его по плечу Паскевич, – я тебя научу нотам, только крестись».
Тут уж реб Шебсл почувствовал досаду и ответил, что если бы ему даже предложили стать принцем, он бы не согласился.
Паскевич все же подержал его у себя три дня. Каждый вечер приглашал к себе самых знаменитых гостей, и Шебсл играл за обедом у стола по два-три часа.
Ни вина, ни водки Шебсл не соглашался у него попробовать, а еду Паскевич распоряжался приносить ему из еврейского ресторана.
Увидев, что ничего с ним нельзя поделать, Паскевич дал Шебслу тысячу рублей и диплом, где написал, что он обладает божественным музыкальным талантом, хотя нигде не учился. На прощанье предложил представить его царю, говоря, что это принесет счастье ему и его семье, а может, и всему еврейскому народу. Шебсл, однако, уклонился и с миром отбыл [Котик 2003].
Этот эпизод составляет ядро, вокруг которого строится «майсе» Цигельмана. Вместе с тем и сам этот фрагмент представляет собой вариант еврейской майсе – нравоучительной истории, в которой еврею удается отстоять свое достоинство, независимость и твердость веры перед сильными мира сего. В контексте воспоминаний Котика эпизод играет важную этическую роль, поскольку Котик изображает бесчисленные унижения и страдания восточных евреев. Помещенная в череду реалистических сцен, легенда воплощает идеал еврейской стойкости в галуте. Сюда добавляется мотив исключительного еврейского дара, несовместимого с мирскими, нееврейскими категориями – в данном случае профессиональным музыкальным образованием. Очевидны хасидские корни этой майсе, в которой непостижимое для разума воздействие музыки на человека указывает на связь с Богом. Еврейские и нееврейские ценности при этом резко контрастируют друг с другом.
Хасидский претекст Яков Цигельман задействует в эпоху, когда внутренний еврейский взгляд рассказчика Ехезкеля Котика давно стал частью исторического прошлого. Перспектива Цигельмана, скрывающаяся за разными голосами, наоборот, балансирует между близостью и дистанцией, своим и чужим. Такой взгляд, в котором подход (культурного) историка сочетается с живой, чуть ли не ностальгической причастностью, явственен также в особенном аксиологическом модусе изображения ушедшей эпохи: низкое социальное положение евреев в Российской империи после разделов Польши (ср.: «имперская колониальная политика» [Цигельман 1996: 35]), их притеснения и преследования иллюстрируются множеством подробностей и фактов; вместе с тем на передний план выходит этическая инаковость и автономия (тогдашних) неассимилированных евреев – прежде всего, их равнодушие к светским иерархиям, как уже в тексте-предшественнике Котика. Говорится, например, об отсутствии в еврейских языках сомнительного понятия чести [Там же: 38] или об экономической деятельности евреев диаспоры как реакции на насильственные ограничения [Там же: 86].
В романе рассказывается, как знаменитого клезмера ребе Шебсла из Камница призвал к себе великий полководец Иван Паскевич418418
Иван Федорович Паскевич – реальное историческое лицо: российский император Николай I пожаловал ему титул светлейшего князя Варшавского за подавление польского восстания 1831 года.
[Закрыть]. В первом абзаце почти дословно цитируется соответствующий пассаж Котика: «1. И был реб Шебсл, камницкий клезмер, так знаменит, что слава его, посетив все местечки края, дошла и до покорителя Польши, Паскевича-наместника. И Паскевич-наместник послал за Шебслом своего мешуреса» [Там же: 3]. Подражая «домашней» коммуникативной структуре еврейского сказа, рассказчик сразу же включает читателя в круг воображаемых соседей и знакомых местечка, где к евреям обращаются по прозвищам и профессиям, а новости распространяются моментально:
2. Мешурес Паскевича еще только начал скакать, пыль столбом, а к Шебслу эта новость уже пришла в туфлях Шимке-водовоза, который получил ее из туфлей Дудке-коробейника, куда она поступила от Хацкеля-жестянщика, получившего сведения от Авремеле-лекаря. Авремеле-лекарь сам слышал про это от Хаимке-мамзера, который болтался во дворе, когда мешурес Паскевича садился в карету [Там же: 3].
Герметичный мир местечка и позиция «своего» рассказчика инсценируются при помощи как будто не нуждающихся в переводе еврейских понятий (мешурес, мамзер) и идишских выражений (новость приходит в туфлях жителей местечка). Мягкий юмор этого описания отсылает к интертексту Менделе и Тевье – и тем самым к почти уже фольклорному контексту еврейского мира. Перевод и пояснение следуют не сразу: лишь в комментарии к тексту несколькими страницами далее ребе расскажут о зарождении и развитии в диаспоре «пантофельной почты» [Там же: 25]. А что-то читатель должен выяснить и сам.
Чудо-музыканту Шебслу приказано явиться к его превосходительству, а затем играть на свадьбе. Паскевич посылает в отдаленное местечко своего мешуреса (адъютанта) с распоряжением доставить Шебсла в Варше (идиш. «Варшава»). Из коротких глав мы узнаем о поведении сопровождающих мешуреса казаков, которые осмеивают Йоске-шинкаря, не заплатив за трапезу. Декорации то и дело меняются: изображается игра в мяч галантной польской аристократии при участии таких совершенно неизвестных персонажей, как графиня Браницкая и адъютант Балашов. К эпическому рассказу примешиваются любительские, наивные рифмы вроде «Слуга Камилл был очень мил» [Там же: 5], а иные пассажи напоминают абсурдистскую поэтику Даниила Хармса: «23. Мешурес Паскевича поднял левую бровь» [Там же: 4]; «240. Долгожительница Надя служила здесь портовой крысой» [Там же: 21]. Ближе к концу пронумерованные отрывки все чаще сводятся к незавершенным и потому загадочным высказываниям вроде «А Шебсл вышел в рощу и увидел» [Там же: 16], «И Шебсл бросил» [Там же] или «И было» [Там же]. По замыслу, такие обрубки фраз маркируют лакуны в тексте419419
Короткий отрывок «142. А Шебсл уж вступил» [Там же: 150] искусный толкователь реб Довидл впоследствии толкует так: «…куда он вступил? Он вступил в отношения с кричавшими „Стой!“» [Там же]. Здесь не только вольно придумывается микросюжет, но и глаголу «вступить» приписывается фигуративное значение – создается зевгма. Похожим образом целые линии аргументации в комментариях опираются на коннотации, аллюзии или интертекстуальные аналогии (ср., например: [Там же: 158]).
[Закрыть], но они же пародируют бесконечный смысловой потенциал толкуемых фрагментов Торы. Микрокосм местечка – еврейские обычаи, язык и круговорот религиозной жизни – оживает в эпизодах встречи шаббата и во вновь оставленных без перевода ритуальных формулах, например «Лихт бенчн! Бенчн лихт!» («Зажгите свет/свечи!») или «Гут шабес!» («Хорошего шаббата!») [Там же: 9].
Шебсл уже в начале истории оказывается волшебником, Учителем и хасидским цадиком, произведя сильное впечатление на молодого мешуреса. Например, у того на глазах руки Шебсла начинают светиться, наполняя комнату золотым и синим огнем [Там же: 11–12]. Одним своим присутствием Шебсл заставляет мешуреса вдруг устыдиться и достойно заплатить Йоске-шинкарю за оказанный прием. Затем следует причудливое, фантастическое путешествие, о ходе которого читатель частично узнает лишь из позднейшего комментария. Происходят невероятные события: мифические звери говорят; дракон глотает карету; философский диспут крокодила с быком Шо ХаБором (на самом деле в быка превратился бадхен Тодрос) оканчивается побоищем420420
Исключительная плотность чудесных событий пародирует сюжет хасидской вундер-майсе с ее религиозно-развлекательным характером. Например, когда Шебсл влетает в кабинет графа, тот превращается в буддистское божество, его окутывает облако, после чего Шебсл начинает излучать свет [Там же: 259].
[Закрыть]; путники встречают племя воинственных краснолицых евреев – потерянные колена Израилевы, презирающие рассеянных евреев Европы421421
Образ встреченного путешественниками краснолицего Менаше бен-Йосефа из потерянных колен Израилевых иронически отсылает к новоизраильскому военному дискурсу и типу «мускульного еврея». Вместе с тем ему присущи черты неотесанного русского Ивана и былинного богатыря. Он носит меховую шапку, пояс с львиной головой и держит в руке стальные вилы; от его крика прячутся дикие звери и пресмыкающиеся. Он превозносит героические победы своего племени над врагами-язычниками, окружающими краснолицых евреев со всех сторон, и пытается убедить Шебсла и его спутников отказаться от жалкого прозябания в диаспоре и остаться с ними. Однако Шебсл отклоняет предложение «исцелиться». Разговор Менаше бен-Йосефа и Шебсла напоминает о двух конкурирующих со времен возникновения сионизма концепциях еврейской истории: жизнь во времени (в еврейской диаспоре с надеждой на искупление) и жизнь в пространстве (собрание на Святой Земле и отмена сакрального времени) (см.: [Там же: 284–289]). В конце Менаше бен-Йосеф побеждает дракона и спасает лошадей путешественников: взаимная помощь хотя бы свидетельствует о еврейской солидарности.
[Закрыть]. Незнакомые персонажи совершают странные поступки: «255. Князь Чак откинул жемчужный полог»; «260. Марго вязала колдовские сети» [Там же: 22]. Повествование все заметнее теряет логику, темные аллегории подчас не поддаются расшифровке даже после подробных пояснений, комментарии перестают толковать историю, а вместо этого продолжают ее рассказывать. Фабула еще более усложняется благодаря включению в нее многочисленных интертекстуальных кодов, которые либо предполагают глубокое знание еврейских источников, либо являются отсылками к несуществующим текстам. При этом предложения или их группы выступают как бы репрезентативными фрагментами разных литературных жанров: приключенческого, любовного или дворянского романа, восточной сказки, рыцарского романа, батального эпоса, мистической притчи и, наконец, их пратекста – Библии: «изысканное „лоскутное одеяло“ из текстуальных ингредиентов», если воспользоваться данным Дагмар Буркхарт определением русского постмодернистского пастиша, в частности, у Владимира Сорокина [Burkhart 1999: 14]. Интертекстуальность проявляется здесь как ряд «аграмматизмов» (в понимании Майкла Риффатера), нарушающих поверхность текста, который поддается дешифровке только при помощи отождествления другого текста: инородное интертекстуальное тело служит «связующим звеном» [Riffaterre 1977: 197]. Аграмматизмы у Цигельмана часто возникают вследствие смены стилистического кода (о случаях подобной «интерференции» как индикаторах цитаты см.: [Plett 1985: 85]). Вместе с тем это нагромождение текстовых отрывков не что иное, как ряд литературных клише, доводящих до абсурда жанры, к которым отсылают; ср.: «224. Предметом его захватывающей страсти стала Дашенька, падчерица графа-наместника» [Цигельман 1996: 20] или «81. Весь облик графа выразил отчаяние» [Там же: 10]. Поскольку всю историю пронизывает мотив сновидения (персонажи то и дело засыпают и видят сны), то метафикциональный, сюрреалистический характер этих фрагментов получает некоторое психологическое обоснование422422
Анализируя сны героев майсе, ребе ссылаются на свои медицинские знания, фрейдовское толкование сновидений, юнгианскую теорию коллективного бессознательного, психиатров Роберта МакКарли и Дж. Аллана Хобсона (чья фамилия приводится в ошибочном латинском написании Gobson), иудаистские трактаты и особенно каббалу [Там же: 230–233]. В одном месте экзегеты упрекают автора, что мотив сна тот украл у Борхеса. В ответ автор заверяет, что никогда не читал Борхеса [Там же: 76]. Отсылка к Борхесу и его текстам связывает дискурс о сновидениях с практикой интертекстуальности и одновременно – с ориентированным на многозначность и ассоциации методом еврейской экзегетики д(е)раш, составляющим еще один важный претекст этого романа.
[Закрыть]. В конце Шебсл трагически гибнет в борьбе со злом, которое здесь воплощает «разбойник-нигилист», неспособный уверовать в живое чудо.
Историко-культурное измерение текста Цигельмана раскрывается, а точнее, добавляется лишь в комментариях, так как высокоученые экзегеты заняты в основном объяснением жизни еврейства штетлов, устройства кехилы, еврейской этики, обычаев и обхождения евреев друг с другом, а также иудаистских понятий. Они рассуждают о том, что значит клезмер, бал-крие, ойлем или балабатим, чем греческое философское понимание мироздания отличается от еврейского, каковы были религиозные еврейские гигиенические законы, какие предрассудки против еврейских шинкарей были распространены в Восточной Европе или как Афтоний из Антиохии определял экфрасис. Также здесь приводятся подробный рецепт приготовления макового струделя [Там же: 32–33], любопытные факты из истории снабжения питьевой водой в Европе [Там же: 44] и об итальянских винах [Там же: 62–63]. В тексте демонстрируется многоязычие, наряду с русским включающее элементы польского, украинского, французского, но прежде всего идиша и иврита. Шебсл вернулся с шахрес (утренней молитвы) [Там же: 25]; он выздоравливает после рош-ходеш (первого дня месяца по еврейскому лунному календарю) [Там же: 26]; из хедера (начальной школы) раздался голос меламеда (учителя) [Там же: 27]. Стилизованная самоочевидность такого словоупотребления как бы избавляет от необходимости перевода, так как толкователи, а вместе с ними и автор ожидают от читателя соответствующих познаний. В русский текст вставляются также характерные идишские частицы: «…чего он стоит, эпэс?» [Там же: 26]; «Весьма возможно! Давке!..» [Там же: 50]. Гебраизмы же часто ведут к основам еврейской религиозной этики, так что язык открывается читателю как составляющая былого культурного универсума еврейства: «Обманывать гоя – это хилул а-Шем (осквернение имени Бога. – К. С.)! Нельзя использовать для своей торговой выгоды ошибки нееврея!» [Там же: 49]. Другие еврейские обороты отсылают к практике толкования Талмуда, вернее, к галахической экзегетике, например: «Ихо ле-мифрах! И возражу вам» [Там же: 61]. Это выражение означает перенос галахических законов с одного случая или предмета на похожий. Или: «Ал тикрей (не читай. – К. С.) – „стук“, читай – „стук“!» [Там же: 160]423423
«Еврейское мидрашное понятие ал-тикрей буквально значит „не читай“, что является сокращенным вариантом фразы „не читай (этот текст) вот так, а, переставив или заменив буквы в библейском тексте, читай этот стих или это слово по-другому и с другим намерением“. В талмудической и мидрашной литературе около 180 ал-тикреев» [Rotenberg 2009: 29].
[Закрыть]. Последняя цитата создает пародийную тавтологию: неразличимость между правильным и ошибочным прочтением.
Не только идишские и ивритские выражения нередко остаются без перевода и толкования, но и русские слова иногда снабжаются уточняющим переводом на идиш или иврит (!): «„Суббота“ – что это? Это шабес» [Там же: 98]; «Сказал р. Довидл: – Бастард – что это? Это мамзер» [Там же: 83]; «Доносчик означает „мосер“» [Там же: 60]; «Вот что значит „Уже?“! „Уже?“ значит „Шойн?“» [Там же: 43]. Но и здесь автор оставляет за собой свободу вариаций – свободу предоставить читателю перевод или же воздержаться от него: текст изобилует двойными обозначениями вроде «парнасим-попечители», «тувим-почетные граждане», «габоим-старосты» [Там же: 53].
При этом непростой феномен перевода сам становится объектом рефлексии. Комментируя перевод фразы «ойб ду вилст, рук зих цу» – «если надо, можно переделать» [Там же: 51], буквально: «если хочешь, придвинься», – реб Мойше Трейстер говорит о непереводимых идиомах идиша и идишского общения, юмористически передающих еврейский менталитет, – в данном случае манеру сообщать о чем-либо в косвенной форме. К этой дискуссии относится и комментарий о «естественном» многоязычии еврейских нарративов (еще одна автореференциальная черта): «В общем-то, евреи часто хорошо знали языки. Ввиду участия в международной торговле» [Там же: 50]. Так исторические черты европейского еврейства становятся поэтикой самого романа.
Энциклопедическое еврейское образование вымышленных комментаторов выливается в многочисленные отсылки к Танаху, Мишне, Гемаре и особенно к еврейской мистике – каббале. При этом галахические законы или агадическое предание они применяют чуть ли не ко всем мелким деталям излагаемой истории и еще время от времени размышляют о самой истории толкования того или иного понятия. Так, только для того чтобы прокомментировать хвастливую позу бадхена Тодроса, ребе привлекают трактаты о смирении из раздела для чтения Шофтим (Судей), Мишны Недарим (Обеты), Сота (буквально: «неверная жена») и о насмешке из книги Исаии, книги Мишлей (Притчей Соломоновых) и трактата Мишны Авода Зара (Идолопоклонство) [Там же: 79–80]. Кроме того, по этому поводу рассказывается майсе о послушной жене из трактата Недарим424424
Эту историю см. в: [Das Ma’assebuch 2003: 297–298].
[Закрыть]. Медленное возвращение местечковых евреев из синагоги в шаббат трактуется с опорой на интерпретацию сотворения мира в книге Кохелет и мидраше Берешит Рабба [Там же: 104]. Правда, в некоторых случаях нагромождение цитат, хасидских притч и комментариев к комментариям заставляет толкователей забыть о толкуемом пассаже (ср.: [Там же: 233–239]).
Но главное место в «Шебсле-музыканте» занимают все же хасидско-каббалистические сюжеты и интерпретации. В субботних свечах, зажженных супругой Шебсла Рохл, являет себя сила доброго (белого) и злого (темного) огня [Там же: 98–99]; в интервалах между нотами в музыке Шебсла выражается божественный порядок небесных тел [Там же: 278–279], а его светящиеся руки передают сакральное значение еврейских букв и их связь с частями человеческого тела и человеческими качествами [Там же: 118–120]. Истории о Люблинском ребе и Злочевском магиде425425
Перечисление цадиков – духовных учителей хасидов, – съезжающихся на важное событие из соседних или отдаленных местностей, опять-таки маркирует внутреннюю еврейскую перспективу, для которой география определялась местами, связанными с еврейской святостью. Города и местечки приобретали у евреев известность и наделялись особым характером именно как места проживания или посещения «учителей» – и, соответственно, места разных традиций/школ хасидизма. Ср. следующие речевые жесты: «Приехал Турийский ребе со своей свитой хасидов! Турийские хасиды замкнуты, угрюмы и необщительны! […] Вот Чернобыльский ребе приехал! […] Едет Острожский ребе! Он поражает своим молитвенным пафосом! […] И Миропольский цадик едет! […] Вот он, Бердичевский ребе, ходатай пред Всевышним за каждого еврея и за всех евреев вместе!» [Цигельман 1996: 221]. В этом прямо-таки плакатном перечислении типичных черт разных хасидских центров, однако, дает о себе знать и этнографический взгляд извне (см. далее).
[Закрыть] вкупе с изречениями Баал-Шем-Това объясняют, почему мешурес Паскевича должен был окончить свой путь один, без Шебсла [Там же: 238–239]. Грязь и унижение – в соответствии с хасидским пониманием божественного – подводят к назидательной фантастической истории рабби Нахмана из Брацлава. Барахтаясь в зловонной жиже, в которую они свалились по дороге через пещеру426426
Возможно, этот эпизод вдохновлен пародийным путешествием Вениамина Третьего в Святую Землю из знаменитого плутовского романа Шолема-Янкева Абрамовича (Менделе Мойхер-Сфорима) «Majsses binjumin naschlischi» («Путешествие Вениамина Третьего»).
[Закрыть], Шебсл и Тодрос рассказывают друг другу сказку [Там же: 163–165], знакомую подготовленному читателю как «О том, как пропала царская дочь» из сборника рабби Нахмана. Ее часто цитируемый финал сулит таинственное освобождение и возвращение к своему/правильному пути (тешува): «И он вывел ее! А как вывел – не поведал! В конце же – вывел ее!» [Там же: 168]. Экзегеты сходятся на каббалистической точке зрения на эту историю, согласно которой царские сыновья символизируют шесть из десяти божественных сефирот, царская дочь – Шехину, а злые царства – оборотную сторону мира, Ситра Ахра; пропажа царевны означает изгнание Шехины в галут после Швират ха-келим (разбиение сосудов сефирот в лурианской каббале) [Там же: 166]. Похожую интерпретацию этой сказки предлагает Дэвид Г. Роскис [Роскис 2010: 70–72]. Каббалистическое толкование рабби Нахмана соответствует, как поясняет исследователь, уровню сод, т. е. высшему, мистическому уровню прочтения (священного текста) в системе ПаРДеС (сод, букв. «тайна»): «Будучи прочитанными как сод, каббалистически, „Сказки“ достигают сразу двух целей. Каждой жестокой неудаче на земле, каждому трудному вопросу соответствует драма, которая одновременно разыгрывается в горней реальности, и они зависят друг от друга. Сказки рассказывают о столкновении миров и о силах добра и зла, которые сражаются между собой. Каждый отдельный мотив – производное от Божественного соположения сфирот, тогда как весь сюжет повторяет – целиком или частично – лурианский миф о цимцуме, швире и тикуне» [Там же: 68].
Помимо возможности окунуться в историю еврейского искусства рассказа и экзегезы427427
«Художественным введением в еврейство и хасидизм» – жанровое определение, применимое и к тексту Цигельмана, – Вальтер Кошмаль называет книгу Иржи Мордехая Лангера «Devět bran» («Девять врат», 1937), в которой «просвещение» еврейского (и не только еврейского) читателя по вопросам еврейских культурных реалий и обычаев (Тора, еврейские блюда, заповедь ритуального омовения и др.) в игровой форме, с юмором перемежается с «первичным текстом» хасидского повествования (см.: [Koschmal 2010: 195–198, 239 f.]). Без сомнения, эта просветительская историко-культурная стратегия – симптом утраты: эпоха, в которую исчезновение еврейского мира Восточной Европы становится реальностью (у Лангера), смыкается с уже наступившей эпохой еврейской постистории (у Цигельмана). Такие периоды требуют от еврейских авторов припоминания, реконструкции и сохраняющего обновления.
[Закрыть] и вызвать в памяти ее программные тексты, вставной сюжет рабби Нахмана соотносится и с «этимологией» самого романа, чей избыточный, эклектичный интертекст иронически имитирует практику заимствования иностранных сюжетов и мотивов в самих идишских народных книгах: «Что касается самой Майсе-бух, […] треть [книги] заполняли слегка видоизмененные легенды и новеллы нееврейского происхождения» [Там же: 54]. Фантастическое путешествие героя с кучей диковинных событий, восходящих к разным повествовательным источникам, наследует типичные черты вундер-майсе, вбирающей мотивы мировой литературы и преобразующей их в типично еврейский сюжет. К иудаизированным мотивам мирового фольклора и литературы, – которые подхватывает и Цигельман, – принадлежат, в частности, такие «трансгрессивные» приключения путешественников, как переход реки Самбатион и встреча с десятью потерянными коленами Израилевыми: «…вундер-майсе рассказывает о магических снадобьях, которые изменяют облик человека, о юношах, которые превращаются в птиц, о путешественниках, которые перешли реку Самбатион и оказались в еврейском Тридевятом царстве, где живут десять потерянных колен, о соблазнах и похищениях, о браках, которым не давали состояться на земле и они совершились на небесах» [Там же: 60–61]. Подобно сказкам самого рабби Нахмана и всем сфорим (священным книгам) (см.: [Там же: 66]), позднейшие комментарии увеличивают объем книги во много раз.
Не в последнюю очередь роман Цигельмана с почти театральной наглядностью показывает давно утраченную, но прославляемую в этом воображаемом пространстве (по меньшей мере би)культурность евреев прошлого, одновременно обнажая недостаточность знаний потенциального читателя. Ожидаемая читателем иудаистская работа реконструкции едва ли возможна из‐за необозримости источников, а внутренняя позиция толкователя мидраша опять-таки оказывается игрой, так как все ребе явно живут в наше время и поэтому едва ли могут быть частью этого полузабытого мира, а тем более рассчитывать на посвященного читателя: они цитируют Фуко, Аверинцева, Ольгу Фрейденберг, Фрейда как авторитетных евреев, порой раввинов, тем самым превращая целый мир в еврейский универсум428428
За этим кроется нечто большее, чем постмодернистская игра с культурными дискурсами: Цигельман и здесь намекает на определенную черту еврейского менталитета. Леонид Ливак приводит анекдот о галицийском раввине, рабби Хаесе, который, узнав о смерти Гёте, читает в синагоге кадиш по «ребу Гёте»: «Суть анекдота заключается в присвоении традиционной еврейской общиной нееврейской культурной величины на ее собственных условиях» [Livak 2010: 282–283].
[Закрыть]: «Сказал р. Авром-Янкев: – Сказал М. Фуко: […] Сказал р. Хаимке» [Цигельман 1996: 29]429429
Эти цитаты порой вымышленные; ср. пространную «цитату» из Мишеля Фуко, пародийно подражающую сложному стилю французского философа; Фуко приписывается и наивная сентенция, напоминающая об античных максимах: «В природе должна господствовать непрерывность» [Цигельман 1996: 29].
[Закрыть]. Это соседство делает высказывания не слишком серьезными, а возникающие смыслы не слишком обязательными.
Комбинирование рыцарского романа с культурологическим трактатом, талмудического комментария с еврейским бытовым жаргоном и каббалистической эзотерикой рождают текст, который не только разоблачает художественную иллюзию, но и иронически предвосхищает ее литературоведческий анализ – или профессиональную критику:
Сказал р. Гдалье:
– Поток цитат плохо привязан к тексту! […] Автор выглядит площе собственного текста! Прием умнее автора! Не автор подчиняет себе прием, но прием подчиняет автора! [Там же: 29]
Так «постмодернистская поэтика» как подходящая категория для анализа этого романа сама становится объектом насмешливой (мета)рефлексии: постоянно придирающийся к тексту и другим толкователям реб Гдалье говорит об авторском «псевдокомментарии, который должен создать постмодернистскую ситуацию» [Там же: 50]430430
Этот «саморазоблачительный» прием можно описать как «иронию над вымыслом», состоящую во «втягивании читателя в амбивалентную игру» [Wolf 1993: 236] на границе фикции и факта текста.
[Закрыть]. Недоволен он и перегруженностью текста излишними пояснениями [Там же: 34], возведением приема в культ [Там же: 86] и пристрастием к интертекстуальным эффектам: «Эта установка автора на нагромождение эффектных раскавыченных цитат мне решительно не нравится! Это самоцель!» [Там же: 89]. В очередной раз актуальные для 1990‐х годов литературные дебаты переплетаются со старой задачей еврейской герменевтики:
И все-таки мне кажется, что комментарий автора распадается на три части: истинный комментарий, объясняющий и углубляющий действие, затем идет псевдокомментарий, который должен создать постмодернистскую ситуацию, и чистая тавтология, где фиксируется очевидное [Там же: 50].
Здесь реб Гдалье явно пытается применить критерии типологии ПаРДеС (ортодоксальное еврейское толкование Торы), выделяющей разные уровни понимания Торы. Но иерархически организованные уровни приближения к смыслу писания переносятся на современный текст и остраняются.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.