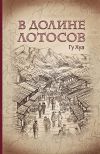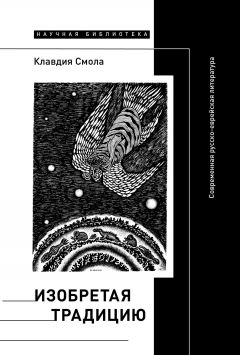
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ КОММУНИЗМА
(Пост)мемориальная литература: палимпсесты, следы, придуманная традицияСвязь места и памяти в литературе еврейского андеграунда была темой главы «Модели времени и пространства в нонконформистской еврейской литературе». В постсоветский период еврейские топографии продолжают нести семантику культурного анамнезиса, своего рода культурной мнемотехники – памяти этноса, травмы и утраты (более того, эта линия в условиях дозволенного говорения невероятно возрастает), однако при этом литература все больше сигнализирует о сконструированном, эфемерном характере воспоминания и роли воображения в реконструкции прошлого. Феномен постпамяти (postmemory)311311
Об этом см. во Введении.
[Закрыть]; тот факт, что память о еврействе черпается во многом уже только из культурных источников; растущая медиализация памяти – тексты реагируют на это усилением приемов интертекста и метафикции; топика и поэтика фрагментарности и моделирование художественного пространства как палимпсеста – все это делает литературную карту русско-еврейской литературы до и после коммунизма единым, хотя и совсем не единообразным символическим полем. Неудавшиеся либо заведомо невозможные попытки восстановления былого порождают компенсаторные практики письма, которые выдают вымышленный характер вспоминаемого312312
Также в смысле «обнажения искусственности» повествования, которое Вернер Вольф рассматривает как основной прием искусства, направленного на разрушение иллюзии, искусства метафикционального [Wolf 1993: 220], но и в смысле классической «нарративной авторефлексии» [Alter 1975].
[Закрыть]. После распада утопии «реставрирующая ностальгия» глобальных проектов коллективного возвращения сменяется «рефлексирующей ностальгией» индивидуального воспоминания313313
Об этой классификации см. также Введение.
[Закрыть]:
Если реставрирующая ностальгия заканчивается воссозданием символов и ритуалов дома и родины в попытке завоевать и «опространствить время» (spatialize time), рефлексирующая ностальгия склонна лелеять разрозненные осколки памяти и «овременять пространство». […] Рефлексирующая ностальгия […] является иронической, неубедительной и отрывочной. Ностальгия второго рода осознает разрыв между идентичностью и сходством; дом находится в руинах […]. Это остранение и ощущение дистанции заставляет их рассказывать свою историю, создавать нарратив о взаимоотношениях между прошлым, настоящим и будущим [Бойм 2019: 118–119].
Вместе с тем многие постперестроечные и постсоветские тексты несут в самой своей ткани детабуизацию еврейства, щедро или даже избыточно включая еврейские культовые и культурные реалии и топосы и используя ивритскую и идишскую лексику. Как было отмечено в конце предыдущей главы, парадоксальным образом фактографичность говорения о еврействе нередко растворяется в поэтике остатка, а обилие культурных отсылок выдает когнитивную ненадежность событий, извлеченных из прошлого мнемообъектов. Воссозданное целое еврейской жизни до войны и революции не допускает безусловной «иллюзии узнавания», свойственной любым попыткам возрождения мифа; ее место занимают «приступы меланхолии» и «постмодерный скепсис» (как пишет Дирк Уффельманн о поздних литературных версиях галицийского мифа, см.: [Uffelmann 2008: 277–278]), особенно в тех случаях, когда действительность текста оказывается иконическим «воспроизведением дискурса», отсылая к форме, а не к фактам [Ibid: 293]. Изучая автобиографические тексты о шоа, Сюзанна Дювель отмечает, что они «проникнуты поэтологической и теоретической рефлексией […], так что становится очевидным: письмо может отсылать только к текстам и уровню репрезентации» [Düwell 2004: 7].
Далее я проанализирую взаимодействие облеченных в художественную форму воспоминаний, воображения и обращений к более позднему, культурно кодированному знанию.
Наследуя пространственную метафорику еврейского инакомыслия, (пост)мемориальные тексты с конца 1980‐х годов все более широко используют фигуру палимпсеста для передачи процессов воспоминания, забвения, переписывания и вытеснения культурных знаков. Такие археологические тропы, как остатки и раскопки, (полу)стертое письмо, метонимика мусора, этого остаточного продукта избирательной обработки прошлого, – используют не только постколониальные литературы разных континентов, но и еврейская проза, чтобы передать дезинтеграцию памяти, долго бывшей под запретом.
Как отмечают исследователи, имеющая богатую традицию фигура палимпсеста314314
Обзор этой традиции со времен античности до наших дней см. в: [Kany 2009].
[Закрыть] обрела огромную популярность в период постмодерна. С этого времени сфера ее применения стала чуть ли не безграничной:
Палимпсест как медиум с более чем одним уровнем письма превращается в метафору культуры вообще. Множественность уровней становится эмблемой антииерархического разнообразия, символом перечеркивания любых притязаний на абсолютность благодаря тому открытию, что под каждым слоем письма скрывается другой [Kany 2009: 201]315315
Одна из монографий (число которых продолжает расти) о городском пространстве как о палимпсесте – работа Морица Чаки [Csáky 2010]. Чаки исследует такие популярные в гуманитарном дискурсе понятия, как следы, различия, гибридность, мультикультурализм и палимпсест, на материале культурного пространства Вены и Центральной Европы в целом.
[Закрыть].
Алейда Ассман, исследующая тропику памяти разных эпох, замечает, что определенные метафоры подчеркивают «[временную] недоступность» воспоминания и в то же время его «возможность быть расшифрованным, прочитанным» [Assmann 1999a: 156], – таковы как раз метафоры раскопок и палимпсеста.
Теоретики памяти не раз тематизировали пространственность тропов воспоминания и забвения:
Пространственно-ландшафтная мнемотехническая метафорика представляет забвение в виде некоей глуши, заброшенного места и алиби; метафорика хранилища представляет забвение как нечто сокрытое […], темное, дремлющее, порой это даже склеп или могила [Butzer 2005: 23].
«Глушь», «сокрытое» выступают устойчивыми составляющими литературного анализа эпохи, в которую меморативный доступ к истории – герменевтические процессы – вытесняется на периферию или в подполье. Так забвение и воспоминание обретают материальность, а пространство становится эпистемологическим инструментом, позволяющим приблизиться к нетотализирующему пониманию исторической действительности.
В последние двадцать лет интерес к семантике следов и фрагментов возрос не только в искусстве и литературе, но и в культурологии. Суть этого тренда емко сформулирована в предисловии к сборнику статей «Остатки. Подход к периферийному феномену» («Reste. Umgang mit einem Randphänomen», 2005): остатки – это «индикаторы прерывности и нарушенности», их преимущество заключается в том, что они позволяют «представить себе альтернативные порядки. Остаток – это пограничный феномен: его место на периферии, в сфере потустороннего, неизвестного» [Becker et al. 2005: 7–9]. Предметом эпистемологического поворота, проявившегося во внимании к остаткам и мусору, служит все исключенное и некодифицированное, противопоставляемое хранящемуся в архивах и вошедшему в канон. Так, мусор для Алейды Ассман – это прежде всего надежный «носитель неофициальной памяти» [Assmann 1999a: 215], что она раскрывает на примере романа Томаса Пинчона «Выкрикивается лот 49» (1966).
Таким образом, мы имеем дело с переплетением тропов, благодаря которым заново открывается прежде вытесненное, скрытое, забракованное и потому со временем десемиотизированное316316
Татьяна Петцер рассматривает творчество Данило Киша как глобальную поэтическую попытку создать при помощи «геологических» приемов «„архив неархивированного“», т. е. истребленного [Petzer 2008: 165]. Так у Киша вырисовывается функция мусорных свалок: «Помойки истории становятся отправной точкой (магмой) творческого акта, в трансформированном виде входя в литературную память» [Ibid: 152].
[Закрыть]. Поэтому чтение скрытых «геологических» слоев – потенциально субверсивная практика: выявляя невозможность возврата и возрождения, письмо, читающее следы, занимается ревизией прошлого.
Ранее на разных примерах было показано, как еврейское оттеснялось в подполье и на задний план, исчезало под слоями нееврейского письма, изымалось из прежнего синтагматического порядка и помещалось в новый или профанировалось в практических целях. Символизация подобных культурных техник в литературе позволяет представить еврейство в качестве нижнего слоя палимпсеста, еще, быть может, различимого в виде следов и фрагментов. В этом случае метафора палимпсеста вполне вписывается в традицию, восходящую к известной интерпретации Генриха Гейне: подобно Гейне, видевшему, как на лице немолодой женщины будто «сквозь черную, недавно написанную монашескою рукою страницу из Отцов церкви проступают полустертые любовные стихи античного поэта» («Путешествие по Гарцу») [Гейне 1971: 550], еврейские авторы стремились «выявить предпосылки настоящего с его заблуждениями», выступить «[адвокатами] маргинализированной традиции» [Jacob/Nicklas 2004: 15–16]. Такое использование метафорики переписывания, показывают Иоахим Якоб и Паскаль Никлас, напрямую ведет к культурным теориям конца XX века, прежде всего к взаимосвязи власти с дискурсом у Фуко и представлению о культуре как о наслоении «доминирующих и подчиненных текстов» [Ibid: 23].
Идея культурного палимпсеста, возникшего в результате смен власти и исторических асимметрий, чаще всего связывается с феноменом еврейского сокрытия, мимикрии и (дис)симуляции, который обсуждался ранее (см. «Евреи-переводчики: литературная мимикрия», с. 104). Сама человеческая личность превращается в «плоскость» стирания и переписывания; как ни парадоксально, процесс этот то и дело обнаруживает неизгладимость приписанных извне еврейских признаков, которые постоянно извлекаются на поверхность. Работа такого палимпсеста становится предметом (само)ироничных или трагикомических эпизодов в прозе как до, так и после распада СССР. Приведу два примера.
Герой рассказа Эфраима Севелы «Осведомитель» (1982), еврей Аркадий Полубояров, работает ретушером в редакции одной московской газеты, специализируясь на «облагораживании» портретов советских партийных руководителей: он мастер фальсификации с особым талантом к сокрытию дефектов. Этот ничем не примечательный человек оказывается единственным, кто сумел обработать неудачный официальный снимок Брежнева так, чтобы закрытые глаза главы государства казались открытыми. Тем самым Аркадий Полубояров спасает редакцию от неминуемых санкций и ненадолго превращается в уважаемого всеми коллегу; однако проходит совсем мало времени – и вот уже с этим маленьким человечком, еврейским собратом гоголевского Акакия Башмачкина, снова забывают здороваться. За его русско-украинским именем скрывается подлинное – Абрам Перельман, от которого он избавился, женившись на этнической русской. Невзирая на небывалую изобретательность Полубоярова-Перельмана, маскировка ему никогда полностью не удается, потому что его внешность по иронии судьбы гротескно отражает расхожие антисемитские клише: у него толстые отвисшие губы, печальные черные глаза и длинный нос. «Саморетушь» неизменно оказывается саморазоблачением, неудачной мимикрией, а безупречные симулякры удаются Аркадию лишь при ретушировании снимков советских властителей.
Показательно название вышедшего в 2008 году тома прозы Эдуарда Шульмана – «Еврей Иваныч, или Три псевдонима»317317
В книгу вошли тексты Шульмана последних десятилетий; самые ранние были написаны еще в 1950‐е годы.
[Закрыть]. В главе «Наследство» из текста «Аллея праведников» добропорядочный гражданин Альтшуль страдает от своих «неудобных», труднопроизносимых еврейских имени и отчества – Герш Пейсахович. Они пристали к герою намертво, несмотря на давно принятый им русский эквивалент – Григорий Петрович. В следующей сцене этой новеллы-очерка некий Залман Кодер приходит к своему старому знакомому Александру Кирилловичу. Тот возмущается переименованием московских улиц после революции: «Зачем Остоженка – Метростроевская?.. […] Остоженка – до чего наше слово! Остоженка, чувствуешь?.. А Пречистенка? Как они Пречистенку испоганили!..» [Шульман 2008: 176]. Не без отеческого превосходства и снисходительной насмешки Александр Кириллович, этнический русский и притом страстный русофил, намекает Залману, что не всякий вправе называться коренным москвичом: «…С какого года в Москве, Залман? – С восемнадцатого, Александр Кириллович. – А я – с четырнадцатого… Да не с года, не с года четырнадцатого! С четырнадцатого века!..» [Там же: 176]. В данном случае право на память и обретение старого, подлинного присваивает себе господствующая славянская «раса». В сумме обоих эпизодов советское и «исконно» русское невольно объединяются под знаком юдофобии, а изначальная оппозиция хорошего старого (досоветского) и плохого нового становится весьма относительной. Другая подоплека этого эпизода – это совмещение двух палимпсестов: табуированных еврейских имен и социалистического переименования улиц; оба равным образом становятся предметом амнезии и вытеснения.
С началом детабуизации еврейства в конце 1980‐х годов культурная парадигма еврейского сопротивления, главным козырем которой была «другая» коллективная память, переходит в сферу публикуемой большой литературы – в толстые журналы и многотиражные книжные издания. Воспоминание становится официальным историческим событием в том смысле, какой вкладывает сюда Люциан Хёльшер (см. Введение), а потому символическим якорем нового самосознания и новой историографии. Как говорилось выше, поэтология и авторефлексия, используемые для художественной реконструкции прошлого, отражают во многих текстах невозможность миметического повествования: письмо становится симптомом, кратким и неверным моментом компенсации. Мания памяти в сочетании с распавшимся образом собственного «я» становятся отныне движущей силой и главным мотивом этого письма.
Как не раз демонстрировала в последние двадцать лет автобиографистика, метауровень повествования позволяет пишущему артикулировать проблему связи воспоминаний с настоящим. Особенно после пережитых исторических потрясений, при рефлексии прерванной преемственности метафикциональность помогает сделать решающий в автобиографическом письме когнитивный шаг – акт определения себя в настоящем. Метафикция заменяет линейность, гарантию надежной генеалогии. Здесь значимо не только ставшее уже общим местом в теории памяти и документалистике признание сконструированной природы вербализованного воспоминания [Nünning 2007a: 41], но и характер связи этого нарушающего иллюзию приема с повесткой конкретного «сейчас», «продолжение прошлого в настоящем» [Nünning 2007b: 282]: «Поскольку воспоминания конструируются исходя из определенной современности, они больше говорят о насущных потребностях и делах мемуариста или автобиографа, чем о том или ином былом событии» [Nünning 2007a: 44]. Жанр «метафикциональной автобиографии» или «мета-автобиографического романа», исследуемый Ансгаром Нюннингом на материале современной англоязычной литературы [Nünning 2007b], имеет «выраженную тенденцию к метаизации и саморефлексии»; при этом происходит смещение «фокуса с изложения истории жизни на эпистемологические и методологические проблемы […], возникающие при написании автобиографии» [Ibid: 271, 277].
Последняя повесть Израиля Меттера (1909–1996) «Родословная», написанная в первые постсоветские годы (1992), может быть, наиболее ярко отражает почти эксцессивное обращение русско-еврейских авторов к теме утраченных корней: пожилой повествователь анализирует неожиданно овладевшую им одержимость прошлым и раскол собственного «я», невозможность восстановления или самоидентификации. Текст Меттера – поэтический и поэтологический реквием по собственному еврейству, появившийся после краха диктатуры, а также пример посттравматического письма, которое стало одним из центральных субжанров литературы после конца коммунизма, в сущности, ее порождающим механизмом318318
См. об этом: [Düwell 2004].
[Закрыть].
Как отмечает Рита Гензелева, возросшая в начале 1990‐х ностальгия по ушедшему миру еврейских штетлов и «взволнованный» интерес к еврейскому знанию, повседневным ритуалам и языку, к своей вынесенной в заглавие «родословной» показательны и в контексте творчества Меттера [Гензелева 1999: 141–155]. Припоминание этнической другости собственной семьи, гордость за сохраненную бабушками и дедушками многовековую еврейскую мудрость, восхищение еженедельными ритуалами шабата – все это резко отличает повесть Меттера от таких его более ранних произведений, как «Конец детства» (1935) и «Пятый угол» (1964):
Писатель, еще три десятилетия назад глубоко равнодушный к еврейской национальной религии, противопоставлявший «религиозный климат» костелов, мечетей и церквей таковому в синагогах, в начале 90‐х годов с горечью констатирует, что именно на нем оборвалась древняя связь народа с Книгой [Гензелева 1999: 147].
В «Родословной» ключевой для еврейской литературы нарратив потери превращен в (мета)поэтический прием, так что идентичность не только тематизируется, но оказывается в буквальном смысле вписана в поэтику текста. «Мосты желания», пути целостного переизобретения традиции у Меттера уступают место жесту когнитивного сомнения и метатекстуального вмешательства319319
О понятии метатекстуальности ср. основополагающий труд Вернера Вольфа [Wolf 1993]; дополняющие друг друга определения термина см. в типологиях Жерара Женетта [Genette 1982] и Манфреда Пфистера [Pfister 1985: 26–27].
[Закрыть] – симптом постисторического письма. В этом смысле meta-memoria становится у Меттера выражением postmemory.
Я родился давно.
Дело не в дате: сама по себе она лишена живописности – минувшее окрашивается не календарем, а приметами канувшей эпохи [Меттер 1992: 12].
Факт рождения рассказчика в клинике еврейского доктора Арие уже с самого начала вводит мотив насильственно оборванной связи времен: впоследствии герой больше никогда не видел этого врача, сестра появилась на свет дома, на большом обеденном столе, – в 1918 году доктор Арие бесследно исчез. Осталось только мистическое чувство пожизненной связи с табличкой на двери клиники [Там же: 12–13]. Табличка же несет семантику письма как главного материального атрибута сохранения памяти. Уже в следующих строках она связывается с процессами старения, упадка и – опять-таки – культурного переписывания: посетив несколько лет назад родной Харьков, рассказчик отыскивает дом Арие и видит «облупленные двустворчатые двери, провисшие, сотни раз перекрашенные, незакрывающиеся» [Там же: 13]. По обе стороны от дверей
…было не счесть вывесок, и каждая из них испещрена буквами русского алфавита, но в таком тарабарски-аббревиатурном сочетании, словно дюжина племен грядущей цивилизации захватила это здание и пытается в нем сожительствовать [Там же].
В приведенной цитате последующие надписи на русском языке, покрывающие старый, еврейский слой палимпсеста, – двери много раз перекрашивали, – прочитываются рассказчиком как захватническая победа варваров, «дюжины племен грядущей цивилизации», над культурой. Это чтение в двойном смысле слова – непосредственном (чтение написанного) и герменевтическом (толкование изображения/текста) – выворачивает наизнанку просветительскую миссию советизации: аббревиатурные знаки перестают читаться, нести информацию на поздней стадии социализма, они стираются физически и идеологически. Показательна здесь постколониальная фигура «writing back» [Ashcroft/Griffiths/Tiffin 1989], жест опрокидывания ощущаемого теперь насильственным канона знания: письмо империальной аккультурации, которое за годы обрусения успело стать для рассказчика (единственно) своим, сейчас кажется ему чужим и диким («тарабарщиной»). Наконец, обилие вывесок, сменивших одну-единственную табличку из прошлого, говорит об оскудении и инфляции культурно-духовного содержания, которое теперь измельчало в буквальном смысле.
Родной город Харьков, который герой пытается прочесть спустя много лет, предстает единым мнемоническим пространством, тропом прерванной культурной памяти. Смыслообразущими оказываются метонимические метафоры, передающие пространственную смежность вспомненного и забытого (двери указывают на здание, здание – на еврейское врачебное искусство и основателя бывшей клиники Арие, а все вместе – на вытесненную еврейскую культуру и цивилизацию), а также синекдохи, работающие с семантикой остатков, разрозненных частей и осколков.
Первая метафикциональная «интервенция», заставляющая усомниться в достоверности воспоминаний, содержится уже в начале процитированного абзаца о бывшей лечебнице: «Это все я вспомнил или придумал (курсив мой. – К. С.), приехав в Харьков несколько лет назад» [Меттер 1992: 13]320320
Ср. также непосредственно вслед за этим: «Отец окончил четыре класса городского училища в Минске. Я не уверен, что это точно (курсив мой. – К. С.) – возможно, и три класса» [Меттер 1992: 13].
[Закрыть]. Рассказчик впервые заинтересовался «генеалогическим древом своего рода» [Там же] двадцать лет назад, когда он, на тот момент почти шестидесятилетний, увидел старую фотографию своего прадеда, одетого в традиционную одежду евреев Восточной Европы. Рука прадеда покоилась на книге: «А книга означала, что мой род грамотен с незапамятных времен» [Там же]. Получается, что этот новый интерес к предкам возник в начале еврейского «национального возрождения», т. е. около 1967 года (об этой косвенной датировке см.: [Гензелева 1999: 144]), – хронологическая отсылка, сигнализирующая о связи поздне– и постсоветского периодов «потепления» памяти и о преемственности мемуарных нарративов. Фотография, этот классический носитель семейной памяти, служит отправной точкой постмемориальной реконструкции: воспоминания питаются воображением, которое, в свою очередь, вдохновляется уже культурной, а не личной памятью («Вот книга и распалила мое воображение (курсив мой. – К. С.)» [Меттер 1992: 13]) – но задействованные воображением фрагменты воспоминаний парадоксальным образом рождают сокровенное чувство принадлежности к семейному роду. Между припоминаемыми фактами и их ретроспективным истолкованием стоит символический культурный посредник, обобщенный образ предка, запечатленный на тысячах живописных изображений, фотографий и в сотне прочитанных текстов – дед с бородой и Торой, т. е. момент перевода и толкования. Спустя несколько страниц рассказчик возвращается к фотографии: «Фотография моего прадеда возбудила во мне жажду самопознания» [Там же: 18]. Правда, за этим слегка патетическим заявлением следует самоироничная оговорка: «Я вглядываюсь в его глаза, в неприкрытую бородой часть лица, выискивая, угадывая и выдумывая сходство со мной» [Там же]. Тоска по прошлому – эта рефлектируемая ностальгия – слита воедино с когнитивным скепсисом.
Топос одержимости памятью, неотвратимости ее работы и неконтролируемое вторжение воспоминаний в настоящее составляют саму текстуру (анти)рассказа, неустанно «размышляющего» о самом себе и порождающего поэтику разрушения иллюзии:
Назойливо и властно врываются в мою старость детские воспоминания. Непонятно, как удалось уцелеть им под напором действительности […]. Воспоминания лежат, как птичьи яйца в гнезде, душа долгие годы обогревала их, а сейчас они беспорядочно и беспощадно проклевываются.
Ожил двор. Над ним, как в театре, поднялся занавес памяти [Там же: 13–14].
Этот пассаж – очередной пример плотной мемориальной метафорики. В нем воспоминания биологически естественны и неизбежны, как вылупляющиеся птенцы, их содержание ненадежно до эфемерности, заключено в тонкую скорлупу (символ времени, ведущего к забвению), и вместе с тем сила этой новой жизни неподвластна субъекту припоминания: после долгого, сокрытого существования воспоминания вдруг проклевываются на поверхность, ломая молчание, как птенцы скорлупу. Человеческая душа предстает одновременно ненадежным и долговечным хранилищем воспоминаний, в определенный момент она их выпускает на волю, более того, не в силах их удержать. Душа как гнездо памяти – один из тех пространственно-мемориальных тропов, которые Алейда Ассман называет «образами латентной памяти» (например, метафора чердака или чулана): «такие понятия, как „латентная память“ или „сберегающее забвение“, можно отнести к категории накопительной памяти, такой, которая держит наготове запас разрозненных, не связанных единым нарративом элементов» [Assmann 1999a: 161–162]. «Эмпирическая память» контингентна – она «несистематична, случайна, бессвязна» [Ibid: 161]. Меттер как будто отвечает на эту концепцию памяти словами рассказчика: «Блуждая в потемках родословной […], я натыкаюсь на всякую былую чепуху» [Меттер 1992: 18]321321
Ср. другой троп ненадежной, латентной памяти: «Их [предков] зыбкие очертания колеблются в моей памяти, как водоросли на дне речного потока» [Там же: 17]. Лакуны заполняются, однако, осознанием общности: «Но вот необъяснимое ощущение, что они мои, что я происхожу от них, что это мой род (курсив в оригинале. – К. С.), обогащает меня непрерывностью существования – чувством божественным» [Там же].
[Закрыть]. Противоречивость, или неоднородность, тропов памяти вполне диалектична: ассмановскому чердаку и потемкам последней цитаты, символизирующим остатки и мусор, противостоит метафора гнезда, то есть рождения и созидания. Ведь хаос воспоминаний обладает, как ни странно, невероятной энергией самопознания, способной связать поколения. В духе этой диалектики последняя строка процитированного отрывка ставит под вопрос онтологический статус припоминаемого: не биология живого существа, а иллюзия явлена в театральной метафоре памяти: «Ожил двор. Над ним, как в театре, поднялся занавес памяти». Здесь воспоминание – ненадежная, поскольку художественная, практика.
Этот сложный дискурс памяти, постоянно пересматриваемый, отрицающий сам себя, превращает автобиографическую прозу Меттера в развернутую рефлексию культурных процессов начала 1990‐х годов. Автобиографизм включен в систему аллюзий и тропов, которые означивают время уже не поздне-, но постсоветского еврейского возрождения. Так, частое обращение к еврейским религиозно-культурным реалиям и идиомам идиша и иврита в сценах из семейной жизни, в зависимости от контекста снабженным русскими переводами, – перформативный знак реэтнизации литератур периода перестройки и постперестройки. Рассказчик не просто приводит идишские выражения – например, дедушкину присказку «Зай а менш!» («Будь [хорошим] человеком») [Там же: 14], – но и подспудно соотносит собственное незнание этого языка с симптомом общей амнезии настоящего [Там же]. Минская хоральная синагога, где молились члены бабушкиной семьи, кошерное вино по праздникам, дедушкина пейсаховка, ритуальное субботнее блюдо чолнт, услуги шабес-гоя, празднование Песаха и первый вечер седера, отцовский тфилин, мезуза на двери в родительский дом, похороны бабушки по иудейскому обряду и т. д. – все эти еврейские топосы окутаны притягательной таинственностью, они ассоциируются с детским любопытством и ощущением счастья, рисуют мифическую картину детства.
Как и в других мета– и постмемориальных текстах (см. далее «(Пост)мемориальная топография: „Сон об исчезнувшем Иерусалиме“ Григория Кановича», с. 333), поэтика мифологизации прошлого сочетается с этнографическим комментарием, поясняющим те или иные аспекты еврейской традиции и для самого повествователя – ассимилированного еврея, и для современного читателя. Так, часть «нечитаемых» уже еврейских терминов истолковывается при помощи парафраза: чолнт – «эта ритуальная субботняя пища малоимущих религиозных евреев»; шабес-гой – «…плата за грех, от которого „шабес-гой“ – субботний иноверец – избавлял моих стариков» [Там же: 16]; пророк Элиягу – «Илья-пророк, „Элиёгу ганóви“» [Там же: 24]. Иногда приводится прямой перевод («„тарбут“ – в переводе с иврита на русский – „культура“» [Там же: 22]), а иногда – более пространные описания и объяснения. В некоторых случаях культурный перевод подчеркивает разницу между «чистыми» знаниями детства и утерянными или искаженными сегодняшними, выявляя своеобразную герменевтику культурной утраты: «„Хýмош“ – главный предмет в программе нашей гимназии. Теперь-то я знаю, что это библейский Ветхий завет. Но для меня это не одно и то же» [Там же: 23]. Более, казалось бы, обширное взрослое знание героя теперь ложно: так, до сих пор он понимал Тору с точки зрения христианской традиции – продукт почерпнутых из общего советского образования минимальных религиозных познаний, маргинализировавших еврейство. Некоторые понятия, напротив, оставлены в тексте без перевода (например, тфилин, шехтер, кадиш): свидетельство все еще более или менее естественной принадлежности рассказчика к еврейской культуре или ограниченной возможности равного существования в обоих культурных пространствах.
Эта поэтика называния и комментирования, фольклоризации детства и метатекстуальной ревизии, неполного или терпящего крах мифологизирующего присвоения минувшего прочитывается в контексте того, что можно назвать постсоветской мнемонической психотерапией. В этом смысле «Родословная» – это (пост)мемориальный рассказ о настоящем: «…Почему эти старики, безразличные для меня в детстве, исчезнувшие из моего сознания навеки, внезапно ожили сейчас в самое непригодное для них и для меня время?» [Там же: 17]. Интересно, что фрагментарная индивидуальная память герою дороже объективного исторического знания – сверхличной «накопительной памяти» (Speichergedächtnis) в терминологии Алейды Ассман [Assmann 1999a: 133]. Он отказывается наводить справки о еврейских обычаях: «Я […] намеренно исхожу лишь из моих чудом уцелевших воспоминаний, источенных молью времени и подернутых пеленой забвения. Именно такими они мне и необходимы» [Меттер 1992: 17]322322
Ср. также: «…Пробелы памяти неохота восполнять связующими домыслами. Гул времени сохранился осколками воспоминаний, – им противопоказана последовательность и даже достоверность. Из марева возникают звуки и миражи» [Там же: 23].
[Закрыть]. Историческое знание, дающее иллюзию полноты, лишило бы рассказчика личного переживания прошлого. Говоря в приведенном в сноске 1 отрывке о «божественном чувстве» причастности и о необъяснимой силе вдруг окрепших семейных уз, он как бы приписывает воспоминанию мистическую силу анамнезиса (об учении Платона см. Введение). Мемориальные процессы в еврейской постсоветской прозе, как до этого в еврейской диссидентской литературе, – это попытки возврата к «очищенной» версии себя и духовного исцеления, с тем отличием, что теперь авторы острее сознают эфемерность воспоминаний и роль фантазии.
Падение во время означает отчуждение. Всякой теории отчуждения присуще представление о спасительном единстве. Одной из таких теорий было гностическое истолкование этого мифа как драмы забвения и припоминания. Здесь происходит противоборство между двумя противоречащими друг другу воспоминаниями: деиндивидуирующим, которое есть причастность к божественному, и индивидуирующим, которым человек вынужден пользоваться в земной жизни. Второе воспоминание – это забвение первого; божественное воспоминание затемняется и вытесняется первым, приобретенным в этом мире, вплоть до полной неузнаваемости. «Гнозис» означает не что иное, как восстановление первого воспоминания, отыскание его поблекших следов (см. главу «Анамнезис: мистическое отражение» в: [Assmann 1999a: 109–110]).
Рассказчик пьет из чистого источника своего детства, чтобы вновь отыскать или придумать себя самого. Потому он и отбрасывает более поздние, фиктивные323323
Так, (своей собственной) позднейшей советизации и общему истреблению еврейской культуры Меттер приписывает черты фиктивности: «…это надо понимать не буквально, все это с нами как бы свершалось» [Там же: 24]. И наоборот, «неправдоподобные» истории из Торы о чудесах Моисея в пустыне, о которых повествователю рассказывали в еврейской гимназии, приобретают черты достоверности иного рода. Подобное переворачивание двух уровней реальности уже встречалось нам в еврейской литературе исхода.
[Закрыть] слои воспоминаний из времен советского забвения еврейства. Письмо призвано хотя бы частично обратить вспять «затемнение» первых, мифологизированных воспоминаний, вновь (из)обрести «поблекшие следы».
Слои палимпсеста, скрытое, отложенное, остаточное, некогда забракованное и пришедшее в упадок – все то, чем в начале рассказа семиотически нагружается харьковское городское пространство, – в изображении Меттера присуще и самим мемориальным процессам. Материальный и ментальный уровни памяти составляют иконическое единство. Затопляемые водой забвения, снедаемые молью времени или укутанные пеленой – именно такие воспоминания способствуют «шаткому равновесию моего национального самосознания» [Меттер 1992: 17]. Семантика колебания, частичности и неразличимости примиряет противоположность факта и вымысла в рамках поэтики «творческой измены»: «…мне даже по душе эта неопределенность: за мной всегда остается право непрерывного выбора. И я выбираю по-разному» [Там же].
Несмотря на этот нарративный скептицизм, в «Родословной» оживает библейская парадигма воспоминания, заявленная в подпольной и эмигрантской еврейской литературе: некая сверхличная генеалогия заставляет рассказчика стремиться к танахическим слоям еврейской памяти в поисках идентичности. Ежегодно рассказываемая отцом на Пасху история об исходе из Египта и о сорока годах странствий в пустыне под предводительством Моисея кажется ему, пожилому человеку, намного реальнее, чем тогда, в 1921 году: «Пожалуй, сегодня я верю в реальность этой истории несравненно сильнее, нежели верил тогда, в одна тысяча девятьсот двадцать первом году. […] Все это было вокруг меня, но не впитывалось мной» [Там же: 25]. Прослеживая нити, тянущиеся от восстания Бар-Кохбы к современности [Там же: 31], рассказчик, как и многие позднесоветские авторы алии, отсылает к одному из самых героических и вместе с тем трагических моментов легендарной еврейской истории (восстание евреев против римлян, завершившееся разрушением Иерусалима и изгнанием/рассеянием). Этот протоэпизод включен в сцену закрытия еврейской гимназии «Тарбут» Евсекцией и ареста любимого учителя, господина Праховника. Хотя насилие над евреями объединяет далекие и недавние события еврейской истории, в ХХ веке древний, далекий от амбивалентностей библейский героизм (само)иронически релятивируется: евреи активно участвуют в разрушении своей же культуры (эта линия представлена прежде всего трагической фигурой старого большевика и литературоведа Ефима Добина). Мотив собственной вины пронизывает всю структуру рассказа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.