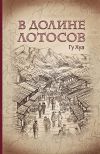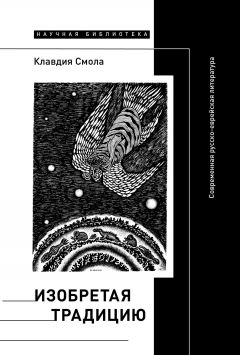
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
Мойше Дорфер, чьи разговоры с учениками читаются как трагическое наставление, парадоксально трактует искусство актерской игры и перевоплощения как верность самому себе, выводя отсюда этический принцип самоценности культуры еврейской диаспоры: цена голуса (галута) – возникновение культурно-духовного «сплава» [Там же: 45], противоположного отказу от себя. Театр – сокрытие собственного лица под маской и подспудное «заражение» реальной жизни искусством – переосмысляется как подлинное творчество, направленное на соединение и смешение.
Юлия Шмуклер: «Последний нонешний денечек»Развенчание еврейскими интеллектуалами мифа о гостеприимной семье советских народов, как мы видели, – одна из центральных тем еврейской протестной литературы. Несмотря на это, сатирические приемы литературы еврейского сам– и тамиздата еще малоизвестны251251
Одна из редких публикаций на эту тему – статья Риты Гензелевой «Сатира еврейского самиздата: Феликс Кандель» [Гензелева 2003].
[Закрыть]. Противопоставление вытесненного на социальную обочину или в андеграунд бесправного еврея всесильному, обезличенному советскому властителю стало новым вариантом конфликта «маленького человека» и власти.
Диссидентская еврейская литература охотно пользуется поэтикой абсурда и пародии, а также техникой анти-панегирика. Так возникает ироническое, карнавальное, трагикомическое письмо – нарративное опровержение хвалы советским вождям, и прежде всего Сталину как самому мифологизированному и фольклоризированному диктатору после Ленина252252
О сакрализации правителей в советской культуре см. обширную литературу, особенно: [Гройс 2003; Кларк 2000; Brooks 2000; Garstka 2005]. В своем фундаментальном труде о панегирической традиции в России Гарстка возводит «религиозно мотивированные отношения между правителем и подданным» к византийскому сакральному культу властителя [Garstka 2005: 81]. В связи с коммунистическим почитанием вождей он пишет о возвращении ослабшей в XIX веке эпидейктической традиции [Ibid: 291].
[Закрыть]. Интереснее всего оказывается при этом ритуальный, архаический, парарелигиозный характер почитания, которое здесь выворачивается наизнанку и осмеивается: посреди официозных практик коллективного причитания по умершему Сталину евреи, для которых эта смерть стала избавлением, втайне ликуют (как, например, в рассказе Марка Зайчика «В марте 1953 года»). Иногда траурная церемония превращается в карнавальный Пурим-шпиль – праздник спасения евреев; траурная процессия оборачивается безумным неистовством, шутовским уличным празднеством, в искаженном виде отражающим «массовый разгул патологического иррационализма» [Luks 2010: 128] сталинских массовых торжеств.
В рассказе «Последний нонешний денечек» (1975) Юлия Шмуклер, репатриировавшаяся в 1970‐е годы в Израиль253253
В отличие, например, от Григория Вольдмана, о котором почти ничего не известно, Юлия Шмуклер рассказывает о своей жизни в краткой автобиографии: [https://libking.ru/books/prose-/prose-rus-classic/213249-yuliya-shmukler-avtobiografiya.html].
[Закрыть], создает своеобразную антиверсию коммунистических траурных торжеств и посмертного культа Сталина. Атмосферу повествования задают издевательские выпады против евреев в общественных местах: дело происходит в Москве в 1953 году, незадолго до смерти Сталина. Ироничная рассказчица сравнивает кровожадную юдофобию «православного» народа при Сталине с дикой жаждой погромов до революции: «Свободы очень хотелось, хоть свободы жидов бить» [Шмуклер 1975: 23]. Так сталинский режим низводится до зловещей банальности: с точки зрения образованного еврея запланированные Сталиным незадолго до смерти погромы и депортации вписываются в общеевропейскую историю юдофобии. Для отца школьницы Женьки, героини рассказа, «средневековые ауто-да-фе были такой же реальностью, как киевский погром пятого года […], Бабий Яр, где лежали бабушка и дедушка, как бараки Освенцима и будущие бараки Биробиджана» [Там же: 24].
Жанр траурного панегирика вступает в силу в тот момент, когда Женькина школьная учительница Ксана официально объявляет детям о смерти Сталина:
Она […] дрожащим голосом начала:
– Нашу партию, народ постигло великое горе… Иосиф Виссарионович Сталин, вождь всего прогрессивного челове… – Ксана закусила губу, […] и закончила – болен [Там же: 32].
Конвенции похоронного славословия тут же, однако, опрокидываются благодаря параллелизму тайного еврейского торжества и официальной траурной истерии:
Дома царило подпольное ликование.
– Он, конечно, уже умер, – говорил папа, – иначе они не осмелились бы напечатать. Ты помнишь, Лиля, как он писал о Троцком? Собаке – собачья смерть.
– Подожди еще, – сказала суеверная тетя Лиля. – Вдруг он встанет.
– Не встанет, – сказал папа. – Лиля, есть в доме водка? [Там же: 33]
Сакрализация Сталина в коллективном советском сознании комически преломляется здесь в глазах простодушной, суеверной тети Лили, которая опасается, что мертвец может еще ожить254254
О демонических атрибутах Сталина в коллективном бессознательном см.: [Гройс 2003: 93].
[Закрыть].
«Свое» пространство Женькиной семьи, в приведенной цитате названное «подпольным», в полном соответствии с дуальной пространственной семантикой Лотмана [Лотман 1970] противопоставляется общественному пространству школы, где громко оплакивают усопшего вождя.
Ксана тихо легла в обморок, как покойница. Ее подняли, посадили в президиум, и она глядела оттуда совершенно безумными, припадочными глазами. Директриса […] держала речь. Со времен Маркса не было такого гения, – сказала она […] Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Товарищ Сталин отдал жизнь борьбе за счастье народное, это был Вождь земного шара. Полководец, генералиссимус, отец родной… Директриса стала всхлипывать.
В ответ заголосили со всех сторон [Шмуклер 1975: 33].
Речь Ксаны сочетает риторику сталинского культа личности с традиционным русским причитанием: после смерти и последующей канонизации Ленина этот идеологический синтез стал частью «рефольклоризации» советской культуры (см.: [Юстус 2000]). Безудержная гиперболизация как главный прием надгробного панегирика, космогонические («Вождь земного шара») и фольклорные («отец родной») тропы, а также христианско-сакрализирующие обороты («отдал жизнь борьбе за счастье народное»), возносящие правителя в сферу трансцендентного, служат стереотипными эпидейктическими формулами и частью устойчивого ритуала, разработанного тоталитарной культурой. Эти формулы разоблачаются в тексте с точки зрения радикально Другого – маргинализованного еврея.
В ходе развития сюжета контраст официального почитания и тайного поношения, плача и смеха обостряется, обретая невиданную театральность. Прогулка девочек, которым велено пойти на похороны и пройти мимо гроба Сталина, а затем мало-помалу и вся траурная процессия оборачиваются бесовским радостным маршем, рядом карнавальных непристойностей. «День стоял сверкающий. Солнце шпарило с голубого неба, не считаясь с конъюнктурой […] дул легкий, легкомысленный ветерок» [Шмуклер 1975: 34]. Девочки видят дерево, увешанное множеством галош разного размера; «на заборе сидела дама […], являя миру обширный зад в лиловом трико» [Там же: 35]; у какого-то мужчины с шеи свисает женский чулок вместо шарфика; на земле валяется женское белье; люди толкаются и обмениваются скабрезными шутками.
Не смеяться было невозможно. Девчонки […] совсем обезумели, носились, как молодые псы […] как-то все забылось в этом фантастическом угаре веселья, греховного и потому особенно буйного [Там же: 35].
В этой ключевой сцене воспроизводится бахтинская модель смеховой культуры: показано недолгое, ограниченное единственным днем, но коллективное и безудержное нарушение табу в условиях репрессивного режима. Антитеза траурной ритуальности маркируется при помощи выражений-лейтмотивов «опять смеялись», «смеялись до слез», «непристойное, неуместное веселье», «безумный восторг» и т. д. [Там же: 36]. Текст «вбирает всю мощь карнавального смеха, подрывающую всякий порядок и авторитет» [Volkmann 1998: 33]. Временный побег из строго нормированного мира облекается в поэтику грубого народного комизма, которую описал Бахтин у Рабле и Гоголя. Гротескно-животные «переодевания […], побои и развенчания» [Бахтин 2010: 512] рождают субверсивную семантику торжества на месте траура. Показательно, что радостное безумие этого народного гуляния объединяет евреев с неевреями, ненадолго смягчая и даже снимая прежде непримиримые противоречия.
Долго подавляемая потребность в свободе вместе с тем высвобождает и архаические, темные, варварские инстинкты, разгул которых достигает апогея в финале рассказа. Эйфория заканчивается катастрофой: скопление людей превращается в машину убийства, похороны вождя – в кровавую баню. Монструозность диктатуры явлена здесь в иррациональности советского коллективного бессознательного. «[Женщины] задыхаясь, с вытаращенными глазами, лезли в […] центральный поток […] каждый издавал короткие панические вскрики […] Это была смерть, неизбежная, чудовищная» [Шмуклер 1975: 37–38]. В самом конце рассказчица лаконично сообщает, что в давке погибло свыше двух тысяч человек, а некоторые девочки из Женькиной школы были затоптаны или изувечены.
Скорбно-истерическое восхваление умершего диктатора пересматривается в тексте через призму смехового и телесно-низового начал, а в конце – через призму коллективного ужаса. Тайный еврейский праздник Пурим оканчивается посмертной местью Амана, а спасение евреев остается иллюзией. В этом кратком освобождении, в страдании и смерти евреи ненадолго уравниваются с неевреями, а советский народ предстает единой жертвой.
КОНЕЦ ДИХОТОМИИ: РАЗРУШЕННАЯ УТОПИЯ АЛИИ
Сидра ДеКовен Эзрахи выделяет два типа еврейских «путевых нарративов» («travel narratives») со времени возникновения диаспоры. Первый – проект телеологического, линейного путешествия в Сион, воодушевленный целеустремленным утопизмом; к этому типу относится не только традиционная паломническая литература, но и сионистские тексты начиная с конца XIX века. В основе второго нарратива лежит мысль о невозможности прибыть в Землю обетованную, о случайном движении по кругу, приводящем в исходную точку, и в конечном счете сомнение автора в самой идее собрания и спасения евреев в Палестине. Истории второй категории, «хотя и основанные на модели паломничества, […] пропитаны современным скепсисом […], который отказывается верить в коллективное спасение, социальное или религиозное» [Ezrahi 2000: 28]. Обе разновидности травелога сигнализируют о длящейся проблеме отчужденного существования евреев, снова и снова воспроизводимой дилемме чужбины и возвращения. В качестве прототекста иронически-кругового блуждания в поисках Сиона Эзрахи приводит плутовской роман Шолема-Янкева (Якова) Абрамовича (Менделе Мойхер-Сфорима) «Masa’ot Binyamin Ha-Shelishi» («Путешествие Вениамина Третьего», 1878). В образе Вениамина – еврейского простеца, шлемиля, местечкового донкихота, который с энтузиазмом отправляется на поиски утраченных колен Израиля и мифической реки Самбатион, однако не уходит дальше соседних местечек, – пародируются, в частности, знаменитые еврейские путешественники Вениамин Тудельский (XII век) и Исраэл Иосиф Беньямин (XIX век).
Приняв типологию Эзрахи и имея в виду ревизию сионистского утопизма в «Путешествии Беньямина Третьего», можно сказать, что маскильская сатира Абрамовича оказалась прототипом всех скептических травелогов об Израиле вплоть до XX столетия. После репатриации стали возникать многочисленные горько-иронические произведения об опыте алии, более или менее радикально отрицающие символику рассмотренной ранее сионистской литературы. Тот факт, что обе литературные модели алии возникли приблизительно в одно время и лишь изредка появляются на разных этапах творчества одного и того же автора, показывает, что феномен этот отражает не столько разные фазы одного процесса, сколько синхронный плюрализм взглядов на Израиль. Еще важнее то, что обе полярные концептуализации возвращения в Сион опираются на долгую традицию путевой литературы еврейской диаспоры и по-своему актуализируют ее.
Такие тексты, как публицистико-автобиографическая трилогия Григория Свирского «Ветка Палестины» (1970–1993) в трех частях: «Заложники» (1970), «Прорыв» (1982) и «Бегство» (1993), также роман «Остановите самолет – я слезу!» (1975) и повесть «Продай свою мать» (1982) Эфраима Севелы, «Укрепленные города» (1980) Юрия Милославского, «Пес» (1984) Давида Маркиша и «Приключения желтого петуха» (1986) Якова Цигельмана являют собой варианты структурного опровержения модели необратимого пересечения пространственно-духовного рубежа. Узнаваемым топосом русско-израильской литературы становятся тавтологически повторяющаяся бездомность по ту сторону границы и дурная бесконечность странствий.
Наиболее близким претекстом позднесоветских, а затем и постсоветских переписываний израильской утопии выступает антисионистская проза раннесоветского периода, как то: «Опаленная земля» Марка Эгарта (1933–1934/1937)255255
Об этом романе и непростом, менявшемся отношении Эгарта к советской власти, которое видно из сравнения изданий 1934‐го и 1937 годов, см.: [Хазан 2001б; Вайскопф 2004; Shrayer 2011].
[Закрыть] и «Пароход идет в Яффу и обратно» Семена Гехта (1936). Но это и укорененный в идишской традиции роман Ильи Эренбурга «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (1927), и известный ивритский роман Шмуэля Йосефа Агнона «Темол шилшом» («Недавно», 1945). Эти тексты в разной степени предвосхищают как христианский мотив Вечного жида, так и типичное развитие сюжета в более поздней прозе, состоящее в последовательном разочаровании героя-идеалиста, а также бытописание нищеты, злоключений и этнических разборок в Палестине.
Трагикомическая фигура советско-еврейского вечного скитальца Лазика Ройтшванеца у Эренбурга отсылает в свою очередь к архетипическим персонажам произведений Менделе Мойхер-Сфорима и Шолом-Алейхема – нищих местечковых kleyne mentsheles («маленьких человечков») и людей воздуха. Эта традиция социальной критики и самоиронии, свойственная еврейской и прежде всего идишской литературе, еще несет в себе отзвуки маскильской просветительской сатиры. Они слышны – воспринятые через рецепцию эренбурговского советско-еврейского извода – прежде всего у Эфраима Севелы, но также и у Давида Маркиша.
Как известно, еврейский портной из украинского Гомеля, караемый и гонимый советской властью, переживает несколько «эмиграций»: в Польшу, Германию, Париж, Лондон и Палестину. Цель у Лазика скромная – выжить, однако это оказывается не так просто. Он пытается приспособиться к условиям той или иной среды и вжиться в разные роли: Эренбург гротескно рисует все новые неудачные попытки ассимиляции отдельно взятого еврея. «Я» Лазика вынужденно приобретает чрезвычайную гибкость, однако для своего окружения он постоянно оказывается неудобным. Палестина, на которую Лазик возлагает последние надежды, не становится исключением. Встретившийся ему там земляк Адамчик рассказывает Лазику о том, что его избили сначала арабы, а затем и евреи. Последние избивали его дважды, в первый раз за продажу газет на идише – презираемом в Палестине «жаргоне», а в другой раз за курение в субботу: «Старые цадики, когда они приезжали в Палестину умирать, вовсе не были такими идиотами. Это здесь самое подходящее занятие» [Эренбург 1991: 196]. На Святой земле Лазик вынужден побираться и терпеть побои, попадает в тюрьму, а перед лицом близкой смерти тоскует по прежней родине – Гомелю. Герою даже не позволяют умереть у священной гробницы Рахили, так как он беден и оскверняет святое место своим присутствием, а главное – отпугивает богатых, платежеспособных евреев.
Аня Типпнер показывает, как запущенная в романе Эренбурга «текстуальная машина» непрерывного движения протагониста по городам и странам подпитывается, с одной стороны, навешиванием на героя все новых ярлыков, вездесущих антисемитских стереотипов, а с другой – поддерживающими эти стереотипы попытками ассимиляции самого Лазика. В конце концов герой умирает от голода, невольно последовав древней еврейской традиции умирать на Святой земле. Таким образом, цепь проекций и «требований нормативной идентичности» [Tippner 2008: 339] продолжается и здесь:
Надежда обрести самого себя на палестинской земле, однако, терпит крах. Происходит это прежде всего потому, что от протагониста требуется последний, уже недоступный ему акт адаптации – превращение из еврея в сиониста. Путешествие Ройтшванеца в Палестину – это не обращение к собственному еврейству, не возвращение к корням, соответствующее сионистской трактовке переезда евреев Восточной Европы в Палестину, а очередной этап отчуждения [Ibid: 338].
Важно, что прибытие Лазика в Палестину и троп голодной смерти означают истощение не только телесных, но и «символических резервов» героя – «истощение, которое делает дальнейшие, изнуряющие попытки выстроить идентичность невозможными» [Ibid: 339]. Попытка присвоения все новых версий своего «я» и переписывания старых, а в связи с этим и аннуляция прежде значимых геополитических контрастов – все это и в литературе конца XX века служит демифологизации концепции алии. Снятие дихотомий не формирует никакой новой гибридной идентичности, символа «третьего пространства»256256
См. обсуждение гибридной или, наоборот, дихотомической еврейской идентичности в прозе Дины Рубиной с использованием постколониального аппарата в: [Parnell 2004].
[Закрыть], часто идеализируемого в постколониальных исследованиях, но обнажает зияние, негативно сводя воедино пространство с идентичностью.
В основе пессимистической концепции репатриации лежит еще одна отсылка к традиции. Размышляя о реакции таких идишских литераторов, как Шолом Аш, на тяготы революций и эмиграции, Михаил Крутиков пишет о реактуализации еврейской религиозной идеи Киддуш Хашем257257
Крутиков имеет в виду одноименный роман Шолома Аша 1921 года «Во славу божию», см.: [Krutikov 2001: 157]. Киддуш Хашем переводится как «освящение Имени (Бога)» и означает мученичество за веру.
[Закрыть], мученической смерти: эта идея «позволяет автору включить новое явление – эмиграцию – в бесконечную цепь катастроф, преследовавших еврейский народ на протяжении всей его истории. […] в этой парадигме эмиграция – как и революция – представлены как новая форма старого мотива Киддуш Хашем» [Krutikov 2001: 121].
В повести «Продай свою мать» (1982) Эфраим Севела, который всего за несколько лет до этого и сам был видным борцом за алию, обращается к теме тщетного, доходящего до абсурда поиска евреями своей родины. Рассказчик, русско-еврейский эмигрант, покинул «историческую родину», Израиль, и тем самым предал ее, как считает оставшаяся там дочь Рута. Еще нестерпимее для Руты, фанатичной израильской военнослужащей, тот факт, что отец живет в Германии и получил немецкий паспорт. Однако обретенная самой Рутой национальная идентичность уже потому ставится под вопрос, что основана во многом на ненависти к Германии и сегодняшним врагам Израиля. Рута делит весь мир на евреев, живущих в Израиле и сражающихся за свою землю, и врагов. Получается, что ее еврейство – совсем как раньше для советских евреев – определяется лишь отрицательно, в категориях рессентимента и борьбы.
Севела – один их тех еврейских авторов, которые не боятся проводить отрезвляющие историко-геополитические сравнения и художественно деконструировать любые объекты национально-идеологической мифологизации. В «Продай свою мать» Израиль выступает негативной противоположностью Европы сразу в трех смыслах. Во-первых, как страна проживания он оказывается для советского еврея местом экзотическим и провинциальным: «Для меня, европейца […] это экзотическая, красочная страна, куда хорошо приехать туристом. И только» [Севела 2004б: 220]. Во-вторых, он роковым образом воспроизводит модель гетто, где евреи диаспоры некогда ютились в окружении врагов: «Во мне еще слишком свежа память о каунасском гетто, где мы были скучены на крохотном пятачке и должны были в этой тесноте дожидаться, когда нас прикончат» [Там же: 219]. А в-третьих, кровавый опыт Восточной Европы не мешает Израилю стремиться к построению социализма: в этом проявляется жутковатая близость еврейского государства к покинутой советской «родине».
Политические различия становятся относительными, исторические перемены – сомнительными. Укорененная в еврейской традиции идея возвращения как «части обещанного будущего избавления» [Bannasch/Hammer 2005: 283] терпит крах258258
В уже упоминавшейся публицистико-автобиографической книге «Последние судороги неумирающего племени» (1975) Севела предлагает проницательный и горький анализ израильских реалий, прежде всего с точки зрения пригодности государства Израиль к тому, чтобы стать родиной для советских и других эмигрантов. Писатель приходит к парадоксальному выводу, что Израиль, убивая малейшие намеки на проявление национальных чувств, заставляет евреев быстрее ассимилироваться к другим народам [Севела 2007a: 181].
[Закрыть]. Взамен же приходит уверенность в прискорбной исторической преемственности.
Интересно, что, невзирая на значимую фигуру негативного отождествления, сама идея Израиля остается для рассказчика неприкосновенной. Как бывший еврей галута, своими глазами видевший антисемитизм и геноцид, он готов умереть за Израиль, который, несмотря ни на что, остается для него единственным домом евреев. Севела, как до него Эренбург, иронически корректирует упомянутый иудейский обычай, предписывающий пожилым евреям приезжать на Святую землю, чтобы умереть: рассказчик готов умереть за нее, но не готов на ней жить. «Продай свою мать» – одно из нескольких произведений Севелы, опровергающих израильскую утопию; таков, в частности, более ранний роман «Остановите самолет – я слезу!» (1975), названный Анджеем Янковским новой интерпретацией легенды о Вечном жиде [Jankowski 2004: 141]259259
Мотив жары и духоты, которые мучают героя повести «Продай свою мать» в Израиле, становится метафорой духовной жажды. Климат в обоих текстах – поливалентное понятие, означающее отсутствие интеллектуальной свободы. В романе «Остановите самолет – я слезу!» Севела, описывая израильский «климат», отсылает к царящим в стране религиозным законам – предписаниям, призванным превращать евреев-эмигрантов в послушных израильтян.
[Закрыть].
Христианские протосюжеты о Вечном жиде Агасфере и о блудном сыне определяют смысловую структуру севеловских (интер)текстов. Примечательно, что повествователь Севелы, выросший в советской среде, – и очевидно, сам автор – ссылается на известные эпизоды Нового Завета: знания советского интеллигента о еврействе основаны на часто цитируемых фрагментах Библии. В таком стереотипном ключе перетолковывается в конце повести и притча о блудном сыне: с горечью противореча самому себе, рассказчик выражает надежду, что в будущем дочь заберет его, «блудного отца», обратно домой, в Израиль.
Вдохновляющая прозу исхода идея избранности еврейского народа, мистической или основанной на особой исторической судьбе, в творчестве Севелы перечеркивается: быть евреем – это бессмысленное бремя; в повести «Продай свою мать» далекий от любых религиозных или духовных связей с еврейством260260
Советско-еврейский протагонист Севелы объясняет неспособность воспринимать Израиль как родину отсутствием в диаспоре еврейских традиций: «Ну какие же мы евреи? В Бога не верим. Еврейских традиций не соблюдаем. Языка своего не знаем» [Севела 2004б: 222].
[Закрыть] повествователь оценивает свою этническую принадлежность как несчастную и бессмысленную случайность. Жизненному проекту «пробудившихся» советских евреев алии, эссенциализирующему идею единства, Севела противопоставляет модель еврейства как непрерывного поддержания самими евреями чужих проекций, а идее трагически-мессианской избранности – модель исторического рока:
Мы от рождения несем на себе крест еврейства, взваленный на наши плечи не нами. И страдаем, и платим высокую цену за принадлежность к народу, который мы не избирали и получили в наследство от своих предков, вместе с тысячелетней давности счетами, которые человечество не устает предъявлять каждому поколению евреев [Севела 2004б: 222].
Для сюжетов о неудавшейся аккультурации в Израиле Эренбург создал, пожалуй, наиболее впечатляющий образец: Лазик понимает ивритоязычных евреев Палестины почти так же плохо, как и арабов, – иврит для него исключительно лошн койдеш, язык молитвы, – и становится жертвой и тех и других.
В финале романа «Остановите самолет – я слезу!», как и романа Давида Маркиша «Пес», тоска прибывших в Израиль героев по покинутому Советскому Союзу и их попытка вернуться туда маркирует нарративный жест повторения, фигуру не только пространственного, но и идеологического замкнутого круга. Второе, реальное возвращение приводит к трагическому тупику: герой Севелы по иронии судьбы наивно выкладывает свою историю попутчику – сексоту КГБ, а герой Маркиша гибнет, нелегально переходя советскую границу вблизи поста часового. В тексте Маркиша советское тоже приравнивается к израильскому, причем эффект узнавания оказывается для протагониста тем болезненнее, чем слабее его связь с еврейской традицией и литературнее образ еврейства261261
Как замечает Элис С. Нахимовски, эмиграция разрушает одностороннее, идеализированное представление о евреях героя романа Маркиша «Пес» Вадима Соловьева – «романтический взгляд на еврея как на образцового интеллектуала, который редко пьет, усердно учится и преодолевает сложнейшие препятствия ради того, чтобы получить образование» [Nakhimovsky 1992: 201]. Противоположность этому идеальному еврею диаспоры составляют в романе религиозные еврейские фанатики из Бней-Брака, а также провинциальные соотечественники Вадима, занятые мелочными повседневными заботами и думающие лишь о собственной выгоде.
[Закрыть]. Герой Маркиша, писатель-нонконформист Вадим Соловьев, сталкивается в Израиле с явлением, которое сам он называет «литературным расизмом» [Маркиш 1984: 233]. Литературная комиссия отклоняет его книгу из‐за отсутствия в ней еврейских тем: «Получается, что весь мир застроен клетками […]. И каждому писателю отведена одна-единственная клетка, и нельзя писать о другой», – заключает Вадим [Там же: 235]. Инверсия противоположностей опять оборачивается тождеством двух стран, в которых царят партийность, национальное обособление и нетерпимость.
Именно таким был печальный вывод авторов русской антисионистской литературы, начиная с эпохи халуцим: если ранняя антисионистская проза прославляла возвращение из Палестины в молодую «советскую Землю обетованную», то для позднесоветской еврейской оппозиции, уставшей от любых утопий и грандиозных социальных проектов, этот проект оборачивается последним самообманом. Сионистские антисюжеты, эти далекие отзвуки маскильского пародийного антиэпоса, описывают разочарование еврейского донкихота, наивного мечтателя, и его бесславное возвращение домой – или гибель. Геополитическая и геокультурная утрата веры, нашедшая отражение в литературе еще на заре алии, обозначила конец последних утопий, после которых наступит эпоха все более плюралистических, менее контрастных и менее непримиримых моделей русского еврейства. В этом смысле эпоху после распада советской империи – по мере все большей гетерогенизации бывшей советско-еврейской диаспоры – можно назвать постутопической. Художественная деконструкция Израиля как духовной альтернативы Советскому Союзу – этот минус-жест, нарушающий дихотомическое равновесие, – можно рассматривать как начало формирования внеиерархических русско-еврейских идентичностей, уже в разных странах и на разных континентах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.