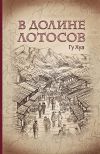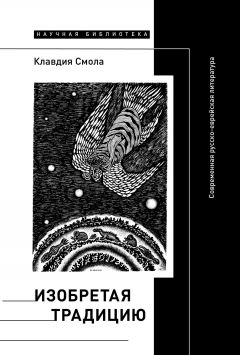
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Тем не менее, как я покажу далее, проза алии, обращаясь к таким еврейским первоисточникам, как Тора и агада, иудаистские концепции библейской памяти, диаспоры и антисемитизма, черпает свою символику еще и из традиций русской и западноевропейской литературы.
Биполярные модели: сионистский и соцреалистический романЮрий Лотман и Борис Успенский приписывают дуальным структурам в истории русской культуры исторически-диахронные и морально-религиозные характеристики:
Основные культурные ценности (идеологические, политические, религиозные) в системе русского средневековья располагаются в двуполюсном ценностном поле, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной аксиологической зоны. […] так, светская власть могла трактоваться как божественная или дьявольская, но никогда как нейтральная по отношению к этим понятиям [Лотман/Успенский 1977].
В более поздние эпохи Лотман и Успенский наблюдают похожую динамику развития, в рамках которой «новое мыслилось не как продолжение, а как эсхатологическая смена всего» [Там же]. Для анализа еврейской нонконформистской культуры, во многом противопоставлявшей себя советской идеологии именно по этой схеме, важно, что такое развитие «приводит к регенерации архаических форм» [Там же], например, к антиисторическим интерпретациям прошлого216216
Ср.: «Принципиальный антиисторизм облекается в формы обращения к искусственно сконструированной утопии прошлого» [Лотман/Успенский 1977].
[Закрыть]. Лотман и Успенский следующим образом формулируют это применительно к средневековой картине мира: «Представление о том, что движение вперед есть возврат к утраченной правде (движение в будущее есть движение в прошлое) распространилось […] широко» [Там же]. Утверждение, что зависимость или освобождение от памяти по-разному, иногда противоположным образом, оценивается в разные эпохи [Там же], важно для в сущности вполне модерного феномена еврейского диссидентства, поскольку эксплицитное переизобретение и отвоевание коллективной памяти должны были говорить о наступлении новой исторической эпохи и вести к глубинным изменениям идентичности.
Как проза еврейского нонконформизма встраивалась в парадигмы этого развития? В какой степени она структурно соотносилась с литературой, которую поощряла советская государственная идеология? Что она заимствовала из этой литературы, отвергая ее в целом? Очевидно, что новая идеология исхода и коллективного воспоминания стала реакцией на сакральные и парарелигиозные традиции самого государственного социализма.
В своей монографии «Советский роман: история как ритуал» («The Soviet Novel: History as Ritual», 1981) Катерина Кларк замечает, что диссидентская литература унаследовала образцы и дидактичность советского канона:
Большинство самиздатских и тамиздатских публикаций […] не особенно отличаются от того типа письма, которое публиковалось в Советском Союзе. Напоминают они официальную литературу и своим ярко выраженным дидактизмом. […] Современная советская художественная литература (и значительная часть неподцензурной) выросла не столько в отрыве от предшествующих традиций, сколько как раз из них. […] Даже отстаивая ценности, как будто бы обратные сталинистским, писатели нередко выражают их по старым лекалам [Clark 1981/2000: 235–236].
При всем том о простом зеркальном соотношении романов и повестей исхода и соцреалистической литературной продукции говорить не приходится: в них нередко оказывается представлена более сложная, философски и эстетически обогащенная (анти)версия канона. В целом они опираются как на классический европейский роман воспитания и его советские изводы, так и на ключевой для русского реализма XIX века жанр романа-прозрения. Поиск мировоззренческих и топографических альтернатив роднит их одновременно с сионистским романом воспитания первой трети XX века, деревенской прозой и молодежными романами периода оттепели.
Биографический сюжет текстов исхода описывает путь к откровению, отсылая к парадигматическим фабулам Достоевского, Толстого и Чехова. Отказ героев от прежних привязанностей черпает из «большого нарратива» русского реализма с его центральными топосами кардинальной переоценки личностью своего привычного жизненного окружения и ее духовного пробуждения. Обычно герой (чаще всего мужчина) обретает свое истинное «я» в результате мучительных духовных исканий217217
Известными примерами такого мировоззренческого переворота вследствие духовного кризиса служат истории Пьера Безухова в «Войне и мире» и Ивана Ильича в «Смерти Ивана Ильича» Толстого, Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского, гимназического учителя Никитина в «Учителе словесности» и Нади в «Невесте» Чехова.
[Закрыть]. История метаморфозы врача Эммануила Кардина или капитана артиллерии Исаака Фудыма, которые из лояльных советских граждан превращаются в религиозных евреев, воспроизводит типичный для российской интеллигенции путь познания, канонизированный в романе «Что делать?» (1863) Чернышевского218218
О генеалогии, от европейского Bildungsroman ведущей к «русскому социалистическому роману воспитания» вроде «Что делать?» Чернышевского, а затем «Матери» Горького и «Как закалялась сталь» Островского, см.: [Günther 1990: 207].
[Закрыть]. Сюжетная модель соцреалистического романа высвечивается в таких элементах, как процесс возмужания и (само)воспитания героя; мотив испытания/инициации и мученичества, заверяющих истинность обращения; разделение персонажей на положительных и отрицательных, которое получает топографическое отражение219219
В сравнительном исследовании тоталитарных литератур – романов сталинского и национал-социалистического изводов – Ханс Гюнтер выделяет те же самые сюжетные компоненты и мотивы: «мученичество как главная тема», «мотив идеологического бессмертия», «дихотомический принцип, поляризующий систему персонажей» [Günther 1990: 201–203]. Гюнтер отмечает, что обе романных разновидности тривиализируют идею внутреннего развития, лежащую в основе европейского романа воспитания.
[Закрыть], бескомпромиссный отказ новообращенного от старого220220
В случае религиозного переворота также важна отсылка к топосам христианского преображения в романах Достоевского, таким как раскаяние, покаяние и возрождение.
[Закрыть].
В литературе исхода очевидно, помимо этого, воспроизведение дискурса жертвенного героя, свойственного характерологии реализма, раннего социализма (Чернышевский) и соцреализма. Как показывает Дирк Уффельманн221221
См. главу «Христология революционера» в: [Uffelmann 2010: 618 f., 726 f., 756 f.].
[Закрыть], этот дискурс восходит к мощной традиции кенозиса в русской культуре. Диссидентские трагедии Бауха, Шраера-Петрова и особенно Люксембурга наследуют не только и не столько христианский, сколько культурно и исторически более близкий тип героя, связанный с совершенно определенным
литературным кодом222222
О жертвенном герое в раннесоветской литературе см.: [Günther 1993: 179].
[Закрыть]. «…Это страдание перехода», – пишет Уффельманн о Павке Корчагине, жертвенном герое Островского [Uffelmann 2010: 763]. Не менее применимой оказывается эта параллель к героям алии, которым приходится пересечь духовно-географическую границу и открыть новое летоисчисление. Примечательно, что вместо центральной для Уффельманна (а до него для Ханса Гюнтера и Катерины Кларк223223
Об истории вопроса по теме см.: [Uffelmann 2010: 737–738].
[Закрыть]) секуляризации сакрального в соцреализме, здесь наблюдается обратный перевод секулярных, парарелигиозных структур соцреализма в систему нового иудаизма: своего рода отраженная форма культурного возвращения, «старообрядческая» чистка испорченных традиций. Ревизия идей происходит, однако, не на уровне авторской рефлексии, а перформативно, на уровне структуры и поэтики текста: если соцреализм «борется» с религиозной «генеалогией собственной топики» [Ibid: 725], то более близкая и по понятным причинам нежелательная родословная диссидентских произведений остается их как бы говорящим без слов структурным элементом224224
Как разновидность традиции подражания Христу Уффельманн рассматривает и антигероя позднесоветской нонконформистской литературы – Веничку в поэме Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» – в силу «более или менее явной топики страдания» [Ibid: 792].
[Закрыть]. Хотя сионистская регероизация еврея в текстах исхода позволяет лишь отчасти проводить параллель с Христом, она все же то и дело проглядывает в образности текста.
Концепцию истории в романе сталинизма Кларк определяет как «божественный план спасения» («divine plan of salvation»), говорит о «переводе Истории в символическую форму» («translating History into symbolic form») [Clark 1981/2000: 159–160]225225
В своем исследовании «Коммунизм как религия» Михаил Рыклин пишет о коммунистической «вере в историческую неизбежность выхода за пределы истории» [Рыклин 2009: 31].
[Закрыть]. Историческая модель спасения или апокалипсиса была характерна для литературы революции, а впоследствии в измененном виде влилась в советскую (и не только) тоталитарную эстетику. В новом еврействе на смену порочной коммунистически-религиозной тотальности приходит иудаистская и/или сионистская; прежняя утопия оборачивается дистопией, уступая место другому утопическому проекту226226
Показательно, что в литературе исхода часто подчеркивается как раз эфемерная, нереальная, литературно-утопическая природа советской системы. Так, в «Лестнице Иакова» Эммануил Кардин размышляет о своей прежней завороженности ее литературными симулякрами: «Идиотская в юности любовь к этим тусклым, тоскливо-мертвым книгам. К „Что делать“ Чернышевского. К „Городу Солнца“ Кампанеллы» [Баух 2011: 42]. Устойчивый мотив сна и сновидений символизирует в романе призрачность советской жизни, вообще жизни, предшествовавшей иудаистскому просветлению.
[Закрыть]. Их общие черты – хилиастические надежды на скорое коллективное избавление и телесно-физическая (напоминающая о сектах, см.: [Эткинд 1998]) концепция будущего: и революция, и сионизм стремятся к полному преобразованию действительности через реорганизацию пространства и обновление человека.
Юлиане Фюрст отмечает, что альтернативные интеллектуальные искания позднесоветского времени, в том числе новая еврейская духовность, во многом продолжали вдохновляться идеалами, привитыми социалистическим воспитанием:
Их [советских отказников] идентичность определяли две путеводные звезды. За звездой Давида, воплощавшей желание эмигрировать в Святую землю, отчетливо угадывалась красная звезда социализма – символ как более совершенного общества, так и реальной советской жизни [Fürst 2012: 139]227227
Парадоксальное слияние дискурсов Израиля и иудаизма с коммунистической социализацией отмечает в 1960‐е годы Эли Визель: «Комсомольцы, идущие в синагогу на Кол нидрей. Вчерашние школьники, воспитанные в духе марксистско-ленинской идеологии, которые как будто возвращаются к иудаизму, не зная, что это такое» [Wiesel 1966: 99].
[Закрыть].
Общий кризис веры, вызванный постепенным упадком коммунистических ценностей, контрастом между коллективными мечтами и действительностью, а также опытом государственного антисемитизма, породил тоску по новой смыслообразующей идее, альтернативной утопии – «кризис, преодолимый только через (пере)открытие „истины“» [Ibid: 143]228228
В частности, Фюрст размышляет о поиске альтернативных утопий в позднесоветском неоленинизме, христианстве и других формах коллективной веры [см. Fürst 2012: 144–152, 161–162].
[Закрыть].
Наконец, еврейское (литературное) диссидентство заимствует советские практики сакрализации топографий: топосы Израиля и Иерусалима наделяются той же ауратической силой, какой в раннесоветский период обладала столица мирового коммунизма Москва229229
Анализируя советскую топографию 1930‐х годов, Владимир Паперный описывает «процесс вертикализации, то есть перемещения границ из социального пространства в географическое» [Паперный 1996: 107]. В рамках типологии Паперного выделение Москвы как «центра Космоса» и все большая иерархизация городов выступают отличительными признаками сталинской Культуры Два [Там же: 107–115].
[Закрыть]: «В 20‐е и 30‐е годы века Москва стала плоскостью проекции необычайной силы: что бы ни происходило в новой Мекке, все преображалось, превращалось в часть ее завораживающей силы» [Рыклин 2009: 32]. Паломничества западных интеллектуалов в Москву после Октябрьской революции породили, как выразился Жак Деррида в «Moscou aller-retour», целый жанр «возвращения из СССР» (см.: [Рыклин 2009: 37]). Москва стала трансрациональным местом духовных метаморфоз [Там же: 38], а Клара Цеткин назвала Советский Союз Святой землей [Там же: 40]230230
Дина Хапаева реконструирует концепцию социалистической столицы 1930–1940‐х годов как «урбанистической утопии», в которой архитектоническое совершенство оказывается тесно связанным с телеологией террора («[the] intimate link between Moscow’s architectural beauty and political terror») [Khapaeva 2012: 174].
[Закрыть]. Автобиографические и литературные фантазии об Израиле в среде новых евреев пронизаны идеей возвращения к себе, эсхатологии места, мессианства и осуществленной утопии [Там же: 44–45] – всем тем, что восхищенные туристы когда-то связывали со столицей. Москва же, которая в послереволюционные годы непреодолимо влекла евреев (ср.: [Freitag 2004: 76])231231
О миграции советских евреев в Москву в 1917–1932 годах и влиянии урбанизации на процессы ассимиляции см.: [Freitag 2004].
[Закрыть], мутирует для уже полностью ассимилированных и урбанизированных позднесоветских еврейских интеллектуалов в топос нового рабства и навязанной народу Израиля утраты памяти.
В отличие от раннего советского коммунизма, новое еврейство могло, однако, напрямую пользоваться библейскими источниками и прообразами, активно задействуя их символику в литературе и искусстве. Обращение к прототекстам нередко представляло собой не что иное, как возвращение в первоначальный контекст тех иудаистских символов и аллюзий, к которым прибегал язык советской эсхатологии. В своем исследовании религиозных корней большевизма Михаил Вайскопф анализирует топографически насыщенную риторику Ленина: так, вождь революции с явной отсылкой к Иисусу Навину возвещал скорое вступление рабочего класса в «социалистический Ханаан» [Вайскопф 2001a: 135]; сюда же относится распространенная среди еврейских социалистов и популяризированная Демьяном Бедным метафора «марксистского Моисея» [Там же: 150–151]. Симптоматично, что большевистская риторика с ее плотной и конфессионально непоследовательной интертекстуальностью (Вайскопф говорит об «аллюзивной системе» [Там же: 136]) противопоставляет ложную меньшевистскую «ветхозаветную» верность «мертвой букве» революции собственному горению ее духом. Так новая большевистская религия воспроизводит старый христианский упрек в фарисействе, бросая его оппозиции [Там же: 136–137], которая мыслится (пусть и сперва только аллегорически!) как иудейство, на смену которому пришел «новозаветный» большевизм. Поэтому контрреформация еврейских интеллектуалов, отказников и нонконформистов, которая последует десятилетия спустя, обладала несомненной исторической логикой и действовала внутри системы, или на своем поле. Если вспомнить уже не раз исследовавшиеся эсхатологически-мессианские ожидания, которые русско-еврейская интеллигенция связывала с революцией232232
См. рассуждения Эфраима Зихера об иудаистски-апокалиптических аллюзиях в прозе Исаака Бабеля, в которых закодированы чаяния еврейских интеллектуалов периода революционных потрясений: [Sicher 2012: 85–106, 141–144].
[Закрыть], и одновременно более поздний государственный антисемитизм233233
Однако Вайскопф уже в раннем большевизме прослеживает явные отсылки к христианско-мессианским антисемитским традициям, прежде всего к трудам апостола Павла [Вайскопф 2001a: 136–137, 154]. Антииудаистский «подтекст» реконструируется прежде всего на материале полемики большевиков с еврейской социалистической организацией Бунд (глава «Борьба с еврейской обособленностью» [Там же: 138–143]).
[Закрыть], то еврейское духовное диссидентство приобретает характер своеобразного старообрядчества, от имени гонимого меньшинства мстящего за грех искажения источников.
При исследовании близкой и отдаленной генеалогии романов исхода нельзя забывать и об их еврейских литературных истоках. В первую очередь речь идет о русской сионистской прозе 1920–1930‐х годов, родившейся из движения халуцим. Роман Марка Эгарта «Опаленная земля» (1933–1934), который в своей первой, еще не прошедшей самоцензуру редакции рисует как пламенные сионистские идеалы, так и их полный крах, – это литературная «утопия аграрного, почвенного, биологического воскрешения нации» [Вайскопф 2004: 149]234234
Вайскопф также упоминает роман Абрама Высоцкого «Тель-Авив» (1933).
[Закрыть]. Пафос возделывания собственной земли в Палестине и, соответственно, идея натурализации еврейского пространства важнее всего, пожалуй, для романа Давида Маркиша, в котором показано топографическое рождение новой еврейской личности235235
Ср. пассаж о герое романа Эгарта: «Ближайшая цель героя – преобразиться в сионистского Нового Адама, пересоздав себя из хамры, красной глины Страны Израиля, взамен гнилой глины галута. […] Биологическая утопия напористо противопоставляется затхлым галутным ценностям старого еврейства» [Вайскопф 2004: 149].
[Закрыть].
Видения национальной, почвенной автаркии окрыляли уже раннесоветских еврейских писателей, однако проецировались эти мечты не на Палестину, а на Крым, Биробиджан, Сибирь и Дальний Восток. Некоторые примеры тому – очерки «Дороги. По еврейским колхозам Крыма» (1931) Семена Бытового и «Евреи на земле» (1929) Виктора Финка, и роман Матвея Ройзмана «Эти господа» (1932). В этих характерных текстах уже содержатся те топографические матрицы, благодаря котором сионисты 1970–1980‐х годов впоследствии смогут разработать собственные литературно-дискурсивные контрпроекты236236
В межвоенной Польше такие авторы, как Бернард Циммерман, Рубин Фельдшух, Хенрик Адлер или Якуб Аппеншляк, тоже создали ряд сионистских романов воспитания, в которых изобразили духовную переориентацию еврейской интеллигенции, осознание ею национальных ценностей в эпоху великой утраты иллюзий. Ср.: [Prokop-Janiec 2008: 278–280].
[Закрыть].
ВЕКТОРЫ НОНКОНФОРМИСТСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нонконформистская литература времен «еврейского национального возрождения» не ограничивалась прозой исхода. Тексты, которые я собираюсь рассмотреть в этой главе, – «Последний нонешний денечек» (1975) Юлии Шмуклер, «Похороны Мойше Дорфера» Якова Цигельмана, «Карусель» (1979) Юза Алешковского, «Врата исхода нашего» (1980) Феликса Канделя, «Картины и голоса» (1986) Семена Липкина и «Шереметьево» (1988) Григория Вольдмана, – демонстрируют разные поэтики, а именно – документ, публицистику, очерковый лиризм, параболу и реализм, а порой и сплавляют их. При этом особенность большинства из них состоит в том, что, будучи написанными с точки зрения акторов алии или инакомыслящих евреев, они моделируют еврейство прежде всего как искусственно созданный антисемитской властью политикум. Этническая история, культурные тропы, иудаизм и судьба диаспоры не играют в них особенной роли. Эта еврейская литература коренится более всего в традиции русского протестного письма, интеллектуальной критики государства и гуманистического несогласия с властью со времен Радищева и Чаадаева237237
Феномен такого еврейства тематизирован в романе Давида Маркиша «Пес» (1984). Главный герой Вадим – русский писатель, для которого собственное (почти никак не ощущаемое) еврейство – это всего лишь один из этапов поиска идентичности, одна из нескольких идеологических ниш, которые могли бы придать смысл его эмиграции, однако герой так и не находит этого смысла. Единственную более или менее стабильную идентичность Вадим видит в своей былой принадлежности к диссидентскому московскому меньшинству, о которой вспоминает с ностальгией. Об этом романе см.: [Nakhimovsky 1992: 200–207].
[Закрыть]. Тем не менее некоторые тексты (Канделя, Цигельмана, Липкина), не возводя метафизического здания искупления и пророчества, черпают свою метафорику и из еврейских культурных контекстов.
С художественной точки зрения очень неравноценная, эта проза не в последнюю очередь является перформативным свидетельством литературной русификации евреев. Без нее картина еврейского художественного диссидентства была бы неполной.
Юз Алешковский: «Карусель»«Декультурированная», по большей части политико-гуманистическая близость к еврейству характерна для Юза Алешковского, писателя и сценариста, самиздатского сатирика, лагерника и интеллектуала, прославившегося своими еретическими авторскими песнями и гротескной, обличительной прозой.
В повести «Карусель» еврейская эмиграция становится предметом размышлений колоритного сказового повествователя и одновременно главного героя. Как жертва режима Давид Александрович Ланге – советский гражданин и лишь в свете государственного антисемитизма – еврей, который себя таковым, впрочем, не ощущает. Свою этническую принадлежность Ланге определяет в духе социалистического интернационализма и солидарности перед лицом единой исторической судьбы и страданий советского народа:
Но если бы я был писателем, то я бы написал такое, что у вас фары (глаза) полезли бы на лоб, столько я всего пережил с 1917 года и в голодуху, и в чистки, и в энтузиазм 30‐х годов, и в ежовщину, и на фронте, и в тылу, когда взяли врачей, дорогие вы мои. Только не думайте, что все это пережил я один. Миллионы пережили. И пусть у вас не будет мнения о пережитом исключительно одними нами евреями. Если бы, повторяю, я был писателем, я безусловно сочинил бы всего лишь одну толщенную книгу и назвал ее не иначе, как «Всеобщие страдания и переживания народов СССР» [Алешковский 1983: 7].
У Ланге впитанная коммунистическая доктрина соединяется с духовным наследием русской интеллигенции. Причем авторская позиция колеблется в повести между юмористической солидаризацией с симпатичным старым рабочим, чей мир передается при помощи грубоватого, меткого, то и дело ненормативного языка, клеймящего систему, и иронией наблюдателя. Как часто бывает у Алешковского, из этого вытекает частичное совпадение обеих точек зрения.
Давид Ланге – заслуженный фабричный рабочий в провинциальном городке, ветеран войны и порядочный человек, не питающий иллюзий о гуманности системы и правдивости ее пропагандистских лозунгов. Отправной точкой сюжета становится нерадостное семейное событие: сын Давида Вова вместе с семьей подает документы на выезд в Израиль и пытается убедить отца подписать родительское разрешение, даже если тот и не хочет уехать вместе с ними. Несмотря на то что Давид, понимающий, какие преследования повлечет за собой подобный шаг, не готов сделать его накануне своего выхода на пенсию, он как отец антисоветчика и сиониста начинает подвергаться все более ожесточенным нападкам партийной организации фабрики и КГБ. Текст, состоящий из писем Давида к родственникам, которые живут в США, представляет собой смесь внутреннего монолога, эмоционального пересказа событий и воспоминаний, позволяющих заглянуть в советское прошлое глазами «маленького человека».
Задающая сюжетную рамку отсылка к движению еврейской эмиграции служит поводом для развернутой инвективы в адрес СССР: сталинской бесчеловечной политики в годы войны, репрессий против бежавших из немецкого плена солдат, вторжения в Чехословакию, геноцида собственного народа, экономических преступлений, коррупции и лживости партийных функционеров. Оказавшийся в отчаянном положении Ланге пересматривает советскую историю, а между тем рассказывает и о том, как он подвергся новым пыткам: в ходе антисионистской кампании его допрашивают, обыскивают, запугивают, а в конце концов избивают и помещают в психиатрическую больницу. Его решение уехать из страны выглядит естественным следствием гонений и осознания, что евреи – это единственный народ, который не имеет права на независимость.
Чувства «родства» с далекой страной на Ближнем Востоке у Давида не возникает: новое еврейство Вовы, которое выражается в страстном желании жить на земле «пращуров», оставляет Давида вполне равнодушным, тогда как его блестящее, длиной в страницу, обличение советской власти трогает отца до слез:
Я согласен был со всем сказанным Вовой, хотя при упоминании о земле пращуров ничто не шевельнулось в моей душе, для которой самым любимым местом на земном шаре всегда была опушка старого леса на берегу Оки [Там же: 17].
Правда, на протяжении романа тон высказываний Давида об Израиле несколько меняется, но последнее его слово, обращенное к соотечественникам-сионистам, – просьба не судить строго тех еврейских эмигрантов, которые едут не в Палестину. Личная свобода – это высшая ценность, а всякое ее ограничение, будь то во имя коммунизма или сионизма, – насилие.
Давид неоднократно называет себя плохим евреем, потому что не готов предоставить свою личную судьбу в качестве материала для обобщений об участи всей еврейской диаспоры. (Это биография Вовы подходит для символического истолкования советского исхода.) Отказ же от идеологии неизбежно приводит к отмежеванию от основных принципов движения за алию: «…я считаю все же, что в этом вопросе не должно быть никакого руководства, граничащего с насилием над судьбой каждого еврея» [Там же: 248].
Поскольку свои письма герой-рассказчик Давид Ланге пишет уже из Вены, его размышления невольно ассоциируются с воззрениями самого автора, который тоже работал над «Каруселью» в Вене, затем в Париже и, наконец, в американском городе Мидлтаун, ставшем для писателя новой родиной. Недолгое время прожив в Австрии, в 1979 году Алешковский перебрался в Соединенные Штаты.
Григорий Вольдман: «Шереметьево»Действие романа Григория Вольдмана «Шереметьево» происходит в течение двух недель в октябре 1972 года, а в финале главные герои улетают в эмиграцию из знаменитого советского аэропорта. Этот роман-документ детально воспроизводит дискуссии московских отказников о еврейском вопросе на фоне алии: они ведутся в основном на квартирах еврейской и нееврейской интеллигенции и группируются вокруг главного героя Анатолия Левина.
Когда в начале молодой еврейский активист начинает собирать подписи за права крымских татар и арестованных матерей, становится очевидной идеологическая пестрота позднесоветского андеграунда. Вот как описывается эта альтернативная интеллектуальная среда, в которую Левин погрузился за полгода до этого, когда ему отказали в визе:
[Левин] начал жить в мире вечерних встреч то в одной, то в другой квартире, в мире телефонных разговоров с Западом, в мире протестов, прошений, петиций и демонстраций, в странно-призрачном мире, который именовался «отказом» и существовал, подобно антимиру, в одном времени и пространстве с обычной советской повседневностью [Вольдман 1988: 48].
«Шереметьево», сближающееся, пожалуй, более всего с бытописательским романом Давида Шраера-Петрова «Герберт и Нэлли», колеблется между реалистической, психологически окрашенной фабулой, которой внутренняя перспектива придает особую достоверность, и эссеистикой, транслирующей идеологическую позицию автора. Типизированные биографии героев важны так же, как и цитируемые (вымышленные?) документы эпохи – петиции, статьи и открытые письма238238
Это, в частности, статья «Антисемитизм – как политика», напечатанная в тель-авивской русскоязычной газете, или принадлежащие перу героя «Размышления Левина о двуликих Янусах» в нескольких частях. Эти сочинения сводят счеты с разжигаемой в обществе юдофобией и советскими стереотипами о евреях, исследуя историю еврейского вопроса, например, участие евреев в Октябрьской революции, требования ассимиляции и лицемерие биробиджанского проекта. Левинские «Размышления» – беспощадный анализ коммунистической доктрины и советской действительности вообще. Здесь нарративная сюжетная рамка играет чисто декоративную роль, служа элементарным способом создания иллюзии и едва ли заслоняя журналистские намерения автора.
[Закрыть] – или анализ текущих событий в беседах и монологах.
Показательна биография поэта Эмиля Вассермана, чей отец был убит в ходе чисток 1930‐х годов. Эмиль, испытывающий по отношению к режиму «холодную ярость» [Там же: 58], преподает иврит, который изучил в совершенстве, и переправляет на Запад письма протеста и информацию о репрессиях. Получив отказ в визе, он теряет работу, пытается добиться разрешения на брак с американско-еврейской активисткой Джудит, с которой у него начался роман, и подвергается за это преследованиям: после четырехчасового ночного обыска и конфискации книг он получает повестку в армию – испытанное средство задержать или предотвратить отъезд. Два месяца Эмиль скрывается на даче, затем его арестовывают и, допросив в уединенном месте, передают в руки советского правосудия. Судебный процесс – одна из центральных сцен романа.
Другой борец за алию – пожилой Израиль Абрамович Цунц, выдающийся знаток иврита, прошедший через лагеря, в прошлом один из организаторов еврейских колхозов в Крыму. В молодости Цунц объездил Палестину, где у него осталась семья. Другие персонажи-отказники выделяются необычной внешностью, прозвищами вроде «Лже-Герцль» или фамилиями Нафтали и Бальфур: признаки яркой индивидуальности избранных участников среды, ее своего рода ономастико-политические маркеры.
Действительно, свойства среды определяют исключительность повествовательного «этнографического» материала и не в последнюю очередь обаяние альтернативного образа жизни в условиях диктатуры, вершиной которого станет эмиграция. Это бескомпромиссная позиция инакомыслия и правозащитничества, придающая персонажам героические черты; это доступ к запрещенной или труднодоступной хорошей литературе, заполняющей домашние библиотеки диссидентов; общая оригинальность жизни в андеграунде, отличающая персонажей от серой массы советских граждан; наконец, солидарность интеллектуального свободомыслящего меньшинства. Ритуально-символическая окраска изображаемых московских топосов и связанных с ними действий239239
У повседневности появляется здесь мифологическое измерение, но лишь в том расширенном смысле, о котором писал Ролан Барт, см.: [Барт 2007].
[Закрыть] придает этому существованию – с учетом подразумеваемой судьбоносности исторического момента – идеализированные моральные качества. Так, фасад печально известного ОВИРа в народе называют «Стеной Плача» («…сюда приходили с надеждой в глазах и молитвой в душе, а вместо записок с личными просьбами приносили заполненные анкеты» [Там же: 81]); улица Архипова, на которой расположена хоральная синагога, служит местом встречи единомышленников и празднования главных еврейских праздников, иными словами, оазисом свободы и топосом сопротивления:
Улица Архипова известна в Москве не менее, чем Красная площадь или МГУ. Место массового паломничества. Предмет постоянных забот милиции, дружинников и ГБ […] Толпа […] довольствовалась зданием синагоги как символом [Там же: 272].
Сцена, в которой Цунц и Вассерман, стоя перед синагогой, на глазах у сотрудников КГБ громко беседуют на изысканном иврите (их беседа передана в оригинале, но кириллицей), – лишь один из примеров театральной видимости нонконформизма, когда политическая конфронтация приобретает черты напряженного поединка добра и зла.
Сомнения относительно роли еврейской национальной составляющей в движении за алию, высказываемые разными героями романа – «Вы смелые парни, демократы, […] но вы не евреи» [Там же: 217], – преобладают в дебатах об идентичности, отражая культурное самосознание и самого Анатолия Левина. Уже в самом начале Левин формулирует свое кредо: он присоединяется к еврейскому движению потому, что мечта активистов об отъезде из России кажется ему более реалистичной, чем диссидентские утопические планы построения социализма «с человеческим лицом». Он не готов разделить дух и, соответственно, участь русской демократической интеллигенции, этой наследницы Николая Чернышевского, и тем самым продолжить череду общественных утопических проектов в России. На это его оппонент трезво возражает, что большинство так называемых сионистов, не имея самостоятельной идеологии, рассматривают отъезд исключительно как способ протеста против угнетения.
В конце романа, незадолго до отбытия, Левин предается мечтам о Вене, Венеции и о том, как объедет весь мир вместе с возлюбленной, но вовсе не о Земле обетованной. Такая космополитическая позиция созвучна общей романной концепции алии, которая миметически, документально отображает мир, не творя иудаистских тропов. Так, если одни авторы тяготеют к претворению политического в знаковое и притчевое, к предельной символизации и трансцендированию еврейской истории, то другие отдают предпочтение означаемому – и литературному журнализму.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.