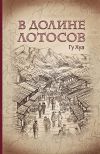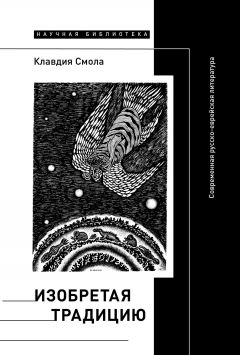
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
В тогдашнем презрении к своему еврейскому зейде, дедушке (презрении, о котором он теперь горько сожалеет), герой Карабчиевского также воспроизводит навязанные ему самому стереотипы о евреях: дед нечистоплотен, упрям, его взгляды кажутся иррациональными и всегда идут вразрез с общепринятыми, а его дореволюционные ценности непонятны и культурно чужды. В своих спорах с дедом, которые он, внук, едва ли воспринимает всерьез, Александр занимает снисходительную позицию просвещенного человека с с(о)ветским образованием, однако ему ни разу не удается отстоять свои современные взгляды. Так, когда первый искусственный спутник достигает орбиты и люди не находят в космосе бога, он торжествует, полагая, что теперь сможет доказать деду основы атеизма, однако дед, ученый талмудист, искренне изумляется столь примитивной аргументации. Как «отсталое» мировоззрение зейде, так и его смачный, русско-украинско-идишский, совершенно непереводимый говор являют для юного Зильбера признаки отталкивающей контаминации – взрослого же рассказчика воспоминания о них наполняют раскаянием и печалью387387
Для Михаила Крутикова [Krutikov 2003], который исходит не столько из значимой аналептической композиции романа, сколько из реализма письма Карабчиевского, главным является тезис, что фигура деда остается для протагониста периферийной и не влияет на его самоидентификацию: Александр Зильбер, по Крутикову, – космополитически мыслящий русский интеллектуал.
[Закрыть]. Предвосхищая мелиховского Льва Каценеленбогена с его исповедью, сегодняшний Зильбер признает роковую утрату культуры и собственную вину: «…тут же, рядом со мной, жил этот замечательный человек и […] надо было только сидеть и слушать, и глотать, и впитывать, и запоминать…» [Там же: 105].
Имеющий богатую традицию образ нервного, невротичного или истеричного388388
Клаус Хёдль описывает архетипического европейского еврея как «нервного антигероя» [Hödl 1997: 167]; в (псевдо)научном дискурсе позапрошлого рубежа веков считалось, что евреи склонны к «женской болезни» истерии, а также к неврастении ([Ibid: 202–205], см. главу «Еврей-истерик»). См. также статью Моше Циммермана «Мускульные евреи versus нервные евреи» («Muscle Jews versus Nervous Jews») [Zimmermann 2006].
[Закрыть] еврея-интеллектуала, насмешливо смотрящего на самого себя со стороны – этот психоаналитически заряженный тип надломленного Другого, – до Александра Мелихова блестяще анализирует не только Карабчиевский, но и Феликс Розинер с его Аароном Хаимом Финкельмайером. Показательна саркастическая характеристика Финкельмайера – поэта, интеллектуала и отчаявшегося самокритика, характеристика, данная им самому себе: «истерия, неврастенический тип, комическая внешность, […] слюнявый идиот» [Розинер 1990: 14 f.].
Еврейский обличительный нарратив, характерный для прозы Карабчиевского и Мелихова, отзывается и в более позднем автобиографическом эссе Михаила Берга «The Bad еврей» (2010). Однако во взгляде Берга – бескомпромиссного диссидента, полностью утратившего свои еврейские корни (антисоветский вариант «нового», израильского еврея, но без малейшего намека на сионистские устремления), – доминирует отнюдь не невротическое расщепление «я» и не скорбь по культурной утрате (себя). Отнести Берга к ряду обсуждаемых здесь авторов позволяет скорее топос/сказ саркастического самоанализа еврея («the jew» в терминологии Ливака [Livak 2010]) как парадоксального социального конструкта: русский интеллигент в очках с «типично еврейской» внешностью. В своей инвективе против разных форм национализма или колониализма, включая оных еврейской диаспоры и Израиля, Берг больше наследует антиидеологическому письму другого еврейского борца советского андеграунда – Эфраима Севелы.
Олег Юрьев (1959–2018), поэт, прозаик, драматург и эссеист, эмигрировал в Германию в 1991 году. В 1980‐е годы неподцензурный поэт круга Елены Шварц и Виктора Кривулина, он публиковал стихи в самиздатских журналах «Часы» и «Сумерки»; с начала 1990‐х издал три романа: «Полуостров Жидятин» (2000) – первая часть трилогии, куда еще вошли «Новый Голем, или Война стариков и детей» (2004) и «Винета» (2007)389389
О «Винете» см.: [Finkelstein/Weller 2012].
[Закрыть].
«Полуостров Жидятин» – один из самых ярких примеров постимпериального художественного анализа советской «цивилизации», запечатленной в переломный исторический момент, вскоре после назначения Михаила Горбачева в марте 1985 года на пост генерельного секретаря ЦК КПСС. Ретроспективно в романе изображен период постепенного отмирания советской эпохи с точки зрения еврейского подростка. Роман состоит из двух частей с одним или, возможно, двумя юными протагонистами, обитающими в разных, зеркально отраженных друг в друге жизненных мирах – и несовместимых стилистических контекстах. Книгу-перевертыш можно читать, начиная с любой из двух историй. Мальчик живет в пакгаузе на территории «погранзоны» под названием «полуостров Жидятин»390390
С одной стороны, это название происходит от пренебрежительного русского «жид», с другой – от того же слова, служившего нейтральным обозначением евреев в древнерусском языке (и остающегося таковым в других славянских языках). Таким образом, в гибридном тексте Юрьева архаическое сливается с дискурсом антисемитизма настоящего, образуя многослойную систему двойственных, «мерцающих» знаков.
[Закрыть], расположенной неподалеку от финской границы и Ленинграда/Петербурга, на Финском заливе. Пограничье представляет центральный топос текста и пронизывает все уровни повествования: географический, исторический, религиозный и культурный. Пограничное состояние характерно для самого героя (или обоих героев), пространственно-временной структуры и связи между исторической действительностью и еврейством.
Мальчикам вот-вот исполнится по тринадцать лет – возраст еврейского совершеннолетия, Бар-мицвы. Лежа в постели с температурой накануне Пасхи391391
Христианская Пасха совпадает с еврейским праздником Песах, который для верующих Жидят составляет главное событие года, напоминая об исходе евреев из Египта – этой хронологической цезуре, отзывающейся во времени действия романа – кануне перестройки.
[Закрыть], они рассказывают, что мальчик-сосед из другой половины дома, если верить слухам, пропал несколько дней назад: так начинается игра зазеркалья392392
Две части романа напечатаны в книге зеркально друг другу, так что читатель, чтобы перейти к следующей части, должен перевернуть книгу, – авторефлексивная игра, удваивающая и переворачивающая текст не только поэтически и структурно, но и иконически. Эта игра отражена в названии одной из глав части о Жидятах – «Две скрыжали, на которых написано было с обеих сторон» [Юрьев 2000: 54].
[Закрыть] и двойничества. Первый – ребенок из русско-еврейской ленинградской семьи Язычник, другой – из криптоевреев по фамилии Жидята, веками тайно исповедующих свою веру393393
О принадлежности (с моей точки зрения, совсем не очевидной) Жидят к так называемой «ереси жидовствующих» – возникшим в XV веке в Новгороде и Москве религиозным сектам, которые откололись от русского православия и отчасти проповедовали иудаизм, – пишут, в частности, Лев Айзенштат [Айзенштат 2001], Валерий Шубинский [Шубинский 2008] и Мириам Финкельштейн [Finkelstein 2015].
[Закрыть]. По ходу рассказываемых историй метонимия соседства обнаруживает сеть аналогий, служащую «трамплином» для отражения жизни евреев в России с двух, на первый взгляд, несовместимых точек зрения и «читаемой» – подобно самой этой книге – с начала или с конца. Обе части романа и дома, равно как и обе семьи, соединяются в единый троп русского еврейства, более того, еврейства вообще. Еврейство же, в свою очередь, явленное в паутине бесчисленных (интер)текстуальных соответствий – выступает как троп русской жизни и очередного исторического перелома394394
Мириам Финкельштейн трактует этот постепенно разрушающийся дом как аллегорию Советского Союза: «Начинающееся разрушение здания метафорически указывает на будущий распад Советского Союза» [Finkelstein 2015: 239].
[Закрыть].
Окказионализмы, всплывающие в потоке сознания подростка-рассказчика из семьи Язычник, говорят языком причудливого, но узнаваемого культурного синкретизма: сказовым языком подростка с отчасти советской, а отчасти еврейской социализацией. В его картине мира все еще сохраняется то культурное «как…, так и…», которое почти полностью утратил рассказчик в романе Александра Мелихова «Исповедь еврея». Так, названия реалий и сами понятия из советской действительности маркируют сигнификативное пространство уходящего социалистического мира: мимоходом упоминаются «миноносец „Тридцатилетие Победы“» [Юрьев 2000: 8]; «газета „Красная звезда“» [Там же: 10]; «объединение „Красный Пекарь“» [Там же: 18]; «ларек „Культтовары. Продукты. Керосин“» [Там же: 21]; «газета „Пионерская правда“» [Там же: 23] и т. д. Это культурное пространство очерчивает границы естественного жизненного мира мальчика, в котором все эти лексемы не несут особой идеологической нагрузки, так как давно перешли в обиходный язык, но за пределами внутреннего сознания пародируются растворившимся в сказовой реальности автором: когда, например, дядя героя Яков Перманент переименовывает «Красного Пекаря» в непристойную парономазию «Пресный какарь» [Там же: 20].
Остатки двуязычия русских евреев предстают в конгломерате русско-идишских фраз и словечек, по большей части цитат из экспрессивной, артистичной, жестикулирующей речи родных и двоюродных бабушек: «Дрек мит фефер они умеют делать, а не гешефты! (здесь и далее курсив в оригинале. – К. С.)» [Там же: 18]; «Ты ему да, он тебе нет, ты ему черное, он тебе белое, все аф цулохес, настоящий цулохешник, до ста двадцати!» [Там же: 58]. Смешение советского и еврейского рождает бурлескные бытописательские гибриды вроде «А ид а шикер эргер ви а гой а стахановец» [Там же: 105]: самоирония еврейского анекдота остроумно соединяется с насмешкой над абсурдным гойским режимом («Еврей-пьяница хуже, чем гой-стахановец»). Кроме того, признаком еще живой среды выступает здесь тот русско-украинско-идишский лингвистический меланж, который с юмором изобразил в «Одесских рассказах» уже Исаак Бабель. Двоюродная бабушка Бася говорит о муже родственницы: «Ли́твак, тю! Те же ли́тваки, у них же ж поhоловно нито кин сейхл. Двум поросям похлебку не разнесут! Тю!» [Там же: 21]. Уничижительное «литвак» (еврей из Литвы или западных земель, в прошлом «просвещенных миснагдов» – в противоположность хасидам) – маркер внутренних различий, отмежевания от «своих» чужаков и идентичности, существующей в позднесоветской Восточной Европе уже только в языке. В гибридном, изобилующем оксюморонами и полузабытыми идиомами речетворчестве еврейских бабушек современность остраняется и ресемантизируется.
Приведенный в конце текста словарь еврейских слов и выражений, однако, говорит о необходимости культурологического комментария, отображая фактический закат этой еврейской цивилизации. Кругозор мальчика черпает свою образность из нескольких источников: советской школы, семьи с ее историей и общими для всей еврейской диаспоры Восточной Европы мифами, беспорядочного подросткового чтения и – не в последнюю очередь – антисемитских высказываний ближайшего окружения. Этот кругозор395395
Мириам Финкельштейн и Нина Веллер определяют место действия другого романа Юрьева, «Винета» (название судна), как «„эпистемологическое пространство“ – корабль памяти и воспоминания» [Finkelstein/Weller 2012: 193]. Пакгауз, в котором предаются своим мыслям и воспоминаниям оба мальчика в «Полуострове Жидятине», – это тоже эпистемологическое пространство, а сам текст – культурный архив («пакгауз» культурной памяти) того, что еще уцелело, – советско-еврейского микрокосма. Как было показано ранее, в постмемориальной и «постисторической» литературе пространственные метафоры памяти – одно из основных средств семантизации внутренних процессов.
[Закрыть] демонстрирует причудливое включение разных атрибутов, причем их соединение и порой путаница производят комический эффект:
Бабушка Циля считает, что у них там, в офицерской бане, происходит полнейший Содом и Гоморра, пьяное безобразие и моральное разложение, сплошной упадок Римской Империи [Там же: 59].
Синтез советско-еврейского воспитания396396
Ср.: «В его [Язычника] представлении советское пространство формируется квазиеврейскими реалиями вроде газеты Советиш Геймланд, мифами и советским бытом» [Terpitz 2008: 265].
[Закрыть], а также культурная гибридность самих советских обычаев проявляются в естественной синхронности ритуалов: рассказчик отмечает 7 ноября и 9 мая у родственницы, врача и «большевички», которая подает к столу традиционные еврейские блюда. В бывшей ленинградской коммуналке жильцы обмениваются на Пасху/Песах крашеными яйцами и мацой. Современность предстает здесь культурным палимпсестом, сквозь поверхность которого все явственнее просвечивают слои (полу)табуированного прошлого, обнажая вместе с тем разложение советской монокультуры незадолго до ее коллапса. В школе висит деревянный трехстворчатый складень, своего рода триптих, с портретами членов Политбюро ЦК КПСС: артефакт, отсылающий к дореволюционным иконостасам. О том, что подобные складни до сих пор изготовляются по образцу походных иконостасов, детям «строго секретно» (!) рассказывает замполит. Прорастающая многослойность идеологической реальности обнаруживает прежде скрытые, «колонизованные» и присвоенные в новом политическом контексте культуры. Картина все более рыхлой идеологии дополняется ироническим снижением советских атрибутов: «Боевое Знамя» части в углу класса сравнивается со шваброй, а в текст популярной советской песни вставляются похабные строчки.
Семейная история младшего Язычника представляет собой собрание риторико-идеологических элементов разного происхождения – обломков дискурсов: советской историографии; внутриеврейского, отклоняющегося от официальной линии семейного предания; хасидских житий и еврейских изкор-бихер. В то время как автор инсценирует и стилизует гибридное, полудетское идеологическое присвоение еврейской истории и одновременно в игровой форме «тестирует» разные возможности ее изложения, читатель сталкивается с пронизывающими ее трагизмом и уязвимостью. Рассказчик сообщает, что после революции все восемь бабушек и дедушка по отцовской линии из «местечка, откуда суеверия» [Там же: 47], перебрались «работать и учиться» [Там же: 48] в крупные города. В это советско-эмансипаторное письмо закрадывается критика культа личности Сталина, когда мы узнаем, что дед – «председатель Комитета еврейской бедноты» [Там же: 47], служивший советской власти, – стал жертвой беззаконных репрессий. Но тут же приводятся слова бабушки Фиры, которая называет дедушку убийцей («в двадцать третьем году приходил нас разъевреивать, а мердэр» [Там же: 48]): это голос того еврейства – и традиции – для которого вся советская ассимиляция была не чем иным, как насильственным захватом. Опять-таки без перехода и паузы мальчик хвастается одним из своих прапрапрадедов, знаменитым «молчащим языченским цадиком», чьи мысли по ночам записывал сам Илья-пророк397397
Этот семейный апокриф содержит пародию на хасидские истории, в которых важнейшую роль играют чудесные деяния и многозначительные изречения легендарных цадиков. Так, молчащий цадик говорит в первый и последний раз в 1905 году, когда его, спасая от погрома, сажают в запряженную старым мерином тележку. Фраза, которую он произносит в этот момент и которую потом будет толковать весь еврейский мир, звучит так: «Тпру-у, приехали» [Юрьев 2000: 48]. После этого он умирает.
[Закрыть].
Между тем само повествование запечатлевает рассказываемую еврейскую историю, так как мальчик уже не говорит ни на иврите, ни на идише, а первый язык кажется ему особенно странным и запутанным. Показательно, однако, что он лелеет мечту написать книгу о своей семье, чтобы увековечить, в частности, память о бабушке Эсе, в 1948‐м или 1949 году убитой ленинградскими антисемитами. Только еврейские имена в книге придется заменить русскими, ведь «про евреев нельзя печатать книжки без особого разрешения ЦК КПСС, иначе могут получиться погромы» [Там же: 66]. В этом бесхитростном пассаже проговаривается замалчиваемая история: «черные годы» советского еврейства конца 1940‐х напрямую связываются с дореволюционными погромами – именно так воспринимали это сами евреи. Мальчик хочет написать своего рода книгу памяти, что-то вроде изкор-бух, в которой антисемитские действия советского режима стояли бы в одном ряду с другими гонениями на евреев, прежде всего с холокостом. Знаменательно его страстное желание отыскать конфискованную в 1923 году и официально осужденную советской властью семейную книгу, в которой его предки изложили свою многовековую историю на еврейском («в эту книгу было все записано, что случилось с моей семьей […] за ближайшие полтысячи лет, или больше» [Там же: 71]), и использовать ее для реализации своего летописного замысла.
Трагикомический обзор еврейской истории, изложенной юным Язычником в романе Юрьева, не обходит и тему эмиграции и алии, причем анекдотические общие места этой темы соединяются с печально-ироническими парадоксами позднесоветской концепции исхода:
Перманент говорит, что лично бы он не смог существовать в этом Израиле, во-первых, потому что там жарко, а он человек европейской культуры, а во-вторых, потому что там все евреи – и милиционеры евреи, и сантехники евреи, и даже премьер-министр еврей. […] Когда Израиль на нас нападет […], неужели в самом деле папа будет стрелять в дядю Якова и в меня, если я к тому времени вырасту и сделаюсь офицером флота? [Там же: 35]
Несовместимость двух исторических концепций и формаций еврейства – диаспоры и Израиля – передается здесь в форме расхожего клише: жара и «ориентальная» культура Ближнего Востока преобразуют алию, т. е. желанное гармоническое слияние сабров с европейскими евреями на территории Израиля, в идеалистический и идеологический конструкт – и в конце концов в анекдот. А военно-политический антагонизм Советского Союза и Израиля превращает бывших соотечественников, друзей и даже родственников во врагов. Разница между рассеянными евреями и израильтянами отражена в анекдоте о двух подвыпивших мужиках, чей разговор рассказчик подслушал в троллейбусе. Вот как один объясняет другому победы Израиля: «Ой, не сечешь, Толян, сонно отозвался второй из-под кепки: То ж не эти евреи, не наши. То – древние!» [Там же: 49]. Высмеивается библейски окрашенное притязание израильской государственной идеологии на преемственность, а заодно и сионистские концепции новых евреев алии398398
Этот вставной анекдот Юрьев, вероятно, позаимствовал из диссидентского романа Василия Аксенова «Ожог» (1969–1975), написанного в годы советской антисионистской травли. Там пьяница в очереди за пивом тоже произносит: «В Израиле не наши евреи воюют, а древние!» [Аксенов 2000: 121].
[Закрыть].
В переходный исторический момент внутренний монолог увязывает воедино элементы не только разных культур, но и разных периодов и эпох, современности и древности, балансируя между трагизмом и пародией. Такая техника гибридного художественного историографизма обусловлена в том числе – как и у Юдсона и Мелихова – авторским подходом к феномену антисемитизма. Суеверия и средневековые обвинения в ритуальных убийствах переплетаются здесь со страшилками о евреях, рассказываемыми в народе «бескультурными людьми, алкоголиками, хулиганами, черносотенцами» [Там же: 27]. Все это соединяется с риторикой клеймения паразитизма советского извода и антисионистской пропаганды 1960–1970‐х годов399399
При этом реальные социокультурные черты советских евреев и их травля составляют трагикомическое единство в эпизоде, в котором мальчик, находясь в пионерлагере, исправляет ошибку в написанном рядом с его именем словом «говно», подтверждая тем самым бóльшую образованность еврейских детей, но также и пресловутую еврейскую склонность к сомнениям и рефлексии: «Теперь я уже сомневаюсь, правильно ли я это сделал, может, русским детям все же лучше знать, как на их родном языке пишется „говно“?» [Юрьев 2000: 80].
[Закрыть]. Спрессованная до размера нескольких абзацев диахрония ксенофобий разных времен обретает в преддверии краха империи апокалиптические черты: юдофобия перестает рядиться в риторику рационального и становится живой архаикой формы. Так, исчезновение советского школьника вызывает слухи, будто евреи используют кровь русских детей для приготовления мацы400400
О мифе о еврейских ритуальных убийствах в славянских культурах см.: [Белова/Петрухин 2008: 205–258]; об антииудаизме и его жанрах в дореволюционной России см.: [Livak 2010: 16–21]. Товарищи Язычника также рассказывают страшные истории о цыганах, которые якобы заманивают к себе маленьких детей и делают из их мяса начинку для пирожков [Юрьев 2000: 75]. Детский фольклор выступает трагикомически точным отражением фантазий взрослых.
[Закрыть].
Действие происходит за день до Песаха. Характерно, что Язычник не понимает этих слухов, так как сам он уже понятия не имеет, что такое маца [Там же: 81–82]. Остается открытым вопрос о том, правдоподобны ли в позднесоветское время обвинения в ритуальном убийстве, – в тексте, который на миметическом уровне сопротивляется правдоподобию. Период между смертью Черненко и назначением Горбачева на должность генсека – междуцарствие – оживляет старые еврейские страхи, напоминающие о смене власти в российской истории, ключевые слова-тропы «Дрейфус», «Бейлис», «погромы», «мессия» связывают историю преследования с ожиданием конца света в еврейских сектах прошлого.
Поток сознания мальчика обрывается, но за ним следует приложение – научный комментарий профессора из Финляндии, Якова Николаевича Гольдштейна. Этот фактический автокомментарий Юрьева представляет собой полупародийный анализ только что законченного текста. При этом игра с литературоведческим дискурсом никак не противоречит содержащейся в этом отрывке метарефлексии о романе. Скорее, они продлевают постмодернистскую поэтику романа «Полуостров Жидятин» за его пределами, романа, в котором тесно соседствуют, сливаются и постояннно релятивируют друг друга разные стилистики. Согласно рассуждениям воодушевленного прочитанным профессора, в книге показан момент, когда «приговор» империи «уже подписан» [Там же: 127] и скоро она станет музеефицированным артефактом. То есть этот текст, по Гольдштейну, уже есть историческое сочинение, которое в то же время показывает почти исчезнувшую советско-еврейскую среду изнутри. Это последнее свидетельство о безвозвратно утраченной культуре c «особенностями ее речи» и ее «маленькой мифологией» [Там же: 129]. Анти– и постколониальная позиция писателя Олега Юрьева проявляется не только в утверждении вымышленного комментатора, что в силу далеко зашедшей ассимиляции новые поколения перестают воспроизводить эту культурную среду, но и в горько-ироническом определении советской ассимиляционной политики как «„окончательного решения“ в изводе Карла Маркса» [Там же: 128]. Синкретическая еврейская культура диаспоры отмирает вместе с языком: «…когда заканчивается цивилизация, умирает ее речь» [Там же: 131].
Во второй части романа читатель погружается в мир старой веры тайной еврейской общины. Юный рассказчик принадлежит к семье криптоевреев, якобы ведущих свой род от испанских марранов401401
Библейские генеалогии, возводящие собственный род или род соседей к первым людям или праотцам, укоренены и в мифических историях славянских сельских общин об общем происхождении. Так, некоторые деревенские жители по сей день связывают происхождение своих еврейских соседей с двенадцатью коленами Израилевыми [Белова/Петрухин 2008: 64–76]. Сознание своей генеалогической избранности, симультанность разновременных пластов играют ключевую роль для молодого героя Юрьева.
[Закрыть] и благодаря многовековой мимикрии сохранивших их традиции до наших дней. Архаизированный язык подростка, с сильным древнерусским и церковнославянским налетом402402
Ср. употребляемые им слова «великоденная», «искони», «девки», «кашеварить», «суконце», «шкилет», «поганские», «Ленин-Город» (Ленинград), выражения «об левую руку», «исподнее небо», «заказано накрепко», «русская земля» и т. д. [Юрьев 2000: 7–13]. Современный русский язык мальчик воспринимает как иностранный: «…загорóдная жерда на колесике, по-русски „шлагбаум“» [Там же: 14]. Комизм этого пассажа заключается в том, что немецкое заимствованное слово принимается за русское (т. е. «далекое» чужое идентифицируется как «близкое», более знакомое чужое – одна из многих предпринимаемых юным рассказчиком попыток перевода). Слово «крестьянство» пишется здесь как «христьянство» [Там же: 11]; ср. церковнославянское «хрести нинъ», «хрьсти
нинъ», «хрьсти нинъ» в значении «крестьянин»). Подобным же образом «кресты» пишется как «христы». Устаревшее написание позволяет обнажить религиозную этимологию слов, так что язык предстает зеркалом религиозной картины мира. Эта лексика и архаический синтаксис соответствуют аскетическому убранству квазистарообрядческой избы. Архаический, сакральный образ мира и языка Жидяты подчас заманивает его в семантические ловушки: например, из‐за омонимии со словом «ангельский» (древнерусское обозначение английского) мальчик считает английский языком ангелов и надеется, что школьные уроки английского научат его понимать ангелов [Там же: 93]. Ангелы для него являются частью непосредственной действительности и потому изображаются вполне конкретно [Там же: 17]. Весь этот перформативный языковой анализ демонстрирует блестящее лингвистическое остроумие Юрьева.
нинъ» в значении «крестьянин»). Подобным же образом «кресты» пишется как «христы». Устаревшее написание позволяет обнажить религиозную этимологию слов, так что язык предстает зеркалом религиозной картины мира. Эта лексика и архаический синтаксис соответствуют аскетическому убранству квазистарообрядческой избы. Архаический, сакральный образ мира и языка Жидяты подчас заманивает его в семантические ловушки: например, из‐за омонимии со словом «ангельский» (древнерусское обозначение английского) мальчик считает английский языком ангелов и надеется, что школьные уроки английского научат его понимать ангелов [Там же: 93]. Ангелы для него являются частью непосредственной действительности и потому изображаются вполне конкретно [Там же: 17]. Весь этот перформативный языковой анализ демонстрирует блестящее лингвистическое остроумие Юрьева.
[Закрыть], перекликается с вкрапленными в текст (и иногда иронически остраняемыми) фрагментами древнееврейских молитв, напечатанных древнерусскими буквами в графический унисон с архаизированной поэтикой. Кроме того, древнерусский указывает на вышеупомянутую принадлежность Жидят к «ереси жидовствующих». Современность выступает здесь не более чем декорацией для духовного царства тайных ритуалов403403
Накануне своего еврейского совершеннолетия мальчик должен самостоятельно сделать себе обрезание.
[Закрыть], пророчеств и заговоров, воспоминаний об изгнании и эсхатологических чаяний (как, например, предсказанное в еврейских священных книгах подземное возвращение всех евреев, живых и усопших, в Иерусалим).
Географические экскурсы подростка воспроизводят сакральную топографию: все крупные города, как, например, Хельсинки, зовутся «Ерусалим» [Там же: 12]; библейская топонимика переносится на географические объекты и небесные тела:
А дальше за тем […] морем широким, раскинутым – и нету ничего, одна пустая вода, в нее же загибается небесная твердь, нижнее исподнее небо с Мойсеевой дорогой на нем […]. И как только не скатываются крайние звезды за край? – не знаю, крепко-накрепко, видать, приколочены [Там же: 14].
Эта картина мира отмечена тем же герметически-инфантильным восприятием пространства, которое Юрий Лотман и Кеннет Уайт описывают применительно к эпистемологии христианского средневековья404404
См. «Модели времени и пространства в нонконформистской еврейской литературе», с. 256.
[Закрыть]. В рамках религиозной концепции пространства Иерусалим как umbilicus terrae также определял представления о близком и далеком, добре и зле. Даваемая мальчиком характеристика «Ленин-Города» (Ленинграда, здесь также названного Римом) одновременно вызывает в памяти типичные для раннего «петербургского текста русской литературы» [Топоров 2003] антипетровские народные легенды: на дне реки [Невы] «видимо-невидимо голокостых шкилетов […] шкилеты те по пояс завалены каменным и железным хламьем, а сверх пояса волнуются, касаются и цепляются»; над городом висят зловещие облака разноцветного дыма; а выросший до культурного мифа бронзовый памятник Петру I работы Фальконе описывается так: «Самый же страшный – зеленый, вздутый, сердитый» [Юрьев 2000: 11]. Зеленое, вздутое лицо царя-основателя соединяет черты вампира и утопленника – последнее как метонимия жертв города призраков и связанных с ним литературных героев.
Однако и в эту еврейскую эсхатологию закрадываются пародийно-иронические ноты, превращая ее в высшей степени гибридный интеллектуальный конструкт: рифмованные строки о странствии евреев в пустыне перемежаются с текстом популярной русской песни «Раскинулось море широко…»; древнеегипетские («фараонские») [Там же: 58 f.], древнеримские, христианские и советские власти сталкиваются друг с другом в этом потоке сознания, более того, отождествляются405405
Так, мальчик говорит о предстоящем построении коммунизма «во всех Римских странах» [Там же: 106]; в его рассказе о еврейском бегстве из Египта египтяне тоже называют себя римлянами.
[Закрыть] и все вместе образуют многоликий образ врагов Израиля, осадивших «краденый город» Иерусалим [Там же: 58]. Скорое совершеннолетие – Бар-мицва – должно скрепить и инициировать высокое сакральное предназначение мальчика, однако сам он воспринимает его как долгожданную возможность делать запретные вещи. Внутренний глаз, который у него, у «князя», должен открыться в тринадцать лет, наконец-то позволит ему смотреть советские телепередачи и читать газеты [Там же: 96].
Гибридность романной поэтики проявляется и в парадигматически организованном, полном коннотаций и параллелизмов письме, которое подчас оказывается весьма слабо связанным с перспективой мальчика, обнажая лирический голос Юрьева-поэта. Так, упоминание фамилии умершего Константина Черненко – своего рода «цвето-поэтический» ономастический сигнал – тут же обрастает другими лексемами с корнем «черн»: «черные подковки» или «черноголовые хохотуны» [Юрьев 2000: 11]. О трансгрессии ограниченной повествовательной перспективы и сказовой техники также свидетельствуют описания, рождающие сложную, ассоциативную текстовую фактуру. Ср.: «…заоконный свет […] колесит, оборачиваясь вокруг себя, по комнате, убирает черный свет темноты, сразу же вырастающий за его спиной снова» [Там же: 33]. На интерференцию речи автора и персонажа, вернее, на вторжение чужих, более обширных и порой «чужих», знаний в поток речи рассказчика указывают и интертекстуальные отсылки: «…я уж ничего не разглашу, […] – даже за мильон. Даже за мильон терзаний…» [Там же: 40]. Здесь намекается на название знаменитой критической статьи «Мильон терзаний» (1872) Ивана Гончарова – мифологему не только русской, но и русско-советской культуры, а также программное произведение советской старшей школы. Или: «…русская зима, белым-бело во все пределы» [Там же: 42] – строка содержит сокращенную и фонематически модифицированную цитату из известного стихотворения Бориса Пастернака «Зимняя ночь»; ср. часто цитируемую первую строку: «Мело, мело по всей земле / Во все пределы». Интертекстуальные каламбуры вроде «мастер Маргарита из салона на улице Герцена» [Там же: 73] – пародийный намек на канонический булгаковский паратекст – дополняют самоироничное, игровое письмо Олега Юрьева, жонглирующее культурными стереотипами. При этом интертекстуальные отсылки отнюдь не всегда (однозначно) маркированы, что графически усиливает структуру полифонического текста: чужие следы порой без остатка растворяются в этой фактуре и требуют расшифровки. (В этом смысле «Полуостров Жидятин» сопоставим с «Лестницей на шкаф» Михаила Юдсона.) В других местах не всегда твердо владеющие языком юные рассказчики допускают уморительные тавтологии, ср.: «При чем тут здесь?» [Там же: 15]; «Едва я только что родился» [Там же: 34–35]; «в течение через полчаса» [Там же: 38]; «мне […] нужно спешно одно спешное нужное дело справлять» [Там же: 109]. Со склонением тоже не все гладко: «по Седьмым ноября и Девятым мая» [Там же: 37]. При этом рассуждения Язычника об ошибках других создают комический эффект: «Правильно надо: наложить борщу… или борща?» [Там же: 34].
Карнавальное смешение Жидятой исторических контекстов и смыслов406406
«Мультидискурсивность и семантическая избыточность» [Finkelstein/Weller 2012: 205] – характерные приметы юрьевского стиля; Олаф Терпиц рассматривает повествование «Полуострова Жидятина» как «по видимости случайное нанизывание нарративов и дискурсов», а в другом месте – как «наложение противоположных культурных понятий, представлений и артефактов», которое обнажает «пространственно-временные разрывы» [Terpitz 2008: 266–267, 273].
[Закрыть] указывает, как и поток сознания его двойника, на одновременность или максимальное сжатие времен перед ожидаемым эпохальным переломом407407
В своем комментарии к тексту уже знакомый читателю профессор Гольдштейн говорит о явственной здесь мифопоэтической перспективе тайных евреев, для которых «история существует […] как бы одновременно» [Юрьев 2000: 132]. «Приоритетная структура их сознания» [Там же] ломает каузальную мысль рационалистической эпохи, утверждая относительную концепцию времени. Место определяет (сакральную) структуру времени, совмещая «парадигматически несовместимые культуры» [Там же: 133]. И комментарий, и приведенный далее глоссарий демонстрируют черты «гибридного юмора» (см. далее), свободно смешивая литературоведческий анализ с пародийными замечаниями и бурлескными образованиями. Иноязычные выражения в глоссарии, например, переводятся то на русский, то на английский, причем выбор языка ничем не мотивируется [Там же: 144].
[Закрыть]. Кроме того, само еврейское религиозное мышление отражается здесь на уровне повествовательной перспективы, уравнивая разнородные исторические события в рамках единого вневременного контекста страданий, сохранения религиозного единства, возвращения и искупления. Но по видимости полуинфантильное отождествление непохожего невольно разоблачает еще и религиозно-архаическую изнанку советского режима с его моделью конечного искупления. Обещание учительницы, что к 2000 году лучшее в мире – коммунистическое – общество будет окончательно построено, религиозный мальчик принимает за пророчество о приходе мессии, только иначе сформулированное:
В двухтысячном году, ребята, мы построим коммунистическое общество. Вы счастливые люди, потому что […] точно доживете до коммунизма и все своими глазами увидите! Я-то думал: просто они так называют по-забобонски иначе то же самое, те же яйца, только в профиль (курсив в оригинале. – К. С.) [Там же: 106].
Антитезой и вместе с тем объяснением многовекового существования тайного еврейства Жидят выступает православная юдофобия – как народа, так и духовенства: в народе множатся слухи, в то время как отец Георгий (поп Егор) рассуждает по-богословски. В отличие от первой части романа, здесь дихотомия еврейского и нееврейского восходит к досекулярной враждебности к иудеям со стороны христианского большинства, а евреи полностью сохранили свои традиции, но ходят в церковь и поминают своих умерших на православном кладбище, хотя те похоронены не там. Вдобавок Жидята делают вид, что они давно ассимилированные советские граждане. Время или сжимается, или же просто стоит на месте из века в век: две уборщицы в церкви говорят о том, как распознать замаскированного еврея: все евреи высокие, толстые, их легко узнать по крупным носам, правильному, но слегка шепелявому русскому выговору и скрытой насмешке в голосе [Там же: 27–28]408408
В главе «Фольклорная антропология: как можно распознать еврея?» авторы монографии о еврейском мифе в славянских культурах [Белова/Петрухин 2008] рассматривают созвучные этому эпизоду народные представления. Евреям приписываются необычные телесные признаки, нередко аномалии, особый запах, сходство и тесная связь с животными, нечеткая дикция и связь с чертом/нечистым (см.: [Там же: 262 f., 293–295]).
[Закрыть].
Утерянная книга с еврейским законом и словесами, написанными на скрижалях с обеих сторон, оказывается найдена и «спасена», а мальчик – «князь», ведущий свой род от Моисея, – должен повести верующих в Иерусалим и сделаться там судьей народов [Там же: 78]. Эта священная книга на церковнославянском языке – Библия с истинным Ветхим Заветом и ложным, «языческим» Новым Заветом [Там же: 63].
В постмодернистском, посттоталитарном и постколониальном романе Олега Юрьева переизобретаются гибридные черты русско-еврейского идиолекта и мышления. Одновременно в пространстве литературы обретает голос неслышная, «потайная» культура меньшинства. Гибридность и мимикрия – две зеркальные стороны существования колонизированных; их геттоизация (внутренняя или внешняя) порождает хронотоп пакгауза в «погранзоне», на воображаемом, удаленном от центра полуострове. Воспроизводя и изобретая окказионализмы, макаронические оксюмороны и архаизмы, стилизуя «подпольный» язык евреев с его синкретизмом и устностью409409
Эта субверсивная сказовая устность проявляется в многочисленных непристойностях, вульгарных выражениях, а также в отклонениях от грамматико-синтаксической нормы. Подчас она комична, например, когда на первый план выходит тавтологичная антириторика юного рассказчика: «…Ну и ладно, а чего она?!! Сама как это самое, а думает – я ей этот самый?!» [Юрьев 2000: 91]. В этой афатической фразе семантически пустое слово «сама» («самое», «самый») заменяет разные полнозначные лексемы, производя чисто экспрессивное, а-семантическое сообщение. В других местах мальчик рассуждает о сленге: «Ну, я обтекаю, сказал бы Пустынников-Пуся […]. Обтекает он не в прямом смысле, а в смысле „торчит“ или „тащится“» [Там же: 92]. Комизм основан на том факте, что жаргонные выражения поясняются здесь при помощи перевода не на нормативный язык, а на другой жаргон, т. е. на тот же самый социолект. Тем самым иронически, авторефлексивно изображается непереводимость самого романного языка. Периодические экскурсы рассказчика в собственную физиологию, вульгарные обозначения сексуального, мотивы мочеиспускания, пассажи о половых органах довершают слом культурных табу.
[Закрыть], цитируя идиомы юдофобского коллективного воображаемого, Юрьев создает политически заряженную, субверсивную, в высшей степени ироничную малую литературу, доводящую до абсурда и ностальгически, иронически реконструирующую русско-советскую мифологию. Внутренний – транслогический, полудетский, неразборчивый – язык рассказчика, эта «шизофреническая мешанина» («„un mélange schizophrénique“») [Делез/Гваттари 2015: 34], создает те остранение и интенсивность, которую Делез и Гваттари считают характерным признаком письма маргинализованных [Там же: особ. 20–35].
Прием слияния слов, языков, смыслов, стилистических регистров и цитат, образующих новые стилистико-семантические единицы, не раз изучался в последние годы в контексте поэтики «гибридного юмора». Последний наблюдают в текстах, позиционирующих себя как «маргинальные» или миноритарные, у авторов-диссидентов или авторов-мигрантов; в духе постколониальной детабуизации он связывает или сталкивает разнородные либо противоположные элементы (см.: [Dunphy/Emig 2010: 7]): «Процесс гибридизации может приводить к смешению идентичностей […], также мигранты вполне могут сочетать культуры в пределах индивидуального культурного конгломерата» [Ibid: 9]. Прозу Юрьева можно считать репрезентативным примером такой «юмористической постколониальной интервенции» [Ibid: 26], подрывающей или ломающей мононарративы как пишущего, так и изображаемого «я».
Как мы видели, принцип инверсии и деконструкции явлен в романе в отрицании линейной, монофонической советской историографии. Параллелизм, синхронизация и деиерархизация разных исторических моделей, (анти)еврейских властных дискурсов и техник письма – все это инструменты ревизии коллективно созданных фактов и их симулякров. Сама текстура «Полуострова Жидятина» то и дело порождает маниакальное кружение вокруг одних и тех же текстов, песен, паремий, объектов и ритуалов, раз за разом всплывающих в речи рассказчика410410
С психологической точки зрения маниакальная монотонность письма объясняется горячечным бредом рассказчика.
[Закрыть]. Один из таких навязчивых повторов – ритуал похода в кино на фильм «В джазе только девушки». Танцующая пышногрудая звезда, которую по праздникам показывают в клубе Балтфлота (в том числе в день советского военно-морского флота), – Мэрилин Монро, секс-символ Запада 1950‐х годов – превращается в застывший артефакт, становясь жутким, мертвенным идолом, маской:
На отличников боевой и политической подготовки стекает уже с экрана страшный, кондитерский запах смерти. А меня так от этой вечной Мерилин Монро уже просто тошнит! – просто передергивает и сводит челюсти от этих ее скачущих невозмутимых сисек, от этих ее толстых, заходящих одна за другую ног, от пергидрольной белизны неподвижных волос [Юрьев 2000: 109].
Раз за разом демонстрируемый гламурный облик Мэрилин Монро перекликается с бесконечно тиражируемыми, отретушированными изображениями престарелых советских руководителей411411
Здесь явно сталкиваются отсылки к поп-арту – знаменитой работе Энди Уорхола «Диптих Мэрилин» (1962), тоже воплощающей момент смерти и прием медийной репродукции символов, – и к соц-арту.
[Закрыть]: застывшие, как у мумий, лица знаковых фигур предвещают скорый крах изжившей себя системы. Медийным отражением смерти Черненко становится не только его висящая на каждом углу траурная фотография, но и образ вечно молодой дивы капиталистического мира в эпоху холодной войны. Похожим образом популярная песня «Раскинулось море широко…» служит пустой оболочкой, наполняемой все новым, по большей части непристойным содержанием. Навязчивый автоматизм цитирования переходит в пародию: «Зараза-жиличка сломала ты все, сказал кочегар кочегару…» [Там же: 98]. Похабные пословицы и абсурдные стишки дополняют это семантически и интертекстуально перегруженное, ассоциативное, герметическое письмо (ср., например: [Там же: 101]). Сплетенная из серийных или циклических повторов и вариаций ткань романа передает иррациональное, психотическое состояние (полудетского) сознания, невозможность линейности и развертывания и стертость старых семантических связей. «Заедающий» текст становится иконическим отражением412412
Таким зеркалом выступает, в частности, подобный лабиринту чердак дома: «…с ума съедешь, потеряешься» [Юрьев 2000: 8]. И точно так же теряешься в ризоматической повествовательной структуре романа, чья поэтика соответствует указанной пространственной метафоре (о «дискурсе лабиринта» в литературе см. выше цитату из [Schmeling 1987]).
[Закрыть] исторической реальности.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.