Текст книги "Российский либерализм: идеи и люди"
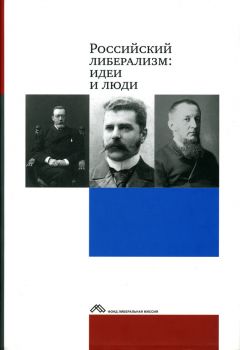
Автор книги: Коллектив Авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 110 страниц) [доступный отрывок для чтения: 36 страниц]
Тимофей Николаевич Грановский: «Рано или поздно действительность догонит мысль…»
Андрей Левандовский
Тимофей Николаевич Грановский (1813–1866) – один из самых ярких лидеров русского «западничества» 1840-х – начала 1850-х годов, ставшего важнейшим источником позднейшего русского либерализма. Интересно, однако, что при том огромном интересе, который вызывал, вызывает и, несомненно, будет вызывать русский либерализм, западничество как цельное историческое явление до сих пор мало изучено.
Причина, по-видимому, в тех вполне объективных трудностях, с которыми сталкивается каждый исследователь, обращающийся к русскому западничеству. Размытость, незавершенность этого явления очевидна, а отсутствие четких организационных форм и недвусмысленно сформулированных программных документов бросается в глаза (в этом отношении более поздних либералов-политиков, например кадетов или октябристов, изучать, наверное, легче).
При исследовании сообщества незаурядных людей, с одной стороны, объединенных общими идеями и схожим мировоззрением, а с другой – ревниво отстаивающих собственную духовную свободу, всегда возникает множество проблем. Иметь дело с яркими индивидуальностями гораздо труднее, чем с дисциплинированной партийной «командой», состоящей, за исключением нескольких лидеров, из посредственностей.
Если проводить возрастные аналогии, западничество можно уподобить младенчеству русского либерализма. Известно, что в детстве мир кажется совсем иным, чем во взрослом состоянии: он текуч, изменчив и неустойчив. Окружающая действительность воспринимается непосредственно, тогда как в мире взрослых господствуют сухие рациональные правила и догмы. Поэтому детство – возраст волшебный, когда от мира ждут чудес. С годами это проходит, жизнь входит в свою колею, будничные, рутинные проблемы наполняют существование. На этой упорядоченной стадии бытия воспоминания о детстве приобретают еще более сказочный, мифологический характер – и в то же время становятся все более необходимыми.
Все эти рассуждения, с моей точки зрения, подчеркивают сложность понимания западничества, с одной стороны, и необходимость преодолеть эту сложность – с другой. Нелегко представить, каким образом ученый-медиевист, университетский лектор, никогда и ни в чем не отклонявшийся от своих профессиональных занятий (ни памфлетов, ни листовок, ни какой-либо другой антиправительственной деятельности), превращается в одного из самых авторитетных лидеров общественной оппозиции. Понять, как он становится кумиром нескольких поколений русских образованных людей, подготовившим их к борьбе за преобразование крепостной России. Сейчас подобная история действительно кажется похожей на сказку; ее и рассказывать хочется особым образом.
В качестве зачина можно предложить пару фраз из «Былого и дум» А. И. Герцена, которые, по-моему, вполне отвечают этому назначению: «Тридцать лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчишками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей; а в них было наследие 14 декабря – наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего вулкана…» Одним из этих «мальчишек» и был Тимофей Николаевич Грановский.
Уподобление России времен Николая I «непростывшему вулкану» выглядит, возможно, несколько выспренним, однако для тех, кто представлял собой «Россию будущего», оно было вполне оправданно. Утвердившись на престоле в результате вооруженной схватки со своими противниками-декабристами и беспощадно расправившись с ними, Николай Павлович положил максимум усилий на то, чтобы навести в России жесткий, единообразный порядок. Осуществляя это намерение, царь, естественно, не ограничился мерами административно-полицейскими: усилением бюрократического контроля над населением, созданием единой, хорошо организованной политической полиции (III отделение собственной канцелярии и корпус жандармов), предельным ужесточением цензуры и тому подобное. Все это было важно и в то же время вторично.
Главное заключалось в том, что чиновникам всех ведомств, тем же жандармам и цензорам, необходимо было дать четкое – без противоречий – руководство к действию, которое позволило бы им отличать хорошее от плохого, добро от зла, благонамеренного россиянина от скрытого смутьяна. «Силы порядка» нуждались в простой и ясной идеологической схеме. С. С. Уваров, долговременный министр просвещения при Николае I, создал именно то, что требовалось: в рамках своей теории «официальной народности» он связал в единое целое русский народ, православную веру и самодержавное государство.
Пафос этой теории был ясен. «Уваровская триада» стремилась подчинить жесткому канону все стороны жизни российского обывателя любой социальной принадлежности. Россиянин должен быть тих, смиренен и кроток, регулярно посещать церковь, исполнять все предписанные обряды и почитать Господа. В еще большей степени от него требовались законопослушность, верноподданность, безоговорочное выполнение всех требований администрации, почитание государя. Добросовестное отправление обязанностей по отношению к власти духовной и светской гарантировало полное благополучие. Прекрасно эту мысль выразил в своих заметках один из самых ярких «охранителей», бессменный управляющий III отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии Л. В. Дубельт: «Уж ежели можно жить счастливо где-нибудь, так это, конечно, в России. Это зависит от тебя; только не тронь никого, исполняй свои обязанности и тогда не найдешь такой свободы, как у нас, и проведешь жизнь свою, как в Царствии небесном…»
Теория «официальной народности» была сочинена как апология николаевского режима, который полагался властями «идеалом существования» русского человека. В той России все было устроено как до́лжно, «по-божески», в полном соответствии с духом народа. Она представляла собой единый, цельный монолит, который в рамках официальной идеологии резко противопоставлялся бестолковому, злокозненному, разлагавшемуся на глазах Западу. Любая попытка в какой бы то ни было форме воспротивиться существующему порядку вещей почти автоматически воспринималась представителями власти как результат воздействия «гниющего Запада», искажающего благую природу русского человека, превращающего его во врага своего собственного народа. Естественно, верховная власть вменяла себе в обязанность беспощадную борьбу с любыми отклонениями от официоза, с любыми проявлениями злостного «инакомыслия».
Теория «официальной народности» стала главным фактором, определявшим условия жизнедеятельности и тех, кто составлял, по словам Герцена, «образованное меньшинство» русского общества, тех, кто пытался жить, размышляя и творя… Сохранить себя эти «мальчики 1825-го года», ставшие юношами в 1830-х, могли только в последовательном противостоянии официозу, подчинение которому лишало их существование всякого смысла. И эти несколько десятков человек в конце концов взяли верх над идеологической системой, поддерживаемой всей мощью самодержавно-бюрократической власти и оттого казавшейся несокрушимой… Роль Т. Н. Грановского в этой борьбе и победе невозможно переоценить.
Определяющую роль в судьбе Т. Н. Грановского сыграла, несомненно, поездка за границу и стажировка в Берлинском университете в 1836–1839 годах, позволившая ему найти верный путь реализации своего уникального таланта. Раньше такой возможности не представлялось.
Отпрыск небогатой провинциальной дворянской семьи (Грановский родился 9 мая 1813 года в Орле), он получил самое безалаберное воспитание в детстве и такое же образование в юности. Учеба в Петербургском университете, который в первой половине 1830-х годов еще не оправился от погрома, устроенного там властью в конце царствования Александра I, по собственному признанию Грановского, также не дала ему почти ничего. А вот поездка в Берлин за счет Министерства народного просвещения «для усовершенствования в науках», с тем чтобы впоследствии занять кафедру зарубежной истории в Московском университете, – событие, случившееся благодаря счастливому стечению обстоятельств, – в корне изменило всю жизнь Грановского. Ему довелось испить «немецкой премудрости» из первоисточника – будущий духовный лидер западничества и кумир студенческой молодежи постигает философию Гегеля, закладывая тем самым мощный фундамент всей своей последующей деятельности.
Нужно иметь в виду, что для поколения Грановского немецкая философия (и прежде всего гегельянство) стала важнейшим интеллектуальным фактором, существенно изменившим духовную жизнь общества. Восстание декабристов не могло не привести к переоценке ценностей у поколения, вступавшего в жизнь после событий на Сенатской площади. Грановскому и его друзьям уже казались банальными традиционно-прямолинейные вопросы философии в духе «века Просвещения» и такие же ответы на них. У молодежи появились новые кумиры – в поисках ответов на «проклятые вопросы» она обращается не к Монтескье и Тюрго, а к Шеллингу и Гегелю.
Недаром в истории русской общественной мысли такое важное место занимает кружок Н. В. Станкевича. Небольшой по численности, очень «камерный», он стал своеобразным органом восприятия гегельянства в России. Именно со Станкевичем, тоже совершившим паломничество в Берлин – гегельянскую Мекку, Грановский подружился и сблизился. Этот в высшей степени незаурядный человек (к несчастью, очень рано умерший) оказал на Грановского огромное влияние. Совместное посещение лекций в Берлинском университете, изучение философии и истории, горячие дискуссии – все это чрезвычайно много дало Грановскому.
Собираясь стать историком, он был настроен на то, чтобы «философией проверить историю». В то время Грановский, ставший убежденным гегельянцем, писал одному из близких друзей: «Есть вопросы, на которые человек не может дать ответа. Их не решает Гегель, но все, что теперь доступно знанию человека, и само знание у него чудесно объяснено…» Среди профессоров Берлинского университета его кумиром становится профессор-гегельянец Леопольд фон Ранке, про которого Грановский написал: «Он понимает историю…»
Что же давало гегельянство для объяснения действительности и понимания истории? Грановского и его современников в этой философской системе привлекала прежде всего присущая ей диалектика. Их покоряла та последовательность, с которой Гегель рассматривал все сущее, и убедительность, с которой он раскрывал закономерности процессов развития. Выяснялось, что действительность не поддается своевольному произволу, не является пластичной массой, из которой сильная личность способна вылепить все, что пожелает. Эта действительность существует и развивается в соответствии с объективными, не зависящими от воли человека законами. Но человек способен эти законы познать (чему прежде всего и учил Гегель) и, познав их, действовать разумно, плодотворно работая на будущее, как бы сотрудничая с высшей силой – Абсолютом.
Подобный подход позволял дать ответы на многие тревожившие современников вопросы, например о причинах неудачи декабристского восстания… А главное, гегельянство, воодушевляя, порождало уверенность в своих силах и позволяло с надеждой смотреть в будущее. Недаром Грановский все в том же письме приятелю, терзавшемуся сомнениями и жаловавшемуся на «горестное состояние духа», писал: «Займись, голубчик, философией… Учись по-немецки и начинай читать Гегеля. Он упокоит твою душу».
Тут самое время напомнить, что подобную философскую систему, ставившую диалектику во главу угла, с почти религиозным воодушевлением воспринимала молодежь страны, государственная власть которой отрицала всякое развитие в принципе. Ведь теория «официальной народности» провозглашала Россию неким заповедником, где неизменно царит самодержавно-православное благоденствие, круто замешенное на крепостном праве… И здесь, наверное, снова уместно привести слова Герцена: «Философия Гегеля – алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от преданий, переживших себя…»
«…Четверть часа прошла уже после звонка. Вся аудитория в каком-то ожидании. Разговоры смолкли, и все вышли на лестницу, ведущую в аудиторию. – „Будет ли?“ – говорит один из студентов. – „Будет“, – отвечает другой. – „Должно, не будет“, – замечает третий, смотря на часы. – „Приехал!“ – кричит снизу швейцар, как будто отвечая на нетерпеливое ожидание. – „Идет…“ – и вся толпа двинулась в аудиторию, все спешат заполнять места. Глубокая тишина воцарилась в зале». Начиналась лекция Грановского…
Грановский оказался феноменальным лектором. Впрочем, здесь точнее будет употребить глагол не «оказался», а «стал». Грановский, которого некоторые современники укоряли в лености, потратил массу сил на то, чтобы овладеть ораторским искусством. «Круглым числом, – писал он Станкевичу в начале своей профессорской деятельности, – я занимаюсь по десять часов в сутки. Польза от этого постоянного, упрямого труда (какого я до сих пор еще не знал) очень велика – я учусь с каждым днем…»
Надо сказать, что Грановский не обладал эффектной внешностью (хотя и был очень обаятелен в общении), имел слабый голос и к тому же слегка шепелявил («шепелявый профессор» – обычное его прозвище в дружеском кругу). Лекции в чем-то походили на самого лектора: Грановский не терпел никаких внешних эффектов. «При изложении, – писал он сам, – я имею в виду… самую большую простоту и естественность и избегаю всяких фраз. Даже тогда, когда рассказ в самом деле возьмет меня за душу, я стараюсь охладить себя и говорить по-прежнему…»
Студенческие записи вполне подтверждают слова Грановского: его лекции чрезвычайно сдержанны по тону – пафос в них отсутствует напрочь. Нельзя сказать, что Грановский совершенно пренебрегал яркими характеристиками исторических деятелей и выразительными историческими эпизодами, – но он ни в коем случае не злоупотреблял этим. Не было в его лекциях и подобия намеков политического характера, прозрачных аналогий и тому подобного. При первом знакомстве с текстом лекций Грановского (во всяком случае, в несовершенных студенческих записях) они кажутся несколько монотонными и суховатыми. Но это впечатление решительно опровергается массой свидетельств: Грановский, без сомнения, был самым популярным лектором Московского университета за всю историю его существования… На его лекции собирались студенты со всех факультетов; здесь постоянно были заполнены все места, и занимать их приходилось заранее. Опоздавшие пристраивались на ступеньках у кафедры. Во время лекции в аудитории царила мертвая тишина: слушатели ловили каждое слово, произнесенное негромким голосом «шепелявого профессора».
Нужно внимательно вчитаться в студенческие записи, чтобы понять, в чем была сила Грановского-лектора, каким образом он удерживал аудиторию в состоянии напряженного внимания. Главным и по сути дела единственным героем его лекционного курса был исторический процесс как таковой. Ощущение, которое владело слушателями на лекциях Грановского, много лет спустя в своих воспоминаниях великолепно выразил один из них: «Несмотря на обилие материалов, на многообразие явлений исторической жизни, несмотря на особую красоту некоторых эпизодов, которые, по-видимому, могли бы отвлечь слушателя от общего, слушателю всюду чувствовалось присутствие какой-то идущей, вечно неизменной силы. Век гремел, бился, скорбел и отходил, а выработанное им с поразительной яркостью выступало и воспринималось другим. История у Грановского действительно была изображением великого шествия народов к великим целям, постановленным Провидением…»
Своим лекционным курсом, посвященным истории европейской цивилизации (хронологически ее было дозволено освещать лишь до Реформации, то есть до XVI века), Грановский, с одной стороны, чрезвычайно искусно приобщал слушателей к пониманию этой цивилизации. Он нигде и ни в чем не льстил Западной Европе, не идеализировал ее истории. В то же время он последовательно показывал эту историю как путь – путь тернистый, но, несомненно, ведущий от худшего к лучшему, имеющий в перспективе осуществление некоего идеала, который с каждым веком становился все яснее. «Мы видели, – говорил Грановский в заключительном слове к одному из курсов лекций, – что мысль не всегда ладит с действительностью. Она идет впереди действительности, и все попытки великих двигателей человечества остаются не вполне осуществленными. Но рано или поздно действительность догонит мысль».
С другой стороны, Грановский постоянно давал понять, что описываемый им процесс исторического развития един для всего человечества, в том числе и для России… Это следовало из общего хода его рассуждений. По воспоминаниям слушателя, Грановский избегал говорить об этом открыто: в России, считал он, «отзываются все великие идеи». Другими словами, Запад, по Грановскому, медленно, но верно идет по пути прогресса, прокладывая его и для всего остального человечества. Не миновать этого пути и России…
Трудно представить себе в николаевской России культурный фактор, резко противостоящий официальной идеологии, – разве что «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Письмо это, не отличавшееся, на мой взгляд, ни особой глубиной мысли, ни доказательностью, произвело мощное, но разовое действие. Грановский же читал лекции на протяжении полутора десятилетий. Искусно оперируя фактическим материалом, избегая тенденциозности, он заставлял своих слушателей самостоятельно осознавать свою концепцию истории, делая студентов ее убежденными сторонниками.
Надо сказать, что и слушатели у Грановского оказались достойные. Совершенно очевидно, что они осознавали его лекции по истории как акт общественной борьбы. Здесь не только изучали прошлое, но и учили мыслить и действовать так, как должно достойному человеку, – вот и набивалось в аудитории молодежи что сельдей в бочку… Когда же зимой 1844/45 года Грановскому удалось добиться дозволения прочитать (впервые в России) публичный курс по истории западного Средневековья, успех был еще грандиознее. Светская публика в течение нескольких месяцев до отказа заполняла большой актовый зал Московского университета, внимала лектору, затаив дыхание, и неизменно провожала его бурной овацией. П. Я. Чаадаев, недолюбливавший Грановского и не согласный с его концепцией западной истории, тем не менее совершенно справедливо назвал сами чтения явлением «историческим».
Для студенчества же Грановский стал настоящим кумиром. Б. Н. Чичерин вспоминал, как его репетитор, студент юридического факультета, восклицал, рассказывая о магистерском диспуте Грановского: «Вы знаете, ведь для нас Тимофей Николаевич – это почти что божество…» После выпуска из университета его слушатели расходились по всей России. «Ученик Грановского» – этим званием гордились до конца жизни. А оно между тем ко многому обязывало. Недаром в сохранившемся благодаря одному из слушателей напутственном слове своим выпускникам Грановский призывал их «осуществить в жизнь то, что вынесли отсюда»: «Не для одних разговоров в гостиных, может быть, умных, но бесполезных посвящаетесь вы, а для того, чтобы быть полезными гражданами и деятельными членами человечества. Возбуждение к практической деятельности – вот назначение историка».
Один из современников удачно назвал Грановского «профессором по преимуществу». Действительно, именно в университете, на кафедре, он состоялся как личность, более того, – как исторический деятель. И все же только этим роль Грановского в истории русского общественного движения не исчерпывалась: он чрезвычайно много сделал для развития этого движения в целом и для становления российского западничества в особенности. При этом характерно, что сам Грановский на лидирующую роль где бы то ни было и в чем бы то ни было нисколько не претендовал. Все дело было в условиях эпохи и в удивительно симпатичной и благородной натуре Грановского…
Я уже писал выше о кардинальных различиях между политической партией и дружеским кружком, объединяющим людей, стремящихся сохранить свою внутреннюю свободу. В любой политической партии начала XX века человек с характером и устремлениями Грановского неизбежно был бы на вторых ролях. В среде же «людей 1840-х» его почти не с кем сравнить в плане организующей, консолидирующей деятельности. А. И. Герцен написал по этому поводу несколько строк, которые прекрасно характеризуют и самого Грановского, и его роль в обществе, и те требования, которые предъявляло общество 1840-х годов к своим лидерам: «Грановский был одарен удивительным тактом сердца. У него все было далеко от неуверенной в себе раздражительности, так чисто, так открыто, что с ним было удивительно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного „все равно“. Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех „волосяных“, нежных, бегущих шума и света сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним не страшно было говорить о вещах, о которых трудно говорить с самыми близкими людьми… В его любящей и покойной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик самолюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись…»
Все сказано верно и точно. Буквально сразу же после возвращения из-за границы в 1839 году Грановский начал играть роль миротворца, с удивительным тактом стабилизирующего человеческие отношения, иной раз почти безнадежно испорченные. Так, Грановский не только спас от полного развала кружок Станкевича, переживавший после ранней кончины своего лидера очень тяжелые времена, но и способствовал его выходу на новый уровень бытия. Грановский стал связующим звеном между остатками кружка – В. Г. Белинским, В. П. Боткиным и другими – и своими коллегами по университету, блестящими молодыми профессорами-гегельянцами Д. В. Крюковым, П. Г. Редкиным, Н. И. Крыловым. Так, на переломе 1830–1840-х годов и родилось западничество… Именно Грановский на какое-то время крепко привязал к этому направлению А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Мало того, Грановский какое-то время довольно легко находил общий язык с вечными оппонентами западничества – славянофилами (с братьями Киреевскими во всяком случае).
И не вина Грановского, а общая беда, порожденная особым характером николаевской эпохи, что это столь желанное единство надолго сохранить не удалось. Лишенное возможности в какой бы то ни было степени реализовать свои взгляды, занятое прежде всего острыми, захватывающе интересными, но бесплодными дискуссиями, задыхающееся в своем узком, искусственно ограниченном кругу «образованное меньшинство» было обречено на распад.
В конце 1844 – начале 1845 года произошел полный разрыв между западниками и славянофилами (причем ссора была такой силы, что чуть не привела к дуэли между людьми, которые, казалось, воплощали в себе дух миролюбия, – Грановским и Петром Киреевским). Затем, в 1846 году, порвались духовные связи между Грановским и другими умеренно настроенными западниками, мечтавшими о мирном приобщении России к современной им западной цивилизации, с одной стороны, и западниками-радикалами, жаждавшими социального переворота, – с другой.
Этот последний разрыв Грановский переживал очень тяжело, как личную драму. Действительно, после потери радикального крыла (Герцен с Огаревым вскоре эмигрировали, а Белинский умер) западничество измельчало. Рядом с Грановским не осталось ни одного человека его уровня, и «шепелявый профессор», хоть и постоянно окруженный студентами, стал ясно ощущать свое духовное одиночество. В то же время с конца 1840-х годов в связи с европейскими революциями резко усилились гонения власти на «образованное меньшинство»; под особый надзор попали Москва, Московский университет, прогрессивно настроенная профессура. До открытых репрессий дело не дошло, но разнообразных придирок было великое множество. Грановскому, в частности, суждено было пройти «испытание в законе нашем» (то есть в православной вере) перед московским митрополитом Филаретом. Все обошлось благополучно, но противно было донельзя…
Все это, несомненно, ускорило кончину Грановского, человека чрезвычайно впечатлительного и легко уязвимого. «Не одни железные цепи перетирают жизнь», – справедливо писал по этому поводу Герцен. 4 октября 1855 года Грановский скончался. Он умер, пережив на полгода Николая I, накануне перемен, успев ощутить, пусть и смутно, то «движение внутренних пластов истории», о котором он так вдохновенно говорил в своих лекциях и для свершения которого сам сделал немало. «Хорошо умереть на заре» – такими словами со свойственным ему красноречием откликнулся на смерть своего старого друга Герцен.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































