Текст книги "Российский либерализм: идеи и люди"
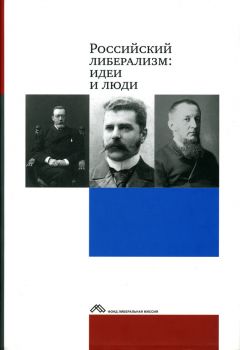
Автор книги: Коллектив Авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 110 страниц) [доступный отрывок для чтения: 36 страниц]
Александр Васильевич Никитенко: «Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое…»
Владимир Кантор
Пожалуй, наши современники, изучающие корни отечественного либерализма, реже всего вспоминают профессора А. В. Никитенко (1804–1877). Он общался с крупнейшими политиками и писателями, сам не будучи ни политическим деятелем, ни великим философом или писателем – академик по Отделению русского языка и словесности. В 1868 году Никитенко записал в дневнике: «Ко мне пристали, чтобы я указал все мои сочинения. Я было решительно этому воспротивился, так как сам я мало уважаю собственные писания, и если бы их позабыли другие, как позабыл их я сам, то, право, не огорчился бы этим».
Он прославился не публичной деятельностью, а, наоборот, тем, что делалось для самого себя, в одиночестве. Его «памятником» стал дневник, опубликованный в трех томах его дочерью с помощью И. А. Гончарова уже посмертно. Первое появление дневника стало событием общественной жизни: тихий профессор оказался зорким и злым наблюдателем российской действительности.
«Интерес, который вызывает „Дневник“ Никитенко у советского читателя, – лукаво написал советский издатель этого потрясающего документа, – менее всего обусловлен личностью самого Никитенко». Между тем история жизни этого профессора-либерала незаурядна. Отец его был певчим из капеллы знаменитого мецената графа Шереметева и затем, оставаясь крепостным, с благословения барина стал учителем. Его сын, тоже крепостной, выучился грамоте, окончил Воронежское уездное училище. Поступить в университет он не мог: туда принимали только лиц свободного состояния. Тогда юноша стал одним из организаторов отделения Библейского общества в городке Острогожске Воронежской губернии и так познакомился с князем А. Н. Голицыным, министром духовных дел и народного просвещения. Тот вызвал Никитенко в Петербург. Именно там он подружился с поэтом Рылеевым, который и поднял шум, возмущаясь крепостным состоянием высокообразованного юноши. Так, благодаря взволновавшемуся общественному мнению и помощи поэта В. А. Жуковского двадцатилетний Никитенко получил вольную и поступил в университет. Он общался с декабристами, А. С. Пушкиным, Ф. И. Тютчевым, В. П. Боткиным, А. К. Толстым. Цензор Никитенко фактически спас «Мертвые души», зарубленные московской цензурой, и «Антона-Горемыку» Григоровича. Вместе с Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым Никитенко первое время готовил журнал «Современник». Руководил диссертацией Н. Г. Чернышевского и дружил с И. А. Гончаровым; общался с Александром II и с М. Н. Катковым; вращался в высших кругах петербургского чиновничества и среди профессоров Санкт-Петербургского университета. Не забудем и того, что бывший крепостной мальчик стал академиком и тайным советником – судьба поистине фантастическая.
Наибольший интерес у читателей вызвали страницы дневника, посвященные николаевскому царствованию. За них автор удостоился, например, самых высших похвал Д. С. Мережковского, который даже сравнил петербургского профессора с великим римским историком: «Никитенко не Тацит; но иные страницы его напоминают римского летописца, может быть, оттого, что нет во всемирной истории двух самовластий более схожих по впечатлению сумасшествия, которое производит низость великого народа. Ибо что такое самовластье, возведенное на степень религии, как не самое сумасшедшее из всех сумасшествий?»
В дневниках Никитенко мы сталкиваемся с удивительной летописью жизни образованной части российского общества – летописью ироничной, памятливой и аналитически точной. Это были годы очевидного современникам поворота вспять, совершенного Николаем I после декабристского восстания. Знаменитый историк Михаил Погодин уже в годы николаевского правления писал в статье «Петр Великий», что период от Петра Великого до Александра I можно назвать европейским, а с Николая начинается период национальный. Точнее, даже ксенофобский, ибо Европу стали не любить и бояться. Герцен говорил о том, что потребность в просвещении, которую привил Петр, правительство Николая душило, превращая страну в казарму и возвращая ее к допетровскому, «московскому» периоду. Это была отчаянная и довольно успешная попытка удержать Россию в изоляции от Европы. Герцен называл это тридцатилетие «моровой полосой». «Человеческие следы, заметенные полицией, пропадут, – писал он, – и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли…»
В конце 1847 года, когда грянул гром над литературой и искусством, удрученный окружающей обстановкой профессор Никитенко отмечал в дневнике: «Жизненность нашего общества вообще хило проявляется: мы нравственно ближе к смерти, чем следовало бы, и потому смерть физическая возбуждает в нас меньше естественного ужаса». Называя николаевскую Россию «Сандвичевыми островами», Никитенко в 1848 году писал: «На Сандвичевых островах всякое поползновение мыслить, всякий благородный порыв, как бы он ни был скромен, клеймятся и обрекаются гонению и гибели. И готовность, с какою они гибнут, ясно свидетельствует, что на Сандвичевых островах и не было в этом роде ничего своего, а все чужое, наносное».
Хуже всего было вступающим в жизнь молодым писателям, мыслителям, поэтам. Любая их просветительская деятельность сразу же оказывалась под запретом. Вспомним хотя бы смертный приговор петрашевцам и Достоевскому, приговоренному «к смертной казни расстрелянием» за чтение вслух письма одного литератора другому (Белинского – Гоголю). Ссылки и каторга – вот что ждало многих.
В этой атмосфере Никитенко выстоял, исповедуя ценности европейской культуры с ее уважением личности, идеей правового сознания. «Я хотел содействовать утверждению между нами владычества разума, законности и уважения к нравственному достоинству человека, полагая, что от этого может произойти добро для общества. Но общество на Сандвичевых островах еще не выработалось для этих начал: они слишком для него отвлеченны; оно не имеет вкуса к нравственным началам; вкус его направлен к грубым и пошлым интересам. В нем нет никакой внутренней самостоятельности: оно движется единственно внешнею побудительною силой; где же тут место разуму, законности?» – писал он.
Ему была близка позиция римских стоиков – выстоять, несмотря на сумасшествие мира. Так, вся жизнь русских либералов являла собой отстаивание ценностей, непривычных и почти немыслимых в этой стране.
Быть либералом означало постоянно работать, неустанно сопротивляясь окружающей жизни. «Жить не значит предоставить лодке плыть по течению, а значит неусыпно бодрствовать у руля. Кто умеет плавать, тот спасается, даже если лодка опрокидывается, а кто не умеет, тот тонет», – писал Никитенко.
И бодрствовать стоило. Когда московская цензура запретила «Мертвые души», Гоголь через Белинского передал рукопись В. Ф. Одоевскому в Петербург. После некоторого промедления и неудачных попыток держателей рукописи добраться до «верхов» поэма попала к петербургскому цензору – западнику и либералу Никитенко. Никитенко осмелился дать разрешение на ее публикацию. Стоит привести слова крупнейшего нашего специалиста «по Гоголю» Ю. В. Манна, подробно рассказавшего (в своей книге «В поисках живой души») о судьбе «Мертвых душ»: «Решение Никитенко оказалось историческим, принесло неоценимую услугу и Гоголю, и русской литературе. И это решение потребовало от Никитенко мужества: как раз ко времени рассмотрения рукописи в Петербурге резко усилился „цензурный террор“».
Это стало возможно только благодаря твердой и неизменной позиции нашего либерала: «Главное – быть достойным собственного уважения, все прочее не стоит внимания. Ты иначе воспитался, иным путем шел, чем другие, иною судьбою был руководим и искушаем, а потому имеешь право не уважать их правил и обычаев. Ограничение внешней деятельности умей заменить внутренней деятельностью духа и возделыванием идей. Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое».
Никитенко прекрасно знал, что все ходили под ударом. В своем «Очерке развития русской философии» Г. Шпет писал, что николаевское «общество и государство никогда не могли преодолеть внутреннего страха перед образованностью. Отдельные лица кричали об образовании, угрожали гибелью, рыдали, умоляли, но общество в целом и государство пребывали в невежестве и оставались равнодушны ко всем этим воплям». Оставались равнодушными, пока их умоляли о необходимости просвещения, но пришли в ужас, когда этому равнодушию была дана беспристрастная оценка – в «Философском письме» Чаадаева. «Письмо это, – писал Герцен, – было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. Он желает знать, что мы покупаем такой ценой, чем заслужили свое положение… Автора упрекали в жестокости, но она-то и является его наибольшей заслугой. Не надобно нас щадить: мы слишком привыкли развлекаться в тюремных стенах». Герцен считал, что «письмо разбило лед после 14 декабря». Но это было лишь его мнение. Как же реагировали общество и правительство?
Вот наблюдения профессора А. В. Никитенко. 25 ноября он записал в свой дневник: «Ужасная суматоха в цензуре и в литературе. В пятнадцатом номере „Телескопа“ напечатана статья под заглавием „Философские письма“. Статья написана прекрасно; автор ее Чаадаев. Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном свете. Политика, нравственность, даже религия представлены как дикое, уродливое исключение из общих законов человечества. Непостижимо, как цензор Болдырев пропустил ее… Журнал запрещен. Болдырев… отрешен от всех должностей. Теперь его вместе с Надеждиным, издателем „Телескопа“, везут сюда на расправу…»
Не привыкшее к свободному изъявлению мыслей общество начало гадать о «настоящих» целях написания и публикации чаадаевского письма, отвечающих логике поведения в условиях самодержавного диктата. Об этом свидетельствует и Никитенко: «Я сегодня был у князя; министр крайне встревожен. Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно для того, чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум, подобный тому, который был вызван запрещением „Телеграфа“. Думают, что это дело тайной партии».
Правительство скоро разобралось и незамедлительно ответило на искренность мысли – Чаадаев был объявлен сумасшедшим, Надеждин сослан в Усть-Сысольск, а цензор, профессор и ректор университета Болдырев был отставлен со всех должностей. Тем не менее Никитенко «пробивает» «Мертвые души» в печать, потом помогает молодому литератору Д. В. Григоровичу опубликовать крамольный по тем временам роман о жизни крепостного мужика «Антон-Горемыка». Желание бывшего крепостного предать гласности правду о сущности крепостного права понятно. Но желания мало, нужна была смелость, и смелости Никитенко хватило.
Российские «почвенники» любят повторять, что легенду о непонимании, о вражде Николая к Пушкину придумали либералы, а царь якобы заботился о поэте. Дневниковые, спокойные строки Никитенко развенчивают этот миф. После гибели Пушкина Николай старается сделать так, будто бы поэта и не было. Запрещались даже некрологи. Вот очередная дневниковая запись Никитенко: «Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, – так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему».
В дневнике Никитенко мы находим, возможно, невольное трагическое совпадение с известным наблюдением самого Пушкина. Вспомним «пушкинский ужас» на кавказской дороге, когда поэт увидел в телеге гроб, обернутый рогожей, и, поинтересовавшись, кто же там, услышал равнодушный ответ: «Грибоеда везем». А вот никитенковские строки: «Жена моя возвращалась из Могилева и на одной из станций неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом. – Что это такое? – спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян. – А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит – и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи – как собаку…»
«Почвенники» любят также говорить, что именно при Николае мы видим расцвет русской литературы: ведь какие замечательные люди творили тогда! Из дневника профессора Никитенко мы узнаем об общей ситуации в русском образованном обществе в те годы. Николаевский режим оказался катастрофичным для образованных людей, как искоренение тех ростков европейской культуры, которые пытались насадить просвещенные люди едва ли не с эпохи Ивана Грозного (вспомним призыв к законности и правовой защищенности людей в России в письмах дипломата Федора Карпова). И, уж конечно, с реформ Петра. «Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему. Еще немного – и все, в течение полутораста лет содеянное Петром и Екатериной, будет вконец низвергнуто, затоптано… И теперь уже простодушные люди со вздохом твердят: „видно, наука и впрямь дело немецкое, а не наше“», – писал Никитенко.
Удары по российскому просвещению были следствием западноевропейских событий 1848 года: «События на Западе вызвали страшный переполох на Сандвичевых островах. Варварство торжествует там свою дикую победу над умом человеческим, который начинал мыслить, над образованием, которое начинало оперяться». Никитенко с горькой иронией замечает, что те, кто считал «мысль в числе человеческих достоинств и потребностей», теперь обратились «к бессмыслию и к вере, что одно только то хорошо, что приказано… произвол, облеченный властью, в апогее: никогда еще не почитали его столь законным, как ныне». Вот это последнее, быть может, было самым страшным для российских либералов…
Реформы Александра Освободителя, казалось, утвердили позиции либералов в общественной и политической жизни. По словам Т. Г. Масарика, «писатель и цензор А. Никитенко, на себе испытавший гнет крепостничества… назвал коронацию Александра II, состоявшуюся 18 февраля 1855 года, поворотным пунктом своей эпохи». Вместе с тем появилась новая и неожиданная опасность. В русском обществе возникло движение, которое с легкой руки И. С. Тургенева стали называть «нигилизмом». Круг его приверженцев был велик: от стриженых курсисток и волосатых студентов до страшной «нечаевщины» и тотальной критики Л. Н. Толстым всех структур Российской империи – государства, церкви, армии, искусства, науки и техники, того, что Ленин называл «срыванием всех и всяческих масок…». И пожалуй, наиболее последовательными критиками нигилизма оказались русские просвещенные либералы.
«Есть две точки опоры, на которых держится нравственная деятельность народа, – идея чести и религия, – писал в дневнике Никитенко. – О первой пока нечего у нас говорить: она может развиться только со временем, вместе с другими плодами, которые нам сулит эмансипация. Религия… Народ наш не получает религиозного образования. Существует еще третья точка опоры, на которой у нас и держалось все, – страх, но эта пружина за последнее время сильно заржавела и ослабела; пора заменить ее новою, более целесообразною. Надобно подумать и как можно скорее позаботиться о нравственно-религиозном образовании народа. Разумеется, к этому должно быть призвано духовенство. Но увы! Духовенство наше само лишено образования и того духа деятельности, которым совершаются хорошие, общественные дела. Оно само требует подъема».
Именно поэтому был так опасен разлившийся в обществе нигилизм: церковь была не в силах ему противостоять. А вот «„образованные“ на народ влияние имеют…». Поэтому либеральный профессор Никитенко попытался увлечь студенчество своими идеями и тем самым вырвать его из лап радикализма. Впрочем, радикалы-студенты с иронией вспоминали об этих попытках. Так, известный критик «Отечественных записок» А. М. Скабичевский писал: «Когда я пришел к Никитенко представить на его усмотрение кандидатскую диссертацию, он не мог удержаться, чтобы не заговорить со мною о злобе дня. – Не понимаю, чего хотят студенты? Чего они добиваются? Я полагаю, что университет существует для наук и студенты должны ходить в него специально для того, чтобы учиться, а не на сходках бушевать».
Мы слышим здесь высказывание человека, с помощью науки поднявшегося в образованное общество и понимающего не только эвристическую, но и социальную ценность образования. Вот, например, его испуг перед прокламаторской деятельностью: «Поразительное невежество относительно всего, что касается России, ее народного духа, ее нравственных, умственных и материальных средств, видно в каждой фразе. Они требуют от нее, чтобы она для осуществления утопий, выходящих из лондонских типографий, лила кровь как воду. А угодно это России или нет, – они о такой безделице не заботятся. Опыт французской резни ничему не научил наших мудрых реформаторов. Он не научил их тому, что ужасы и разбой анархии ведут к диктатуре, да еще такой, хуже которой трудно себе что-нибудь представить, – к диктатуре реакционной, вооруженной, вместо вырванного ею из рук анархии ножа, мечом и секирою палача. И неужели в самом деле это проповедует Герцен?»
Обращения Герцена к студенчеству действительно звучали радикально и безжалостно: «Не жалейте вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей истории…» Никому тогда не дано было знать, что поздний Герцен отречется в «Письмах старому товарищу» и от Огарева, звавшего Русь к топору, и уж тем более от Бакунина и Нечаева, проповедовавших ненависть к образованию. Никитенко оказался прав, предвидя недалекое будущее: «Не пришлось бы нам удивить мир бессмыслием наших драк, наших пожаров, нашего поклонения беглому апостолу Герцену, из Лондона, из безопасного приюта командующему на русских площадях бунтующими мальчиками…» Пришло время, и удивили.
Бытует весьма устойчивая точка зрения, что «либералы не понимали русский народ». Однако, если вчитаться в дневник Никитенко, видно, что он понимал народ не меньше, скажем, Достоевского, полагавшего себя проповедником народного мнения. В сущности, Никитенко пишет о том же, что и Достоевский: в России нет укорененного представления о законе и нравственных ценностях, и страна переживает полное нравственное растление («деморализацию») населения. «Поджоги у нас делаются чем-то вроде мании, чем-то вроде препровождения времени. Недавно поймали одного поджигателя. У него спросили, что побудило его к поджогу: мщение, желание воровать? Он отвечал, что ни то, ни другое, а он поджег так, и сам не знает, почему. Другой сам донес на себя и на подобные вопросы отвечал таким же образом. Вот широкая натура! Однако ж, что это такое? Аксаков скажет, что это – великие силы великой национальности, не направленные как должно и потому проявляющие в себе преимущественно элементы разрушения. А, в сущности, я думаю, это объясняется проще. Русский человек в настоящий момент не знает ни права, ни закона. Вся мораль его основана на случайном чувстве добродушия, которое, не будучи ни развито, ни утверждено ни на каком сознательном начале, иногда действует, а иногда заглушается другими, более дикими инстинктами. Единственною уздою его до сих пор был страх. Теперь страх этот снят с его души. Слабость существующей еще над ним правительственной опеки такова, что он опеку эту в грош не ставит. Безнаказанность при полном отсутствии нравственных устоев подстрекает его к подвигам, которые он считает простым молодечеством, а нередко и корысть руководит им… Безнаказанность и „дешевка“ – вот где семя этой деморализации, которая свирепствует в нашем народе и превращает его в зверя, несмотря на его прекрасные способности и многие хорошие свойства».
Некоторые эпизоды, известные нам по романам Достоевского, оказывается, имели место в действительности. Все помнят, как герой романа «Бесы» Ставрогин попросил губернатора наклониться к нему, чтобы-де нечто шепнуть на ухо. Бедолага наклонился и едва не поплатился ухом, в которое Ставрогин впился зубами.
В дневнике профессора Никитенко мы читаем: «Страшное и гнусное злодейство. Студент Медицинской академии женился на молодой и милой девушке, но вскоре начал ее ревновать и даже задумал ее убить, поразив ее толстою булавкою во время сна. Но это ему не удалось: она проснулась в ту минуту, когда он готовился вонзить ей булавку в шею. Произошла страшная сцена, и молодая женщина ушла к отцу. Спустя некоторое время студент прикинулся раскаивающимся. Он явился к отцу и матери своей жены и начал умолять последнюю о прощении. Последняя после некоторого сопротивления наконец уступила, и, когда в знак примирения согласилась его поцеловать, он откусил ей нос. Несчастная молодая женщина теперь в клинике, и неизвестно, что с нею будет. Каковы у нас нравы!» Чем вам не ставрогинские фокусы, добавлю я от себя!
Не менее ясно профессору-либералу и то, что российская бюрократия не желает реформ, ибо все возможные преимущества от них уже получены, а дальнейшее чревато неожиданностью. Потому он прекрасно понимал причины, вызывающие оппозиционное движение: «Настоящий глубокий смысл движения нашей интеллигенции в настоящее время есть, без сомнения, вопиющая необходимость ограничения правительственного произвола и утверждения законности как в умах, так и на деле. Без этого все реформы, самые благодетельные, будут строиться на песке». С тоской писал он, что по-прежнему, кроме императора-освободителя, в верхних эшелонах власти нет никого, кого всерьез заботили бы судьбы страны: «Если между нашими правительственными лицами есть кто-нибудь, искренно желающий блага для России, то это один Государь». Другое дело, что молодые радикалы, возможно, еще опаснее для России: «Эти жалкие молодые люди, бросившиеся сломя голову в омут революционных замыслов и покушений, сделали огромное зло России. Они по крайней мере на полвека отодвинули ее от истинного просвещения, свободы и разных улучшений».
Рассуждая о сложности мышления, Никитенко, возможно, вслед за пушкинским «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» писал: «Где мысль, там и страдание, – но там же должно быть и врачевание зла».
В своем дневнике он рефлексирует и над другими философскими проблемами. Так, размышляя о многогранности человеческого духа, он замечал: «Истинная человечность в том, чтоб в каждом человеке уважать его особенности, его личность…» Поводом к этому рассуждению Никитенко послужили патриотические стихи поэтессы К. Павловой: «Павлова, написавшая „Разговор в Кремле“, ужасно хвастает фразою: „Пусть гибнут наши имена – да возвеличится Россия“. Любовь к отечеству – чувство похвальное, что и говорить. Но выражение этой любви хорошо, когда оно истинно, когда оно не пустая звонкая фраза, а мысль реальная и верная. Сказать: „пусть гибнут наши имена, лишь бы возвеличилось отечество“, – значит сказать великолепную нелепость. Отечество возвеличивается именно сынами избранными, доблестными, даровитыми, которые не гибнут без смысла, без достоинства и самоуважения. Оно первое чтит славные имена этих сынов, сохраняет их в своей благодарной памяти как святыню и гордится ими, указывая на них грядущим поколениям как на образец для подражания. То, что говорит Павлова, – гипербола и фальшь».
Эти «доблестные и избранные сыны» должны иметь силу духа, способность противостоять всем внешним давлениям: «Жить научает одна только жизнь. В настоящее время недостаточно одной обыкновенной твердости. Нужно геройство, чтобы спасти в себе святые верования и не дать угаснуть в себе искре Божьей». Иными словами, по Никитенко, получается, что быть «либералом-постепеновцем» – позиция действительно героическая.
Либерализм требует постоянной душевной и духовной работы, которая предполагает уважение к Другому. Жизнь нестабильна и на любое представление о том, что хуже не бывает, может ответить ухудшением еще большим: «Никогда не унывай в настоящей скорби, помня, что ты еще счастлив тем, что с тобой не случилось хуже, ибо худшее всегда возможно».
Глубины метафизики были вполне доступны этому, казалось бы, позитивистски ориентированному либеральному уму. «Мир без провидения – какая страшная, бесконечная пустыня при всем разнообразии и обилии жизненных процессов, сил, явлений! Это все равно что огромный дом, наполненный слугами и гостями без хозяина; или корабль, брошенный в неизмеримый океан без кормчего, без компаса, преданный бурям и обреченный погибнуть, не зная пристани и никакой цели своего блуждания; или это мастерская, в которой работают тысячи рук, машин без мастера, который бы в работах этих рук и этих машин видел исполнение какого-то предприятия. Наконец, это чудовищное тело с костьми, кровью, дышащее и движущееся, но лишенное души, – живой мертвец». Эти переживания вели не к утопическим построениям, оборачивающимся порой крайним экстремизмом, как в случае Льва Толстого, а к попытке выстроить эволюционную позицию, которая позволила бы избежать социальных катаклизмов.
Закончить очерк хотелось бы словами позднего Никитенко, в которых он изложил нравственное кредо русского классического либерализма: «Я всегда был врагом всяких крайностей, исключая тех минутных увлечений, когда меня поражала какая-нибудь несправедливость и побуждала к неумеренным излияниям моих чувств. Главное начало, служащее основанием моего мировоззрения, есть закон уравновешения. Он господствует в природе и должен господствовать в отношениях людей в общественном строе, во всем, где человеку приходится мыслить и действовать. Я враг всякого абсолютизма, будь он политический, умственный, абсолютизм системы или мнения. Мнение или идея, старающаяся поглотить все другие и присвоить себе господство над умами, мне так же противна, как и власть, которая хочет подклонить под свое иго всех людей с их действиями и правами».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































