Текст книги "Российский либерализм: идеи и люди"
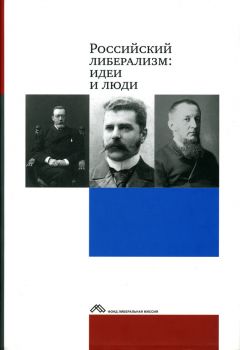
Автор книги: Коллектив Авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 110 страниц) [доступный отрывок для чтения: 36 страниц]
Александр Илларионович Васильчиков: «Укротить порывы к государственному благоустройству, покуда не обеспечено народное благосостояние…»
Игорь Христофоров
Князь Александр Илларионович Васильчиков (1818–1881) был выходцем из той социальной среды, которая кем-то с иронией и раздражением, а кем-то с неподдельной завистью именовалась «высшим обществом». Русское дворянство было далеко не однородным, и верхушка его, близкая к императорскому двору, а потому проводившая свое время преимущественно в Северной столице, являлась миром замкнутым и малодоступным даже для собратьев по сословию. Петербургский beau monde (по-английски high life) не был «аристократией» (как известно, слово это переводится как «власть наиболее знатных и достойных») хотя бы потому, что принадлежность к нему не определялась лишь знатностью, размерами состояния или личными заслугами. Куда бо́льшую роль играла личная благосклонность монарха, неизбежное искательство которой вкупе с «аристократизмом» манер и образа мыслей создавали ту странную смесь гордости и холопства, утонченного вкуса и мелочного тщеславия, которая в эпоху «высоких идеалов» не могла не отталкивать многих молодых представителей высшего света. Александр Васильчиков в николаевское царствование был как раз одним из таких неудовлетворенных юношей.
Он родился 27 октября 1818 года в семье видного боевого генерала, командующего гвардейским корпусом Иллариона Васильевича Васильчикова (1775–1847). Васильчиков-отец был близок и к Александру I, и к Николаю, который всю жизнь был благодарен генералу за его твердую и решительную позицию в памятный день 14 декабря 1825 года (Васильчиков был одним из тех, кто настаивал на расстреле восставших картечью). Он был назначен сначала командующим войсками в Петербурге и окрестностях, затем – генерал-инспектором кавалерии, председателем Государственного совета и Комитета министров, в 1831 году получив графский, а спустя восемь лет княжеский титул.
В отличие от остальных сыновей И. В. Васильчикова, сделавших предсказуемо успешную военную карьеру, Александр Илларионович в 1835 году поступил на юридический факультет Петербургского университета. Выбор, может быть, странный, но не экстравагантный: достаточно сказать, что вместе с ним учились такие высокородные молодые люди, как граф П. П. Шувалов, князья Г. А. Щербатов, А. М. Дондуков-Корсаков и П. П. Вяземский, В. Н. Карамзин. Оправившееся от шока 1825 года русское общество испытывало в то время заметный интерес к образованию и «гуманитарной» культуре – в моду вошли Гегель и Шеллинг, огромная популярность Пушкина и Карамзина как будто облагородила традиционно не считавшиеся «аристократическими» литературу и науку, начиналась великая эпоха славянофилов и западников… Впрочем, качество университетского образования во второй половине 1830-х годов было еще, мягко говоря, средним, а юноша «из общества», конечно, не мог отличаться «плебейской» усидчивостью. В итоге он так и остался, несмотря на полученный в 1839 году диплом кандидата прав, скорее образованным дилетантом, хотя и достаточно уверенным в энциклопедичности своих знаний.
Более важными университетские годы были для становления характера и взглядов Васильчикова. Необычайно честолюбивый, он, по воспоминаниям одного из товарищей, «пользовался властью трибуна в весьма анархической республике своих товарищей, соединившихся в корпорацию по немецкому образцу». Примечательно, однако, что это «тайное» студенческое общество, главой которого стал молодой князь, по его инициативе приобрело отчетливую антинемецкую направленность. «Русские, – писал он в то время, – почувствовав свою собственную силу, воспрянули от долгого сна и выбросили из себя вкоренившееся мнение, что мы без немцев ничего не сделаем!» Подобные эскапады, возможно, были по-юношески несерьезны, однако они отражали не только противостояние эфемерных «немецкой» и «русской» партий при дворе Николая I, но и важные особенности формировавшейся полуоппозиционной «национальной идеологии». Устойчивую (и рационально не вполне объяснимую) антипатию ко всему «немецкому» Васильчиков сохранил до конца своих дней.
По окончании университета князь становится одним из членов так называемого «кружка шестнадцати» – своеобразного сообщества молодых фрондирующих аристократов, несомненным лидером которых был М. Ю. Лермонтов. «Каждую ночь, – вспоминал позднее один из „шестнадцати“, граф К. В. Браницкий, – возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии вовсе и не существовало…»
Сохранившиеся о «шестнадцати» сведения скудны и противоречивы. Известно, однако, что в 1840 году большинство членов кружка покинули Петербург, причем их отъезд имел все признаки наложенной свыше опалы. Васильчиков в составе целой группы чиновников был отправлен в Закавказье для реформирования гражданского управления края. С характерной для своего поколения демонстративной усмешкой, столь ярко запечатленной в «Герое нашего времени», он писал перед отъездом сестре: «Принести в жертву блестящую карьеру – в этом есть что-то таинственное, сентиментальное и мизантропическое, что мне нравится бесконечно. Вполне уместно для молодого человека, который в течение полугода предавался тяжелому ремеслу светского человека».
Никаких жертв рассчитанная на год вполне мирная поездка, конечно, не подразумевала. По ее окончании Васильчиков отправился отдыхать в Пятигорск и именно там 15 июля 1841 года вписал свою страницу в историю отечественной литературы, став секундантом на дуэли М. Ю. Лермонтова с майором Мартыновым, окончившейся гибелью поэта. Дуэли, конечно, были запрещены, и Васильчикову грозило очень суровое наказание. Прощен он был, по официальной формулировке, «во внимание к заслугам отца его».
Неприятная история отразилась бы на карьере Александра Илларионовича, если бы он хоть немного был озабочен восхождением по лестнице чинов и должностей. Однако амбиции князя, судя по всему, были несколько иными: никакого служебного рвения он не проявлял и даже прослыл в Петербурге «вольнодумцем». Биографы Васильчикова любили впоследствии пересказывать историю о том, как его призвал к себе император и потребовал «перемениться», на что Васильчиков отвечал, что никакой вины за собой не знает, и вновь услышал строгое: «Переменись!» Стоит, впрочем, добавить, что заработать репутацию «опасного либерала» при Николае I было не очень сложно. Другое дело, что Александр Илларионович, очень болезненно относившийся к намекам на высокое положение своего отца, просто не мог реализоваться на службе, поскольку любой успех в этой сфере не был бы воспринят как отражение его собственных способностей («мученик фавора» – так метко охарактеризовал кто-то из современников эту своеобразную ситуацию).
Между тем атмосфера в Петербурге становилась все более мрачной, и в год европейских революций и наступления беспросветной реакции князь испрашивает разрешения оставить столицу и уехать в провинцию для «службы по дворянским выборам». Это, несомненно, был вызов, и граф Блудов, начальник II отделения Императорской канцелярии, где числился Васильчиков, даже отказался докладывать императору (не особенно жаловавшему дворянскую корпорацию) о просьбе своего подчиненного. Впрочем, разрешение в конце концов было даровано, и в 1848–1854 годах Александр Илларионович был сначала уездным, а затем и губернским предводителем дворянства Новгородской губернии, где находилось фамильное поместье Выбуты.
Судя по всему, никакого удовлетворения новая деятельность ему не принесла, что неудивительно: дворянские органы при Николае I пребывали в беспробудном летаргическом сне, располагаясь где-то на задворках административно-бюрократической системы. Но хотя предводительский опыт Васильчикова трудно было назвать бесценным, он, несомненно, был очень важен для превращения столичного аристократа в человека, не понаслышке судящего о проблемах российской провинции.
Смерть Николая I и восшествие на престол его преемника, будущего царя-освободителя, застало Васильчикова в Ковенской губернии в рядах ополчения (шла Крымская война). Зная последующую биографию князя, трудно объяснить, почему он не принял более активного участия в подготовке крестьянской реформы, которой горячо сочувствовал. Видимо, для немногочисленной и сплоченной группировки реформаторов, центральными фигурами которой стали, с одной стороны, представители либерально-бюрократической элиты (Н. А. Милютин, Я. А. Соловьев), а с другой – славянофилы (Ю. Ф. Самарин, князь В. А. Черкасский), он не стал еще вполне «своим». Как бы то ни было, в 1861 году он занимает должность члена Новгородского губернского по крестьянским делам присутствия, то есть оказывается в первых рядах тех, кто взял на себя нелегкое бремя реализации реформы. Присутствия являлись губернской инстанцией, контролировавшей действия мировых посредников и решавшей наиболее сложные споры помещиков и их бывших крепостных. В России, где всегда особенно много зависело от того, как претворяются в жизнь принятые законы, роль крестьянских учреждений была огромной. В первые годы после освобождения крестьян в числе их сотрудников оказались, по почти всеобщему признанию, лучшие представители поместного дворянства. Их задача была тем более сложной, что в среде собратьев по сословию они (если только не занимали откровенно продворянской позиции) неизбежно приобретали репутацию «красных», «ненавистников дворянства» и тому подобное.
Необходимость постоянного нравственного выбора, конечно, была тяжела; предполагала она и выбор политический. Чем в новых условиях должно стать дворянство? Сословием землевладельцев, открытым для пополнения из других классов общества, замкнутой корпорацией, оберегающей свои ряды от проникновения чуждых элементов, основой для создания цензовой общественности, которой следует передать политические права? А может быть, оно должно раствориться в народной массе?
Точка зрения Васильчикова была сформулирована им в письме к известному эмигранту князю П. В. Долгорукову: «Надо следовать примеру английской аристократии, которая, однажды убедясь в народном мнении, старается не только согласиться, но даже и опередить его требование. Поэтому я и думаю, что надо принять программу широкую, весьма либеральную, которая бы обезоружила противников с любой стороны». Это кредо в общем виде разделяли с Александром Илларионовичем очень многие представители «передового» дворянства. Вопрос, однако, заключался в том, что именно следует вкладывать в понятие «либеральная программа».
Васильчиков присоединился к голосу тех противников немедленного ограничения самодержавия, которые полагали, что «в стране, где подавляющее большинство населения не имеет понятия о политических правах, народное представительство было бы только театральным представлением», к тому же исполняемым исключительно в интересах высших классов. Подобная точка зрения была одновременно и руководством к действию. Подобно Николаю Милютину и Юрию Самарину, князь считал, что необходима длительная подготовка к политической свободе, которая может и должна проходить в рамках народной школы и местного самоуправления.
1 января 1864 года было принято Положение о земских учреждениях, а уже в следующем году князь Васильчиков был избран гласным Старорусского уездного и Новгородского губернского земских собраний первого созыва. Однако деятельность земств, как и следовало ожидать, с самого начала оказалась осложненной взаимоотношениями новых учреждений с администрацией. Дух противостояния, как правило, преобладал над идеей сотрудничества. Губернаторы и Министерство внутренних дел относились к органам самоуправления с нескрываемым подозрением, отчасти обоснованным: русское общество бурлило, долго подавлявшаяся жажда деятельности, нетерпение и раздражение выплескивались наружу и земские собрания действительно очень часто, забывая о своих прямых обязанностях, превращались в своеобразные политические клубы. Всего через пару лет после их открытия правительство уже начало обсуждать возможные меры по «умиротворению» оппозиционных учреждений. В этом противостоянии позиция Васильчикова была совершенно определенной. Министр внутренних дел П. А. Валуев (в былые времена собрат Васильчикова по «кружку шестнадцати») неоднократно предлагал ему пост губернатора в нескольких губерниях (на выбор), но неизменно получал отказ.
Маятник внутриполитического курса окончательно качнулся в сторону реакции после 4 апреля 1866 года (день покушения Каракозова на императора). В Петербурге все громче раздавались голоса о необходимости «охранительной», консервативной политики. Но ведь и в эти понятия мог вкладываться совершенно разный смысл. Существовал выбор: ограничиться усилением административной власти, благо, что такой путь был вполне привычным, или попытаться реализовать программу, подразумевавшую усиление роли поместного дворянства в земствах и крестьянских учреждениях, разрушение общины, а в конечном счете – предоставление дворянству политических прав, словом, осуществить тот комплекс идей, активным сторонником которых были граф В. П. Орлов-Давыдов и его единомышленники.
Правительство, как это часто бывает, не решалось на действия, ограничиваясь декларациями. Одной из таких деклараций стала распространявшаяся в верхах записка псковского губернатора Б. П. Обухова, как поговаривали, инспирированная новым шефом жандармов графом П. А. Шуваловым. Сравнив быт немецких фермеров-колонистов с жизнью русских крестьян, губернатор пришел к предсказуемому выводу о необходимости насаждения участкового землевладения взамен общинного; много писал он и о возможных мерах по обузданию земств, настаивая на усилении в них помещиков и необходимости «собрать разрозненные охранительные элементы».
Именно с этой запиской был связан первый значительный опыт Васильчикова публичной политической полемики, опыт, сразу поставивший его в первый ряд отечественных публицистов. В 1868 году под ставшим крылатым названием «Русский администратор новейшей школы» записка Обухова была издана в Берлине с предисловием Ю. Ф. Самарина и резкими комментариями «псковского землевладельца» А. И. Васильчикова.
«О русском консерватизме весьма трудно составить себе ясное понятие, потому что все партии у нас называют себя охранительными», – писал Александр Илларионович. Консерватизм – «слово, за которым нет ни определенных понятий, ни ясных представлений», «отличный конек, на котором можно провозить к нам всякого рода контрабанду польского и немецкого происхождения». В основе его лежит, по мнению Васильчикова, представление о русском народе как о «стихийной силе», которую должны направлять «другие силы, разумные, умственные… то есть европейская цивилизация и представители ее».
На первый взгляд все здесь перевернуто с ног на голову. «Охранитель» Обухов обращается в поисках идеала к Европе, а либерал Васильчиков оказывается защитником самобытности русского народа, выступая против «инородческих» учений. Однако это не просто один из парадоксов, которыми так богата история отечественной политической мысли. Вероятно, можно говорить о важнейшей особенности российского либерализма эпохи Великих реформ: он развивался в противостоянии не только расцветшему в России в 1860-е годы революционному радикализму, но и классическому европейскому либерализму. И если в основу последнего легла концепция права, то русский либерал ориентировался скорее на идею правды (иначе говоря, пусть не социальной справедливости, но хотя бы социальной ответственности имущих классов). Возможно, это утверждение верно по отношению не ко всем либералам пореформенной поры, но оно, безусловно, приложимо к убеждениям и деятельности князя Васильчикова. По точной формулировке придерживавшегося близких взглядов А. Д. Градовского, «в нем крепка была одна, чисто русская черта характера. Как ни велико казалось ему известное благо, он заранее от него отказывался, если для усвоения его нужна была неправда. Если блеск и высокий уровень цивилизации должен иметь в основании своем экономическую неправду, князь Васильчиков заранее отрекался от нее». Нет нужды говорить, почему такой подход был столь же симпатичен с точки зрения нравственной, сколь уязвим с экономической.
В 1868 году нечерноземные губернии поразил голод – первый после освобождения ощутимый симптом того, что сами собой крестьянские хозяйства едва ли встанут на ноги. А на рубеже 1869–1870 годов в петербургском доме Васильчикова стихийно сложился немногочисленный кружок земцев, экономистов и либеральных чиновников, поставивших своей целью создать учреждения, которые стали бы для народа школой экономической свободы, подобно тому как земства призваны были превратиться в школу воспитания свободы гражданской. Так возник проект знаменитых ссудо-сберегательных товариществ – массовых кредитных артелей, объединявших небогатых крестьян, каждый из которых вносил очень небольшой первоначальный взнос и получал право на краткосрочный заем под невысокий процент. Потребность именно в таком кредите была чрезвычайно велика из-за обычной в русских деревнях нищеты, которая вынуждала крестьян занимать деньги (или хлеб) под чудовищный ростовщический процент или крайне невыгодные отработки.
В основу товариществ был положен принцип взаимной ответственности по долгам, который должен был дисциплинировать участников, привить им те качества, которых так недоставало бывшим крепостным. По признанию одного из членов кружка, трудно представить, «до какой степени народ привык к неаккуратности, к обману, до какой степени мало заботится он о своих интересах и до какой степени мало можно ему доверять».
Примечательно, что за образец были взяты получившие широкое распространение в Германии «народные банки», пропагандировавшиеся одним из основателей европейского кооперативного движения – Г. Шульце-Деличем. Однако немецкие рецепты все-таки не признавались полностью применимыми на русской почве. Шульце уповал на самоорганизацию масс, а, по мнению Васильчикова, только содействие «образованных классов» и государства могло дать необходимый импульс масштабному внедрению народного кредита. Проект действительно получил серьезную поддержку либеральной общественности и был в целом благосклонно воспринят министром финансов М. Х. Рейтерном, обеспечившим кредитование товариществ Государственным банком.
Бурный рост числа ссудо-сберегательных товариществ в первой половине 1870-х годов (к 1878 году их уже было около 700 со 150 000 членов) как будто оправдывал надежды «петербургских кооператоров». Однако к концу десятилетия в деятельности этих кредитных учреждений наметился ощутимый спад. Ожидаемого подъема крестьянских хозяйств они не вызвали (и не могли вызвать, поскольку не устраняли причин кризисных явлений). В общем, не произошло переворота и в экономическом сознании народных масс, зачастую продолжавших воспринимать льготный кредит как вид безвозвратной благотворительной помощи. Справедливости ради надо отметить, что многие представители образованного общества также не понимали или не хотели понимать разницы между добровольным, а значит, ответственным кредитом, который не может быть одинаково доступен всем поголовно, и уравнительным распределением тех или иных экономических ресурсов. Радикальные критики «васильчиковцев» обвиняли товарищества в «подрыве общинного духа», «распространении ссуд для кулаков» и так далее. В то же время консерваторы усматривали в них же «социалистические» тенденции, ссылаясь на генетическое родство кооперативных идей с концепциями Прудона, Луи Блана и Фердинанда Лассаля.
Некоторая противоречивость во взглядах Васильчикова и его товарищей действительно существовала: с одной стороны, товарищества не должны были ставить основной своей целью получение коммерческой прибыли (и потому их существование во многом зависело от «подпиток» извне), с другой – кредитные учреждения могли функционировать только по законам рынка. Поиски некоего «третьего», «срединного» пути между свободой и необходимостью, классической либеральной доктриной и социальными проектами занимали Васильчикова до конца его дней.
Те проблемы, с которыми с самого начала своей деятельности столкнулись земские учреждения, способствовали появлению обширной аналитической литературы. Юристы, экономисты, историки пытались осмыслить историю самоуправления в России, европейские концепции и практику подобных учреждений в Англии, Франции, Пруссии, место земств в государственном строе Российской империи. Непосредственно участвовавший в становлении земств Васильчиков сумел внести в тогда еще только начинавшуюся полемику свой, достаточно оригинальный вклад.
В 1869 году вышел в свет первый том его труда «О самоуправлении». Обзорный характер, доступность формы, дефицит подобного рода энциклопедических изданий, наконец, принадлежность автора к «высшему обществу» моментально сделали книгу чрезвычайно популярной. Но у этого успеха была еще одна, более глубокая причина. Взгляд Васильчикова, может быть, и не отличался глубиной, зато удивительно соответствовал ожиданиям большей части русского общества – передовой, но при этом весьма умеренной.
Состояние и значение самоуправления, по Васильчикову, зависят не столько от формально-юридического и даже не от политического положения его органов, сколько от уровня гражданской зрелости общества. Поэтому «не механизм избрания, не состав избирательных съездов, не умножение числа голосов и беспредельное расширение выборного права решают участь свободы и самоуправления». Своеобразным идеалом для князя являлись местные реформы в Англии, где расширение народных прав происходит «не насильственно, не повелениями и указами, а сознательно, в виде предложения от правительства, принимаемого народом». Там же (читай: в России), где народные массы «переходят внезапно от совершенной бесправности к политической самодеятельности», неизбежно появляется антагонизм между народом и правительством. В результате правительство не воспринимает всерьез местные нужды, а народ рассматривает законы как «стеснительные условия, которые могут быть обойдены при всяком удобном случае».
С таким диагнозом трудно было не согласиться. Однако, переходя от общих выводов к рассмотрению положения в пореформенной России, Васильчиков оказывался на чрезвычайно шаткой почве: логика требовала столь же трезвой оценки ситуации в русской деревне, где правовые нормы прививались с громадным трудом из-за изолированности крестьянства, буквально «замурованного» в общине. Между тем во многом именно на общине покоилось все здание крестьянской и земской реформ. Выступать против нее значило лить воду на мельницу столь нелюбимой князем за космополитизм «аристократической партии»; признать же за общиной счастливую будущность значило присоединиться к хору разнообразных утопистов, к которым князь испытывал объяснимую для человека его происхождения антипатию. И вновь он пытается нащупать тонкую грань между двумя «крайностями». Антагонизм между общиной и частными землевладельцами вымышлен, утверждает он, да и вообще ей придают «несколько преувеличенное и ошибочное значение». С другой стороны, как своеобразный орган самоуправления и как гарант от пролетаризации крестьянства она имеет безусловно положительное значение, хотя и создает определенные препятствия для агротехнического прогресса.
Видимо, окрыленный публичным признанием (за короткий срок его книга выдержала два переиздания), Васильчиков решился более подробно рассмотреть весь комплекс проблем, связанных с самым болезненным для дореволюционной России вопросом – аграрным. В 1876 году был издан его двухтомный труд «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах», также очень сочувственно встреченный обществом, однако подвергнутый резкой и даже уничижительной критике в книге авторитетных ученых Б. Н. Чичерина и В. И. Герье «Русский дилетантизм и общинное землевладение». Возможно, Васильчикову не стоило углубляться в историю древней и средневековой Европы и России: ничего нового здесь он сказать не мог, зато предоставил повод для иронии критиков, цепким взглядом профессионалов обнаруживших в книге массу ошибок и противоречий. В итоге даже К. Д. Кавелин, поначалу восторженно оценивший труд князя, вынужден был признать, что он «более принадлежит к публицистической, чем к ученой работе».
Полемика вокруг этой книги Васильчикова чрезвычайно показательна для судеб русского либерализма. Конечно, возмущение Чичерина и Герье вызвали не фактические ошибки, а то, что они восприняли как «социалистическую ересь»: резкая критика европейских порядков за социальную несправедливость, отказ признать ценности классического либерализма (наемный труд, считал Васильчиков, так же несвободен, как и крепостной, а в результате свободной конкуренции неизменно выигрывают высшие классы). «Князь Васильчиков, – указывал Чичерин, – проповедует социализм так же, как известное лицо в комедии Мольера говорило прозой, само того не ведая». Социалисты, продолжал он, «мечтают о том, чтобы всех подвести под один уровень, „сглаживая по возможности социальные неровности“, как говорит князь Васильчиков. Но результатом этих наделений и уравнений может быть только равенство рабства и нищеты».
Свой «ответ по существу» князь дал спустя несколько лет в книге «Сельский быт и сельское хозяйство в России», вышедшей в 1881 году – в год его смерти (умер Александр Илларионович 2 октября 1881 года), смены царствования и очередной перемены политического курса.
Наверное, именно «завещанием» можно назвать эту книгу, писавшуюся в тревожную пору разгула народнического террора, растерянности и равнодушия в обществе, отовсюду приходящих известий о катастрофическом положении в деревне. В 1880 году, с назначением на пост фактического главы правительства графа М. Т. Лорис-Меликова, правительство, казалось, очнулось от тяжелого сна. В верхах стремительно, даже лихорадочно стали разрабатываться проекты новых реформ. «Теперь опять много благих предначертаний, – писал Васильчиков Дмитрию Самарину, – но это уже не наше дело; я, по крайней мере, почувствовал после смерти Вашего брата (Юрия. – И. Х.) и Черкасского полнейший упадок сил и живу только воспоминаниями».
Он действительно подводил итоги… «Мы предприняли одним разом слишком много, не рассчитав наперед наших сил, – обобщал князь опыт реформ, – мы устроили много наиполезнейших учреждений, ввели много лучших порядков, не сделав предварительно сметы, что́ они будут стоить, и не определив источников, из которых будут покрываться расходы». Окончательной ревизии подвергся и западный либерализм, именовавшийся не иначе как «либеральным доктринерством, которое придавало преувеличенное значение формам правления и суда, свободе слова, печати, равноправности и свободе труда и торговли». «Отрицать пользу либеральных учреждений, – спешил уточнить князь, – было бы, разумеется, безрассудно, но ожидать от них разрешения социальных замешательств нашего времени, воображать, что под охраной свободы… низшие классы будут постепенно сознавать яснее свои нужды и пользы, – это нам кажется опасным самообольщением». Либеральное общественно-политическое устройство, по Васильчикову, лишь форма, которую необходимо наполнить социальным содержанием: «Как бы ни были высоки цели, надо в первую очередь подумать о средствах и укротить порывы к гражданскому и государственному благоустройству, покуда не обеспечено и не упрочено народное благосостояние».
Васильчиков и не думал отвергать базовые либеральные ценности или настаивать на уникальности пути, который предстоит пройти России. «Переход имуществ из слабых и несостоятельных рук к самостоятельным владельцам есть общий закон всех человеческих обществ», – подчеркивал он. Кроме того, демократизация земельной собственности, «представляя большие выгоды в социальном отношении, имеет бесспорно и ту опасную сторону, что развивает хищническую [агро]культуру». И все-таки «в критические минуты для народных масс нужно разумное и твердое руководство, помощь кредита, содействие правительства и образованных классов». При этом «предположения об обеспечении продовольствия и других нужд целого населения надо бы раз и навсегда признать несбыточной мечтой». Уравнительная благотворительность может существовать, но она не должна быть ни основным средством, ни целью государственной политики.
Б. Н. Чичерин в своих воспоминаниях передает со слов В. И. Герье любопытный эпизод: известный европейский писатель социал-демократического толка Георг Брандес, присутствуя в качестве почетного гостя на ежемесячном обеде московской интеллигенции, поинтересовался направлением обедающего кружка и, получив ответ, не вытерпел, вскочил и обратился к собравшимся: «Что я слышу, господа? Мой почтенный сосед уверяет меня, что вы социал-демократы и вместе с тем считаете себя либералами. Да ведь это невозможно! Это монстр! Это теленок о двух головах!» Однако то, что для Брандеса и Чичерина было свидетельством интеллектуального сумбура и даже невежества, для Васильчикова являлось лишь признанием необходимости активной социальной политики, которая позволила бы избежать революционных потрясений.
Впрочем, и здесь он парадоксальным образом в чем-то повторил путь, пройденный политической мыслью нелюбимой им Германии, где аналогичные тенденции привели к созданию в 1872 году знаменитого «Союза социальной политики», идеологи которого (государствовед Гнейст, экономисты Шмоллер, Брентано, Шенберг) противопоставляли себя как классическим либералам-фритредерам, так и социалистам.
Стоит добавить, что в среде российской интеллигенции, действительно весьма склонной к самым подлинным социалистическим увлечениям, Васильчиков всегда держался особняком. По отзыву первого его биографа А. Голубева, принадлежавшего именно к этой среде, «начиная с внешнего вида и кончая его отношением к людям Александр Илларионович до самой смерти остался барином».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































