Текст книги "Две жизни. Том II. Части III-IV"
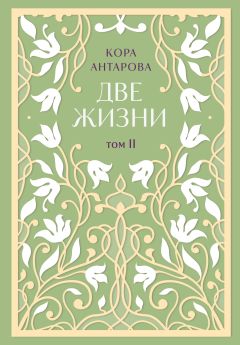
Автор книги: Конкордия Антарова
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Иллофиллион замолчал, так как мы очутились у дома Аннинова, что для меня было снова неожиданностью.
Дом музыканта, когда мы вошли в него, показался мне совсем другим, чем тогда, когда мы слушали в нём дивную музыку. Мне почудилось, что комнаты заполнены какой-то грустью, точно живущий в них человек много и часто тосковал.
Я всем сердцем пожалел музыканта-гения, не находившего счастья и света в своём великолепном даре. О, если бы я умел так играть!
– Твоя игра, Лёвушка, – речь. Твой дар – перо, твоя правда – мир сердца. Своё «если бы» прибереги для тех часов труда, когда великие помощники будут окружать тебя. Тогда проникай в обстоятельства каждого так, как если бы ты сам в них жил, сам страдал и любил за каждого из своих героев. Сейчас, здороваясь с Анниновым, помни слова Франциска и держи сердце широко открытым, протягивая ему руку вместе с рукой твоего великого друга Флорентийца. Не наблюдай сейчас страданий духа человека, но твори великое моление Любви, сострадая душе, мощь которой не соответствует той силе гигантского дара, который ей приходится нести по миру, – сказал мне Иллофиллион.
Он встал с места, где мы присели было на минуту под огромной пальмой, занимавшей почти ползала, и пошёл навстречу входившему Аннинову. Лицо музыканта было, как всегда, бледно, придавая ему вид аскета; выражение глаз и что-то неуловимое во всей его фигуре, несмотря на радостную улыбку, с которой он встретил Иллофиллиона, говорило о переживаемом им страдании. Если бы Иллофиллион и не сказал мне ничего, я всё равно сейчас воззвал бы к Флорентийцу, как привык делать это всегда в тяжёлые моменты встреч с людьми, находящимися в состоянии духовного разлада.
После первых радостных слов привета Аннинов поглядел на меня пристально и сказал:
– Как исключительно счастливо вы изменились. На моих глазах совершилось живое чудо, как будто из Золушки вы превратились в сказочного принца. Жаль, что я так печально настроен и мне под стать писать сейчас только реквием, а не то я написал бы сонет, как проснулся очарованный лебедь.
Он ласково держал меня за руки, я же всем сердцем творил то великое моление, о котором говорил мне Иллофиллион. Внезапно я почувствовал знакомое мне содрогание во всём теле. Я понял, что моя мысль достигла Флорентийца, что Его сердце видит Аннинова и Он пошлёт ему помощь и поддержку.
– Удивительное в вас свойство, доктор Иллофиллион, – сказал Аннинов, выпуская мои руки и поворачиваясь к Иллофиллиону. – Стоило вам войти – и меня всего точно окропили живой водой. В моей душе царил такой хаос, такой разлад, что я готов был убить в себе или сердце, или ум. Я думал, что не сумею примирить их никогда больше. А вот увидел вас, и какая-то мгновенная тишина охватила меня. Я думал, что не только написать больше ничего не сумею, но даже и играть не смогу. И вдруг почувствовал сейчас страстное желание написать прелюдию и воспеть в ней мир и гармонию, которые вы несёте в себе.
– Вам пришла эта мысль только потому, что мир и гармония вдруг охватили вас. И вы их поняли, оценили и сразу же захотели осчастливить ими всех тех, кто может понять ваш язык – язык музыки. Нельзя дать кому-либо того, чем не владеешь сам, чего не имеешь сам. Потому-то среди проповедников новых идей так мало тех, кто достигает успеха, что проповедь их чисто формальна. Призывая свой народ к жертвам и лишениям ради высоких идей, проповедники чаще всего внедряют законы и обязательства, исключая из них самих себя и оставляя себе все привилегии и преимущества. Те же из них, кто несёт проповедь не словом, а собственным живым примером, всегда достигают успеха. Вам хочется передать людям всю красоту, которая открылась вам сейчас. Что же может быть прекрасней такого пути, где одному человеку дана мощь пробуждать к действию благородство тысяч, устремлять их дух к желанию творить в своей области только потому, что творчество одного пробудило их?
– С вами, доктор Иллофиллион, я не могу быть лицемерным. Вы думаете, что всё творчество, всю свою жизнь я несу для блага и счастья людей? О, если бы действительно я мог сказать, что это так! Правда, у меня бывают длительные периоды, вдохновенные порывы, когда я живу во власти красоты. Когда я рад, что имею что сказать на моём языке звуков. И тогда, в эти блаженные периоды, я счастлив. Я сознаю, что служу своим братьям-людям, как могу и умею. Меня не волнуют вопросы политики, социальных проблем, лжи, воровства, нищеты и обманов. Я весь живу в космической жизни, я стою у порога Вечности, вижу и ощущаю её величие. Мои личные силы замирают для земной жизни, я шлю тогда звучащее мне небо любимой земле. И тогда я понимаю моё место во Вселенной и знаю, что сила Любви несёт меня и живёт во мне для земли, для людей, для священного труда: поднимать выше дух человека. В эти периоды я сознаю себя человеком, то есть человеком, несущим века и века частицу Бога…
Аннинов ходил, широко шагая, по залу. Его аскетичное лицо было вдохновенно. Глаза зажглись, он глубоко дышал, казалось, он слышит, как движется вокруг него красота, как она поёт и летит в Свете, звуча и животворя. Он довольно долго молчал, потом остановился перед Иллофиллионом и продолжал:
– Но… краткими мгновениями кажутся эти периоды, когда я сознаю, что я человек, что во мне живёт дыхание Бога. Каждый раз какая-нибудь мразь из внешнего мира кладёт конец всей моей песне торжествующей Любви. Не великое и мощное выбивает меня из священной литургии, где я живу, но какая-нибудь низкая сплетня, ничтожная мерзость вроде гнусной клеветы или ревнивой страсти заставляют меня покидать моё небо, мою музу. Я начинаю видеть людей не человеками, какими я их видел и любил в моём счастье творчества, но гадами, смердящими ядом и наполняющими им несчастную землю. Жало впивается в моё сердце при виде тюрьмы, арестанта, нищеты и унижений, а я живу с царской роскошью, в то время как стонет и бедствует мой народ.
Кнут бьёт тех, кто несёт в себе Бога. Кнутом бьют те, что носят в себе Бога!.. Несчастная, рожая вне брака в позоре, прячась под забором, тоже несёт в себе Бога? Несчастные крепостные, продаваемые за жалкие рубли врозь со своими детьми, несут в себе Бога? И… Вы живёте на земле, говорите о силе Любви и мира… И помощь ваша, ощутима ли она для этих несчастных? Мне вы помогали и помогаете. Не будь вас и священного места вашей Общины, где я нахожу силы приходить в норму, я не мог бы прожить и года, я умер бы от ужаса тех страданий, которые вижу и которые видеть не хочу… Вы говорите, что у меня есть свой язык, которым я вещаю людям стремление к Свету. Ах, если бы вы могли прочесть тот мрак, что царит в моём сознании! Я не в силах был пережить мук моего народа, бежал в Америку, чтобы там найти силы жить. Но я их не нашёл. Я видел то же страдание, правда на иной лад, но страдание, нищету и рознь не менее страшные, чем на моей родине… Я встретил вас. Я понял многое. Я нашёл силы жить. Но мой дух, вернее моё сознание, не имеет сил выносить тех адских распятий, через которые мне приходится идти. Сердце говорит мне: «Любя, побеждай», а мозг говорит мне: «Ненавидя борись». Где же истина? Где какой путь? Я снова готов писать реквием, от которого отказался, пожимая руку этого юноши, этой дивной расцветающей жизни. Но для чего жить и ему? Семья? Слава? Путешествия? Труд? Наука и творчество?..
Аннинов махнул рукой и снова стал шагать по залу. Теперь он напоминал фанатика. Взор его блуждал, глаза горели, он сжимал до боли свои прекрасные огромные руки и готов был поднять их не то в мольбе и любви к Богу, не то в угрожающем жесте спора и проклятий.
– Помните ли вы, друг, как однажды в Нью-Йорке весь зал ждал вас на концерте более сорока минут, а вы всё не выходили на эстраду? Помните, как я пришёл к вам, в вашу артистическую комнату? Как мои несколько слов, переданные вам от Флорентийца, подняли вас над всем личным, что вам тогда казалось обязанностью гражданина и высшей честью человека-джентльмена. Помните ли вы, как изменилось тогда ваше психологическое состояние, как весь внутренний бунт, который владел вами, показался вам сразу мелким и недостойным человека-творца и как, наоборот, вы поняли свою преступную небрежность к ждавшей вас терпеливо, боготворившей вас публике? Тогда ваша духовная жизнь, жизнь творца и музыканта, висела на волоске. Вы могли так и остаться в артистической комнате и совсем не выйти к ждавшей вас толпе. И тогда вы сами, в своём личностном, эгоистическом бунте сожгли бы плоды всех своих вековых трудов в искусстве. И в этот миг сгорел бы для вас весь путь красоты. Не только единить людей вы не смогли бы больше, но для вас закрылось бы звучащее небо. Вы говорите, что нет больше ваших сил выносить распятия, через которые вы проходите этапами вашего искусства? Но искусство, каждый шаг в нём вперёд приходится выносить с трудом лишь тому человеку, который выхватил кусок красного огня с неба и не выработал того самообладания, где чистота сердца равна мощи духа. Если бы вы в своих буднях каждое мгновение жили у черты Вечного, вы бы знали, что два мира Вселенной не бывают разъединёнными и нет двух мест для его творчества и для его служения людям. Вы не различали бы земных людей от тех сияющих гениев, которых видите в часы творчества, но знали бы твёрдо, что каждое мгновение только и может быть дыханием Вечного.
Я спрашиваю вас, что заставляет вас страдать от тех или иных людских пороков. Вглядитесь, вдумайтесь, и вы увидите: только те трещины неуверенности в вашем собственном миросозерцании, которые вы сами расширяете, выплёскивая и прибавляя к яду людей своё собственное раздражение. Посмотрите, жизнь в этом доме была нерушимо спокойна, когда вы сюда вошли. Первое, что вы сказали: «Наконец-то! Наконец я нашёл мирный угол! Здесь я буду творить!» Много ли прошло для вас здесь мирных трудовых дней? Родина тревожит вас? Смута и нищета народная? Мелкие люди, обман и фальшь? Но ведь сейчас всё это, физически столь далёкое от вас, бурно клокочет в вас самом. Если бы вы могли видеть себя, видеть то кольцо огней, в котором вы движетесь, как в костре, и которое вы сами же создали, вы пришли бы в ужас и отчаяние и, пожалуй, ваш реквием был бы готов завтра.
Принося земле звуки, которые помогают людям жить, вы забыли о силе дисгармонии, которая бьёт людей, как кнут, всегда, когда вы творили, измученный своим собственным разладом. Задумайтесь, дан ли вам дар для того, чтобы ранить им людей. Кроме знания своего места во Вселенной, у гения есть ещё и обязанности, отличающиеся от обязанностей прочих людей. Гений, неся свои дары земле, не должен сбиваться с пути лёгкой радости: быть гонцом Света. Для гения нет того же пути, который обычен для средних дарований. В его труде всегда сотрудничество неба и земли. Но труд-счастье переходит для него в наказание, если он перенёс центр тяжести так, что душа его оказалась слабее мощи его дара. И в этих случаях, друг, помощь может быть только одна: надо забыть о себе и думать о тех, для кого вам дан дар.
Вы сказали мне прошлый раз: «Я не могу безнаказанно спускаться на землю». Да, если вы спускаетесь на землю, то это будет всегда трагедией. Лично для вас это будет наказанием и проклятием, для дара вашего – потерей, а для людей – лишением, ибо гений – это человек, не разъединяющийся с Теми, Кто с ним вместе творит. Творить… О, это не значит всегда побеждать или неустанно заниматься своим ремеслом и его деталями. Это значит крепить своей верностью искусству связь людей с Теми старшими братьями, которые приняли на себя сотрудничество земное с вами. Каждый раз, когда гениальное вдохновение было не принято вами или растрачено зря, не достигнув цели, вы оставляли энергию Любви неиспользованной. И она возвращалась к своему первоначальному источнику, не принеся пользы и счастья людям, так как вы, её приёмник, были не в силах её принять и передать встречным. Вы возмущаетесь ложью, обманом, воровством. Подумайте глубоко, войдите в космическое понимание своей жизни и решите сами: чем отличалось ваше поведение в этих случаях от поведения любого вора, обворовывающего свой народ? Ведь вы, имея все возможности, не передали им сокровище, которое было послано через вас им. Не вам оно было дано, но через вас им предназначалось. И вы лишили их не только красоты как таковой, но и познания новых сил в себе, новых восторгов, которые могли и должны были пробудить в них энергию Света для труда и действия в их буднях и отношениях с людьми.
Не поражайтесь, друг. Сделайте выводы и учтите их в будущем. Чем выше человек, тем больше он должен думать о тех своих братьях, которые имеют мало духовных возможностей. Не материальной нищетой их огорчайтесь, а нищетой духовной, которую вы много раз делали ещё беднее. Ваш путь – не путь политика и устроителя земных дел, но путь того, кто ускоряет пробуждение духовного Света в людях через музыку. Не путайте этих путей. Можно и должно быть патриотом, честным и деятельным гражданином своего отечества. Но путь служения своей родине в труде у каждого свой, и перепутать области занятий вовсе не значит расширить своё сознание или сделать свой труд более полезным для сознания встречных.
Пойдёмте с нами. Вам необходимо пройтись по воздуху. Кстати, посмотрите новые картины синьоры Скальради. Не стойте же с таким недоумённым видом, – прибавил Иллофиллион, улыбнувшись артисту. – Можно подумать, что вы вывели из моего разговора заключение, что музыканту, кроме его музыки, закрыты все другие пути знания и деятельности. Это неверно, и я такого не говорил. Надо не суживать горизонт своих дел и мыслей, но расширять его так, чтобы вся Вселенная вошла в ваше сердце. И чтобы вы стали сыном её, а не только сыном своей родины. Гению все пути открыты, но только тогда, когда он не бьётся между небом и землёй, а когда оба мира слиты в нём воедино, ибо в нём самом Гармония закончила счёты своего «я» с единой землёй.
Взяв под руку растерянного Аннинова, Иллофиллион вывел его из дома и пошёл по направлению к Общине.
– Я опомниться не могу! Я мог себе представить себя в разных ролях. И чаще всего, признаться, я мнил себя великим музыкантом, просветителем, благодетелем и джентльменом. Но чтобы я оказался в конце концов вором!.. Слуга покорный! Этого только недоставало на мою бедную голову.
Аннинов был очень комичен в своих жестах, изображая, как он представлял себе своё величие и куда потом попал, поверженный словами Иллофиллиона, он уморительно размахивал руками и делал громаднейшие шаги, голос его то взлетал до высоких нот, то падал вниз. Забыв о нашей пыли, он поднял целое её облако, в котором казался огромным привидением. Я не выдержал и залился своим хохотом.
Музыкант остановился, точно громом поражённый. Он смотрел на меня во все глаза, очевидно напрочь забыв о моём присутствии. На его подвижном лице боролись разные чувства, но всё казалось мне так смешно, что я не был в силах остановить своего глупого смеха.
– Вот она, комедия человеческой жизни! – сказал наконец Аннинов. – Я распят, а ему смешно! Каково же действительно, должно быть, Величайшим из людей наблюдать мелкого воришку, расточающего без пользы их духовное добро! О Господи, только сегодня, сейчас я уразумел, что это такое «Вечное Движение» и кто – Его носители на земле и над нею. Носители Его на земле только те, кто может понять – внутренней, интуитивной верностью – силу в себе не как собственный дар, выработанный своими достоинствами, а как движущееся во времени слияние с Силой, живущей вечно. Ах, если бы мне больше никогда не забыть ни на минуту, что моя земная жизнь – не простое чередование дней, удач или неудач в них, но Движение Силы, вечно живущей и вечно творящей, – движение, к которому я могу только присоединиться, сливаясь в спокойствии и чистоте с Нею, с этой Силой, в музыке. Как легко и просто было бы мне тогда жить! Каким озарённым и наполненным казался бы мне мой каждый день, вереницы которых я пропускаю сейчас так бессмысленно, тоскуя по небу, воруя его дары у несчастной земли и жалуясь на своё одиночество.
Мне было глубоко жаль Аннинова, голос которого теперь звучал глухо и скорбно. Я чувствовал себя виноватым и хотел уже обратиться к нему с извинением, как снова заговорил Иллофиллион:
– Друг, дело не в том, что в эту или другую минуту вы помните или забываете, что вы гонец высших Сил на земле. Но дело в том, чтобы вы, человек гениально одарённый, помнили, что на вас лежит ещё и долг небу. И долг этот заключается в том, чтобы сердце ваше не омрачалось так легко, подпадая под влияние чуждых вам эманаций. Удары этих чужих мыслей только тогда угнетают психику человека, когда он слаб в своей верности Тем, Кого он признал высоким источником своего благоговения, Чьи идеи его пленяют, Кто посылает ему озарение, которое он считает счастьем своей жизни. Много творческих восторгов вы вызвали в толпах людей, передавая им плоды своего счастливого дара. Не одну Голгофу вы прошли, чтобы войти на ту ступень творчества, на которой люди-гении могут отдавать своим братьям Свет слышимой или видимой ими Гармонии.
Вы часто задумывались о встречах с отдельными людьми. Вы не раз поражались, почему вы не дали счастья ни одному живому существу подле себя. Но вы никогда не задумывались о ваших встречах с толпами людей. Почему вы ни разу не подумали, как велико ваше счастье, что вы можете вводить в храм Света, в блаженство Любви и мира множество тех, кто пришёл слушать вас? Как же вы представляете себе ваш подвиг пробуждения множеств людей к высоким чувствам и силам? Можете ли вы безнаказанно для себя проносить по земле преображение этих толп, их отрыв от земных мелочей и их слёзы благоговения, восторга и благодарности за те ощущения великого сияния неба, которые вы им дарите своей музыкой?
Восторг, вызванный в человеке, как и ужас, и скорбь, и страдание, – всё создаёт нить связи, за которую гений несёт гораздо больший ответ, чем простой человек. Если гений вытащил людей из болота страстей в сияющее благородство, хотя бы только на те часы, когда они его слушали, читали, смотрели, то море их благородства и благодарности ляжет стеной вокруг гения, если его гордыня и наслаждение своей властью над ними было преобладающим чувством. В этих случаях связь гения со множеством людей может стать тяжёлым бременем, преградой между ним и его окружением, между ним и его Учителями. Я не говорю о тех печальных случаях, когда гений вводит тысячи людей в заблуждение, прививая им самые разнообразные пороки и затемняя им путь к Гармонии всякими видами собственных изломов, выдавая их за новые искания Истины, к какой бы области творчества эти изломы ни относились.
Все восторги, вызванные в людях, равно как и их слёзы, скорби, страсти, исцелённые или утешенные вашей музыкой, вы можете подбирать в чашу вашего сердца, чтобы подать её как слезу вашей радости – слезу кристальной чистоты, как Господне вино – вашему Учителю. И если вы не радовались этому, если не молили вашего Учителя сжечь все эти страдания в огне Его пламенного духа, они лягут вокруг вас, строя новые преграды условностей между вами и ближними, между вами и вашими Учителями.
С этого дня, подходя к роялю, выходя к толпе, не думайте больше о той или иной манере своей игры, о силе и степени своего темперамента. Но думайте о величии момента, в котором принимаете участие: о пробуждении в людях новых сил, о раскрытии в них совершенно иного пути для действий в жизни только потому, что через вас им был дан духовный импульс. Вам, выходя на эстраду, надо помнить одно: руки ваши опускаются на клавиши вместе с рукой вашего Учителя; звуки ваши – это светоносные стрелы, долетающие до сердца каждого человека в толпе. Как они касаются его, что они пронзают в душе человека, об этом вам не дано задумываться. Ваша задача – знать, что нет пустого пространства между вами и Теми, Кто нисходит в своём духовном образе творить вместе с вами.
Мы подошли к нашему дому и встретили Бронского и Скальради. Артист нёс огромный зонт-палатку и ящик с красками, а в руках художницы, прятавшейся под зонтом вместе с Бронским, было целое ведёрко со всевозможными кистями.
– Мы поспели как раз вовремя, чтобы полюбоваться вашими новыми картинами, синьора Беата, – сказал Иллофиллион художнице.
– О, что вы, доктор Иллофиллион! – беспокойно воскликнула та. – Одну картину я пишу по памяти, без модели, как вы хорошо знаете, и показать её совсем не могу. Это только ещё жалкий набросок. Другая, хотя модель служит мне усердно и тратит для меня очень много времени, всё же ещё не закончена. Я не могу её показать, так как разочарование ваше и ваших друзей может убить во мне всякое желание работать дальше. А вы знаете, сколько раз уже разочарования в моих работах доводили меня почти до нервных расстройств.
– Однако работы, о которых вы много раз уже говорили, что они не готовы, покупались лучшими картинными галереями и были признаваемы выдающимися художниками как законченные и первоклассные произведения. Ведите нас, синьора, в своё святая святых. Пора уже вам утвердиться в верности своему гению, а не ломать линию творчества, всё время делая зигзагообразные дорожки и заставляя целый круг ваших помощников и спутников распутывать петли, создаваемые вашей неуверенностью и сомнениями. Если бы вы могли себе представить ваш путь искусства в виде каната, вы увидели бы на нём целые тысячи узлов и узелков, которые связаны любящими руками ваших милосердных друзей. Идёмте сейчас же. Хоть в эту минуту соберите энергию радости и не отрицайте, а утверждайте и ведите нас смотреть ваши новые победные достижения.
Скальради стояла в нерешительности, и только сейчас я заметил, как много в её фигуре, взгляде и, главное, в движущихся всё время руках и пальцах неуверенности. Никаким счастьем и не веяло от фигуры этой женщины, которую Иллофиллион назвал сейчас гением.
– Если бы на моём художественном пути не было связано так много узлов вашими руками, Учитель, я бы не послушалась вас. Но ваше слово для меня закон, и я повинуюсь вам, не отвечая за последствия, которые будет иметь этот преждевременный, по-моему, просмотр, – тихо и печально ответила художница.
Она повернула обратно, миновала несколько аллей и вышла к гроту, войдя внутрь; мы следовали за ней. Я никак не мог сообразить, куда мы шли. Я знал несколько гротов, однако в этом не был ни разу. Здесь было темно и прохладно, но рисовать здесь было совершенно невозможно. Между тем Бронский не закрывал зонта и в темноте уверенно шёл вперёд, где было ещё темнее.
Через несколько минут путешествия по широкому, прохладному и полутёмному коридору грота мы вышли на большую площадку, где росли три высокие пальмы в сыпучем песке и у выступа одной из скал лежал прелестный мехари.
– Ну, уж мехари-то вам совершенно не нужен больше, – смеясь, сказал Иллофиллион. – Нельзя сказать, чтобы вы были очень милосердны, синьора Беата, и спешили возвратить мехари Зейхеду.
– Вы сами увидите сейчас, Учитель, что картина ещё не окончена. Тогда и решите, нужен ли мне ещё чудесный мехари, – всё с тем же волнением ответила снова художница.
Она поставила на землю своё ведёрко и прошла к самой дальней скале. Только теперь я увидел там нечто огромное, вроде движущегося шкафа, который Скальради с помощью Бронского поворачивала к нам лицом. Большущее плотное покрывало было отдёрнуто, и моему взору представилась картина – нет, не картина, а живой Бронский в одежде бедуина, на живом мехари. Поза его, лицо, руки – я так и ждал, что сию же минуту Бронский спрыгнет с мехари и скажет мне: «Лёвушка, где вы всё пропадаете? Я соскучился». Я вскрикнул от восторга, не мог сдержать порыва радости, бросился к художнице и, обняв её за плечи обеими руками, горячо поцеловал. Только когда раздался общий смех, я понял, какую мальчишескую выходку я снова совершил, и переконфузился совершенно.
– Простите меня, синьора Беата, – сказал я, целуя обе руки художницы. – Я не мог сдержать восторга и благоговения перед таким совершенством. Ведь это не портрет Бронского, о котором я мечтал для него, – это сама жизнь. И увидеть такую картину – значит понять совершенство гения, для которого «знать» значит «уметь».
– Я также прошу вас простить Лёвушку за его восторженное и непрошеное объятие. Он и за нас выразил восторг в своём поцелуе. И я, целуя эти руки, воздаю только должное силе чистого сердца, которое сумело обогатить мир такой красотой, – сказал Иллофиллион. – Уверьтесь же, наконец, в силе своего таланта. Отдайте себе отчёт, что не сомнение заставляет вас прятать свои картины от глаз людей, а страх, претворившийся в вас в ложное самолюбие. Начинайте с этого момента освобождаться от страха. Представьте себе, что вы живёте сегодня свой последний день. Неужели у вас не хватит сил сбросить плесень страха и сомнений? Неужели вы не сможете воспеть Жизнь без язвы отрицания и страха? Начинайте новый этап творчества, крепко возьмите мою руку и в полном самообладании покажите нам вторую картину, – говорил Иллофиллион, держа обе руки художницы в своих руках.
Ручьи слёз катились по прекрасному лицу Беаты. Теперь это лицо было очень бледно, но совершенно спокойно.
– Я знаю, Учитель, что мне надо или вступить в новую фазу жизни моего духа – и в искусстве, и в других делах, – или я должна буду умереть. Я знаю и чувствую, что я остановилась всем своим сознанием; я начинаю понимать, что на этой ступени развития я больше ни жить, ни творить не могу; ни духу моему, ни творчеству нет дальше дороги, пока я не продвинусь по пути освобождения. Но… открыть перед вами сейчас мою новую картину – это и значит умереть Беате – той, что жила до сих пор. Да будет ваша воля выполнена. Хватит ли у меня сил родиться вновь у полотна, которое я открою вашим глазам, я не знаю. Быть может, я там умру, но я иду!
Художница направилась к противоположному выступу скалы, где я только теперь заметил большую раму, закрытую полотном. Как медленно она шла! Казалось, ей вдруг стало сто лет и на каждой её ноге висят пудовые гири. Я подумал, что она не дойдёт, такие усилия она делала, чтобы пересечь сравнительно небольшую площадку.
Наконец руки её коснулись шнура, который она с трудом потянула. Первые её усилия не привели ни к чему. Я уже хотел было броситься ей на помощь, как взгляд Иллофиллиона остановил меня и одновременно напомнил мне о творческом действии сердца и мольбе к Флорентийцу. Я почувствовал, как сам Иллофиллион помогал Беате, вливая в неё уверенность и силы. Я сосредоточил все мои мысли на призыве к Флорентийцу, прося, чтобы он помог ей, и не отрывал моих глаз от художницы.
Она всё продолжала тянуть шнур, и когда, так мне показалось, силы её уже иссякли, а она всё же не выпускала шнура и почти падала, полотно вдруг дрогнуло и сразу раздвинулось. От чрезмерных усилий и внезапно подавшегося полотна художница упала на одно колено и не могла подняться, оставшись в коленопреклонённой позе, с тяжёлым шнуром в руках.
В маленькой группе вокруг Иллофиллиона мне послышалось сдержанное рыдание. Я повернулся туда, оторвавшись глазами от лица Беаты, и увидел Аннинова, который, закрыв лицо руками, весь вздрагивал от рыданий. У меня ещё не было времени взглянуть на полотно, так как лицо Скальради притягивало меня как магнит. Теперь, взглянув на Иллофиллиона, который смотрел на картину и, казалось, забыл всё окружающее, я узнал в его лице то необычайное выражение умиротворения и благословения, с которым он стоял на корме парохода после бури, в тот момент, как за нами обрушились два столба смерча на Чёрном море.
Я почувствовал, что сейчас совершилось нечто великое, повернулся к полотну и отскочил в полном смущении. На меня шёл, неся на плече Эту, я сам. То ли это была игра света, то ли на картине действительно была схвачена экспрессия, почти невероятная для кисти, но мне показалось, что Эта собирается спрыгнуть с моего плеча и я ему улыбаюсь. Я невольно попробовал, нет ли на моём плече моей дорогой птички.
Но это было ещё не всё, что я увидел на картине. Из-за прозрачной завесы между двумя колоннами видна была фигура Иллофиллиона, к которому мы с Этой спешили. Но что творилось с этой фигурой – я понять не мог. Фигура Иллофиллиона на моих глазах становилась всё чётче, оранжевый цвет его хитона, казалось, становился всё ярче, а в руках его были те оранжевые цветы, которые росли и цвели на дереве у его дома, высеченного в скале. Одна его рука была вытянута по направлению к Эте, как бы предлагая птице цветы.
Я обернулся к Иллофиллиону. Лицо его всё сохраняло то же выражение мира и благословения Жизни. Он держал свою левую руку вытянутой, направляя её ладонью к полотну; я повернулся снова к картине, и фигура Иллофиллиона на ней показалась мне ещё более чёткой, законченной. Лицо его на картине сохраняло в точности то выражение, что сияло сейчас на его живом лице.
Я терялся в догадках, не понимая, что за игра света совершается на полотне, и думал, не исчезнет ли чёткость образа Иллофиллиона на полотне так же внезапно, как сказочно быстро она там проявилась. Но фигура сохраняла свою законченность. Иллофиллион опустил свою руку, и в ничем не нарушаемой тишине раздался его голос, голос такого очарования, такой ласки, каких я ещё никогда не слышал.
– Не плачьте, мой друг и брат. Вы присутствовали сейчас не только при первом крещении картин художницы. Вы видите и новое её рождение. Дух человека – на ваших глазах – принял новую сферу влияния в себя. Человек-творец не может стоять на месте. Как нет двух нот, имеющих одинаковое количество колебаний в физическом мире – что вам, музыканту, хорошо известно, – так нет и двух планов, которые может отражать художник, оставаясь включённым только в план физической материи. Дух, не имеющий силы держаться в атмосфере своих невидимых сотрудников, не может двигаться и развиваться – как провод, как гонец неба – для помощи людям земного плана. Вы сейчас наглядно видите помощь, сотрудничество наше с людьми. Силой творческой Любви я привёл в образ мечту Беаты, мечту всей её жизни: изобразить кистью Учителя и ученика. У неё не хватало уверенности и спокойствия. Но когда верность её победила даже страх смерти, помощь пришла гораздо скорее, чем её руки могли бы закончить картину и написать ту фигуру Учителя, о которой она мечтала.
Взгляните на синьору Беату. Разве это та женщина, которую вы только что видели? Это новое рождение к жизни и творчеству существа совсем иного. Это уже жизнь после смерти всего личного; жизнь нашего гонца для труда на земле, для единения людей в красоте. Не терзайтесь так, прошу вас. Поймите, путь Голгофы у каждого свой. И этот путь на земле – путь единственный для каждого, чьё сердце предназначено быть источником знания. Только умирая страстями, творец-человек начинает путь творца-слуги и помощника Учителю. Дышите, не яд пошлости вбирая в себя, но сжигая вокруг себя то несчастье, которое люди выносят на поверхность как показное и условное, думая, что оно единственное в своём роде. Живите и творите так легко, чтобы каждый ваш звук отражал не только ноту вашего сердца, но и звучание того аккорда, который родился у сердца Учителя.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































