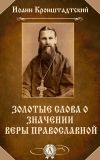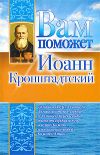Читать книгу "Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней"

Автор книги: Ксения Кривошеина
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Возможно, на формирование вкусов Елизаветы оказала влияние и Софья Ивановна Бодуэн де Куртенэ[31]31
Бодуэн де Куртенэ Софья Ивановна (1887–1967) – живописец, художник-монументалист. Из аристократического французского рода, обосновавшегося на рубеже XVII–XVIII вв. в Польше. Дочь выдающегося ученого-языковеда и общественного деятеля Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ (1845–1929), который в 1899–1918 гг. был профессором Санкт-Петербургского университета.
[Закрыть], молодая художница, постоянный участник выставок «Союза» и близкая подруга Н. Войтинской. Может быть, именно поэтому дебют Кузьминой-Караваевой как живописца связан с этим объединением. Проявляла она интерес и к творчеству Пикассо, о котором в это время много говорили в художественных кругах Петербурга и Москвы. В то время стали появляться цветные репродукции Анри Матисса, творчеством которого были увлечены и Н. Гончарова, и М. Сарьян.
Художники «Союза» старались искать собственные пути самовыражения, они были во многом солидарны с футуристами. Выпуская совместный журнал, они признавали кубизм и лучизм. Для определения своего стиля и направления они предложили новый термин «пуризм», подчеркивая этим, что выбранный ими путь в пластике и живописи призван подчиняться чистоте линий и форм, полноте и яркости цветовой гаммы. Своей живописной палитрой они были в некоторой степени сродни методам слововыражения поэтов-акмеистов.
Пуристы считали своим долгом создать музей новейшей русской живописи, куда обыватель приходил бы не для отдыха, а посредством живописи обращался бы к переживанию событий наших дней.
Работы художников «Союза» вызывали много незаслуженной брани и насмешек, их искусство считали декадентством, а их самих «бездарными пошляками». Сами «мирискусники» во главе с А. Бенуа возмущались «вандализмом союзной молодежи», ее эстетическим бессмысленным бунтом, эпатажем и вызовом бездарностей, которые не умеют рисовать, но зато хорошо знают, как устроить скандал! Многое в этой критике соответствовало эстетическому кредо «молодых вандалов», высказанному в манифесте поэтом С. Городецким, этот рецепт новой революции творчества распространялся не только на писателей, но и на художников: «Красота наконец-то демократизируется, и красивым становится некрасивое, иногда даже уродливое, что вполне возможно только при полном обновлении дряблой, пошлой современной души… Никогда форма не стояла так далеко от содержания, как в наши дни… итак, смотрите пристальнее на “Ослиный хвост”, боготворите новаторов в поэзии и музыке, и тогда вам будет еще возможно выжить».
По тому же пути последовательного разрушения какой бы то ни было эстетики, погружения в минимализм, увлечения африканским племенным искусством шли Пикассо, Макс Эрнст и группа «Дада». Поэт Тристан Тцара – основатель течения дадаизм – и его группа единомышленников рассматривали дадаизм как протест против Первой мировой войны. «На языке негритянского племени кру, – писал Тцара в манифесте 1918 года, – “дада” означает хвост священной коровы, в некоторых областях Италии так называют мать, это может быть обозначением и детской деревянной лошадки…»
Выставки «Союза» проходили ежегодно, молодежь хотела «жить и дышать», она искала способы выразить свои чувства в протесте против современности, спокойный быт и буржуазность их раздражали. Где была середина или, скорее, правда и справедливость, в которые они верили? Ответ на этот вопрос они не нашли, но шумихи создавали много. Художники, актеры, писатели группы Городецкого устраивали театрализованные манифестации, что вызывало неоднозначную реакцию в прессе.
Летом 1911 года Елизавета Юрьевна отдыхала с мужем в его родовом имении Борисково в Тверской губернии (Бежецкого уезда). Здесь она много и увлеченно рисовала. Ее друг ДДБ (Д. Д. Бушен) на закате дней вспоминал, как они вместе «живописали» в одной мастерской. В первой книге Елизаветы Юрьевны «Скифские черепки» есть стихотворение, посвященное поэтессой ДДБ (оно так и называется: «ДДБ») – своему младшему собрату по живописи, в котором звучат немного легкомысленные нотки:
Как радостно, как радостно над бездной голубеющей
Идти по перекладинам, бояться вниз взглянуть…
Недалеко находилось имение Гумилевых – Слепнёво, куда из Парижа приехал Николай Гумилев со своей женой Анной Ахматовой, а 15 июля, в день именин В. Д. Кузьмина-Караваева (свекра Лизы), Гумилев представил Ахматову родным и друзьям. Так познакомились Лиза и Анна.
Сохранилась групповая фотография, сделанная летом 1911 года, на которой сняты многие из упомянутых лиц (там же и Д. Пиленко – брат Лизы). На этом фото Елизавета Юрьевна стоит рядом с А. Ахматовой. В небольшом тексте о Слепнёве Анна Андреевна остроумно вспоминает: «В 1911 году я приехала в Слепнёво прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепнёве, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: “К слепневским господам хранцужанка приехала”, а земский начальник Иван Яковлевич Дерин – очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за обедом и умирал от смущения, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: “Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?” Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им казалось) таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастие. Николай Степанович (Гумилев) не выносил Слепнёво. Зевал, скучал, уезжал в невыясненном направлении. Писал: “Такая скучная, не золотая старина…” и наполнял альбомы Кузьминых-Караваевых посредственными стихами. Но, однако, там что-то понял и чему-то научился. Я не каталась верхом и не играла в теннис, а только собирала грибы в обоих слепневских садах, а за плечом еще пылал Париж в каком-то последнем закате…»
Скорее всего, именно в Борискове Елизавета Юрьевна написала акварель «Змей Горыныч», с которой она дебютировала на 3-й выставке «Союза» в конце декабря 1911 года. Нельзя, правда, утверждать, что название «Змей Горыныч» было ее собственным, а не придуманным в последующих советских атрибуциях, потому что вся символика картины говорит не о ее сказочной принадлежности, а о стилизации библейско-иконно-языческой: женская фигура с крыльями и нимбом (как бы Богородица Знамение, одновременно напоминающая Софию Премудрость Божию), в окружении младенцев, с парящим драконом в грозно огненных небесах – перекликается с библейскими сюжетами. В связи с чем, в последнее время эту акварель принято именовать «В саду Эдемском». Примерно к этому же периоду относится и акварель «София Премудрость Божия построила себе храм», на которой фигура Софии изображена практически идентично[32]32
Обе акварели находятся в Русском музее в Санкт-Петербурге.
[Закрыть].
Выставка «Союза» открылась одновременно и в одном здании с экспозицией Петербургского общества художников, и это странно несовместимое совпадение по всем направлениям было немедленно обыграно в прессе: «Весьма пикантно будет сопоставление этих выставок – крайне левая и крайне правая!» После открытия один из современных обозревателей выставки «Союза» дал в целом положительную оценку произведений, представленных на ней, но отметил, что она «отпугивает кажущимися крайностями, каким-то преднамеренным варварством и буйством. К чему они зовут, что стоит за всем этим экспериментом?»
Брошенное автором обидное для «Союза» прозвище «варвары» было подхвачено Кузьминой-Караваевой, которая придала ему иной смысл: «Варвары – это разрушители не только старой, но и носители новой культуры». В очерке «Последние римляне» она сочувствует «варварам», причисляя к ним себя и даже радуется, что «римляне» уже дрожат под их натиском. Интересно, что и жена Максимилиана Волошина вспоминала позже, что они с мужем «рядом с этими утонченными людьми… чувствовали себя варварами. Они смотрели назад, мы же искали будущее».
Поэтический дар слова жил у Елизаветы Юрьевны наравне с живописью. Многие поэты – рисовали, художники – писали тексты; русская традиция многоталантливости продолжала развиваться, а Е. Ю. со всем ей присущим темпераментом записала:
Смысл – он в вулкане, смысл – он в кометах,
В бешено мчащихся вдаль антилопах,
В пламенных вихрях, в ослепительных светах,
Что наше сердце в безумии топят.
Смысл – он в стихах, никогда не допетых,
Смысл – в недоступных, нехоженых тропах.
* * *
Первый «Цех поэтов» начал свое существование 20 октября 1911 года на квартире у поэта С. Городецкого, где состоялось первое организационное собрание будущего объединения. Несколько странное название было придумано по аналогии с названием ремесленных объединений средневековой Европы и подчеркивало отношение участников к поэзии как к профессии цехового ремесла, требующего упорного труда. Во главе стоял синдик – главный мастер. По замыслу организаторов, «Цех» должен был служить для познания и совершенствования поэтического ремесла. Подмастерья должны были учиться становиться поэтами. Гумилев и Городецкий считали, что стихотворение, то есть «вещь», создается по определенным законам, «технологиям». Этим приемам можно научиться, а талант – вещь вспомогательная, но не основная. Официально синдиков (старшин) было три: Гумилев, Городецкий и Кузьмин-Караваев.
По началу «цехисты» не отождествляли себя ни с одним из существующих течений в литературе и не стремились к общей эстетической платформе, но в 1912 году Гумилевым и Городецким был предложен термин «акмеизм». По мысли его создателей, акмеизм пытался «хотя и бессознательно, внести материалистическую поправку в символизм» (С. Городецкий). Интересно свидетельство бывшего акмеиста Мандельштама: «Акмеизм возник из отталкивания: прочь от символизма, да здравствует живая роза! – таков был его первоначальный лозунг. Городецким в свое время была сделана попытка привить акмеизму литературное мировоззрение, “адамизм”, род учения о новой земле и о новом Адаме. Попытка не удалась, акмеизм мировоззрением не занимался; он принес с собой ряд новых вкусовых ощущений, гораздо более ценных, чем идеи…»[33]33
Мандельштам О. О природе слова. 1922.
[Закрыть]
Создание «Цеха», сама его идея были встречены некоторыми поэтами весьма скептически. В одном из первых печатных откликов на возникновение объединения иронически заявлялось: «Часть наших молодых поэтов скинула с себя неожиданно греческие тоги и взглянула в сторону ремесленной управы, образовав свой цех – цех поэтов». В. Брюсов называл его «тепличным растением», «столичной причудой» и предрекал ему гибель «через год или два»[34]34
Первый «Цех» прекратил существование в 1914, второй в 1916–1917. и третий – в 1920 г.
[Закрыть]. Скептически относился к акмеизму и Блок, хотя среди «цеховистов» у него было немало друзей и знакомых.
Объединение выпускало поэтические сборники участников; стихи и статьи публиковались в журналах «Гиперборей» и «Аполлон».
В начальный период на собраниях «Цеха» бывали А. Блок, М. Кузмин, А. Толстой, В. Пяст. Но затем они отошли (Блок иронически называл «Цех поэтов» «Гумилевско-Городецким обществом»), и в «Цехе» осталась в основном поэтическая молодежь Петербурга: А. Ахматова, М. Лозинский, О. Мандельштам, М. Моравская и другие. Постоянного помещения у них не было, и они собирались на квартирах наиболее активных членов, в том числе у Гумилева и Кузьминых-Караваевых. В этот период Елизавета и Анна виделись регулярно.
Е. Ю. Кузьмина-Караваева активно включилась в работу «Цеха». Она прилежно посещала все собрания. Ее муж также примкнул к «цеховикам». Более того, не будучи поэтом, он, наряду с Городецким и Гумилевым, стал третьим синдиком, исполняющим роль стряпчего. Но вот что характерно: если на «башне» Елизавету Юрьевну воспринимали в основном как «жену своего мужа», то в «Цехе» роли их поменялись. Теперь она благодаря своему поэтическому дару настолько утвердилась в литературном мире, что уже Кузьмин-Караваев воспринимался как «муж поэтессы».
Поэзия и живопись не могли прокормить молодую чету Кузьминых-Караваевых, и Дмитрий решил не только вернуться к юридической практике, но и с 1 октября 1911 года поступил на государственную службу в Главное управление землеустройства и земледелия.
К членам «Цеха» предъявлялись обязательные требования поэтической активности. На своих заседаниях молодые поэты были обязаны читать свои новые стихи. Заседания эти проходили на квартирах у Городецкого, Лозинского, в Царском Селе у Гумилевых и у Кузьминой-Караваевой (на квартирах матери: на улице Малой Московской, 4 и в Манежном переулке). Первые полгода собирались по три раза в месяц, а затем периодичность сократилась до двух собраний в месяц.
Секретарь «Цеха» Ахматова рассылала повестки. Первые встречи проходили живо и интересно, но со временем они потускнели. Ахматова так характеризовала эти дежурные заседания: «Сидят человек десять-двенадцать, читают стихи, то хорошие, то заурядные, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности». Естественно, бывали и творческие взлеты, поэтические удачи. Та же Ахматова значительно позже обмолвилась, что в «Цехе» и сама она, и Мандельштам, чей поэтический дар она оценивала очень высоко, «выработали там точный вкус».
Предсказания В. Брюсова сбылись: объединение распалось в апреле 1914 года.
1910–1911 годы были для Елизаветы «урожайными». Она пишет акварели, выставляется, читает стихи не только на вечерах и собраниях «Цеха поэтов», но и в домашней обстановке. На некоторых, крайне редко, присутствовал А. Блок – он держался в стороне от всех новых движений. В его дневнике можно прочесть: «Безалаберный и милый вечер. Кузьмины-Караваевы, Елизавета Юрьевна читает свои стихи и танцует» (20 октября 1911); у Вяч. Иванова «Елизавета Юрьевна читала стихи, черноморское побережье, свой “Понт” (7 ноября 1911)». Стихи, с чтением которых выступала К-К, составили ее первый поэтический сборник: в марте 1912 года в акмеистическом издательстве вышли «Скифские черепки».
Во время их коротких встреч Блок, как бы полушутя, повторял: «Уезжайте отсюда», а ей не хватало с ним диалога, и на одном из литературных вечеров она решилась вызвать поэта на «серьезный разговор… об искусстве». «Он покраснел, только он, всегда такой бледный – мог так краснеть от смущения и ушел от ответа». Единственное, что сказал: «Придет время, и вы услышите мое мнение»[35]35
Мать Мария.
[Закрыть].
10 декабря 1911 года вместе с друзьями она сидела на «собрании» в литературном кабачке «Вена», который был центром встреч художественной элиты и работал всю ночь. Это был небольшой зал с низкими потолками, стены его украшали не только картины посетителей-художников, но и были расписаны пародиями, каламбурами и даже нотными музыкальными отрывками. Порядком подустав от чтения стихов, уже под утро собравшиеся разыграли шуточную сцену заочного избрания «Короля русских поэтов». По единодушному мнению всех присутствовавших, таким королем стал Блок. Тут же за столом каждый написал куплет-экспромт, и открытое письмо-диплом было отправлено новому «королю» по почте.
Они его обожали, преклонялись перед умом и талантом, боялись его меткого слова и завидовали. Личные отношения между «цеховистами», акмеистами, символистами, футуристами и представителями других течений выстраивались сложными зигзагами, не всегда справедливое отношение к таланту было объективно. Многие знали, что: «Блок не любил Ахматову. Вся история их личных отношений – а они были знакомы друг c другом около десяти лет и жили в одном городе – Петербурге – представляет собой историю уклонения Блока от всякого более короткого знакомства. Когда через 40 лет после смерти Блока Ахматова обратилась к своей памяти, оказалось, что ей нечего сказать o Блоке. И это не случайно, и возникло по причине самого Блока, а не Ахматовой. Историки литератypы и литературоведы пытаются затушевать это обстоятельство биографии двух поэтов и совершенно напрасно»[36]36
Шаламов В. Собр. соч. Т. 5: Эссе и заметки. Записные книжки 1954–1979. «Блок и Ахматова».
[Закрыть].
Но в своей статье 1921 года «Без божества, без вдохновения» (Цех акмеистов) А. Блок поднимается выше личной нелюбви и отдает должное поэзии А. Ахматовой: «Настоящим исключением среди них была одна Анна Ахматова; не знаю, считала ли она сама себя “акмеисткой”; во всяком случае, “расцвета физических и духовных сил” в ее усталой, болезненной, женской и самоуглубленной манере нельзя было найти». И далее приводит безжалостный анализ «акмеизма»:
«Среди широкой публики очень распространено мнение, что новая русская изящная литература находится в упадке. <…> Россия – молодая страна, и культура ее – синтетическая культура. Русскому художнику нельзя и не надо быть “специалистом”. <…> Бесчисленные примеры благодетельного для культуры общения (вовсе не непременно личного) у нас налицо; самые известные – Пушкин и Глинка, Пушкин и Чайковский, Лермонтов и Рубинштейн, Гоголь и Иванов, Толстой и Фет. Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга – философия, религия, общественность, даже – политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры. Слово и идея становятся краской и зданием; церковный обряд находит отголосок в музыке. <…> Когда начинают говорить об “искусстве для искусства”, а потом скоро – о литературных родах и видах, о “чисто литературных” задачах, об особенном месте, которое занимает поэзия, и т. д., и т. д., – это, может быть, иногда любопытно, но уже не питательно и не жизненно <…> появились Гумилев и Городецкий, которые “на смену”(?!) символизму принесли с собой новое направление: “акмеизм” (от слова “acme” – высшая ступень чего-либо, цвет, цветущая пора») или “адамизм” (“мужественно-твердый и ясный взгляд на жизнь”). Почему такой взгляд называется “адамизмом”, я не совсем понимаю, но, во всяком случае, его можно приветствовать; только, к сожалению, эта единственная, по-моему, дельная мысль в статье Н. Гумилева была заимствована им у меня; более чем за два года до статей Гумилева и Городецкого мы с Вяч. Ивановым гадали о ближайшем будущем нашей литературы на страницах того же “Аполлона”; тогда я эту мысль и высказал. <…> Тянулась война, наступила революция; первой «школой», которая пожелала воскреснуть и дала о себе знать, был футуризм. Воскресение оказалось неудачным, несмотря на то, что футуризм на время стал официозным искусством. Жизнь взяла свое, уродливые нагромождения кубов и треугольников попросили убрать; теперь они лишь изредка и стыдливо красуются на сломанных домах; “заумные” слова сохранились лишь в названиях государственных учреждений.
Несколько поэтов и художников из футуристов оказались действительно поэтами и художниками, они стали писать и рисовать как следует; нелепости забылись, а когда-то, перед войной, они останавливали и раздражали на минуту внимание; ибо русский футуризм был пророком и предтечей тех страшных карикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха войны и революции; он отразил в своем туманном зеркале своеобразный веселый ужас, который сидит в русской душе и о котором многие “прозорливые” и очень умные люди не догадывались.
В этом отношении русский футуризм бесконечно значительнее, глубже, органичнее, жизненнее, чем “акмеизм”; последний ровно ничего в себе не отразил, ибо не носил в себе никаких родимых “бурь и натисков”, а был привозной “заграничной штучкой”. “Новый Адам” распевал свои “аллилуиа” не слишком громко, никому не мешая, не привлекая к себе внимания и оставаясь в пределах “чисто литературных”».
* * *
Совет Блока бежать к природе и назад к предкам был принят Елизаветой. В марте 1912 года в издательстве «Цеха» выходит ее сборник «Скифские черепки». Вся книга – это попытка создать стилизацию «скифского эпоса», передать атмосферу тех веков, найти дверь в «заповедную родину» славян, населявших южные степи от Дуная до Кубани. (Древняя вольная ковыльная Скифия признавалась тогда нашей прародиной.) Считая себя коренной южанкой, потомком «огненосцев-скифов», Кузьмина-Караваева писала в своих стихах:
Греки, генуэзцы и черкесы
Попирали прах моих отцов…
Образы многих стихотворений навеяны картинами жизни в Анапе и в Крыму:
Чтобы взять пшеницу с нивы
И кровавое, пьянящее вино,
Вы входили в тихие заливы,
Где сквозь синь мелькает дно.
За вино платили звонкими рублями,
На зерно меняли золото монет
И, гремя по борту якорями,
Оставляли в море пенный след.
Мы ж, купцы и виноделы,
Пахари береговой земли,
Ждем, чтоб вновь мелькнули дыма стрелы,
Чтоб на якорях качались корабли.
Лиза рада выходу своей первой книги, дарит ее близким и друзьям, сборник приобретает настоящую известность и широкий отклик в прессе. Но книга получилась не акмеистической. «Скифские черепки» – не только взгляд в прошлое, реконструкция эпоса языческой прародины, но это одновременно и предсказание будущего: «У русских есть соблазн почувствовать себя скифами <…>. Скифская идеология народилась у нас во время революции. Она явилась формой одержимости революционной стихией людей, способных к поэтизированию и мистифицированию этой стихии. Скифская идеология – одна из масок Диониса» – так писал Н. Бердяев в «Философии неравенства». Тема Диониса постоянно обсуждалась на «башне» Иванова. Это был его конек. В основе стихов – переживания скифской девушки, оторванной ее же отцом, «владыкой кочевным», от родины:
Он в рабство продал меня чужому тирану,
у которого белая, цепкая рука…
Софья Борисовна пишет в воспоминаниях, что образ «курганной царевны» возник, вероятно, в связи с тем, что за воротами их имения «стояли два древних кургана, разрытые проф. Веселовским, часть из найденных в курганах сокровищ находилась в Керченском музее на могиле Митридата, куда любили заходить дети Пиленко, а часть была в Эрмитаже».
Отклики в прессе были разные, от положительных до насмешливых. Но это было не самое главное. Первая ласточка вылетела из-под пера Лизы и молодой автор получил заслуженное внимание мэтров: «Умело и красиво сделаны интересно задуманные “Скифские черепки”» (В. Брюсов), «умело написанная книга» (В. Ходасевич). Имя поэтессы было поставлено в один ряд с именами А. Ахматовой и М. Цветаевой: «Книги г. Цветаевой и г. Кузьминой-Караваевой объединены ясностью и простотой стиха» (Н. Львова). В то же время автор последней оценки, сама поэтесса, отмечает, что стих у Кузьминой-Караваевой «подражателен», а образы «не ярки и только приблизительны». Отзыв Брюсова был в известной степени «спровоцирован» Гумилевым. Посылая летом 1912 года из Слепнёва сборник поэтессы, Гумилев, в частности, писал Брюсову: «Я очень дружески настроен к автору “Скифских черепков”».
Большинство авторских монологов в книге написаны от имени царевны.
Курганного царя я дочь,
Я жрица и хранитель тайны я…
Насмешливый и злой на язык Городецкий опубликовал посвященное молодому таланту стихотворение, написанное под впечатлением ее «курганной царевны»:
В высоком кургане, над морем, над морем,
Мы долго лежали; браслета браслет
Касался, когда под налетами бури
Качался наш берег и глухо гудел.
Потом нас знакомили в милой гостиной.
Цветущею плотью скелет был одет,
За стекла пенснэ, мимо глаз накаленных,
В пустые глазницы я жадно глядел.
Через пару дней Городецкий прислал Лизе огромный торт, на котором шоколадными буквами было выведено: «Царевна, я равен тебе», – что было переиначенными строками из «Скифских черепков»:
Царевна я – равна рабе,
И мертва…
С нетерпением она ждала реакции Блока, и наконец он прислал записку: «“Скифские черепки” мне мало нравятся… мне кажется, что Ваши стихи – не для печати, то есть они звучали бы иначе, если бы не были напечатаны». От В. Нарбута тоже последовала критика: «Стихи-думы… тяжеловаты, сумрачно и однообразно тягучи».
Но ни дружеская критика, ни насмешки не остановили ее, начало было положено, первая книга дошла до читателя, и начался длинный путь Е. Ю. в искусстве. Из Лизы – Елизаветы Пиленко она превратилась в поэтессу Серебряного века – Елизавету Юрьевну Кузьмину-Караваеву.
Живопись и поэзия продолжали соседствовать. Символизм и акмеизм не только стимулировали слово, но и рождали в воображении Елизаветы фантастическую живопись. Поглощенная поисками своего стиля, Елизавета Юрьевна скоро отошла от «Союза молодежи» и в других выставках участия не принимала. Но ее общение с талантливыми и самобытными художниками, в частности с Наталией Гончаровой и Анной Ахматовой, не прошло бесследно, их влияние можно проследить даже в поздних произведениях французского периода Елизаветы Юрьевны – м. Марии. Особенно это видно в ярких растительных орнаментах, которыми были расписаны стены и окна (как бы витражи) ее парижских храмов. Русские орнаменты и яркие краски, похожие на лубочные картинки, во многом несут отпечаток встреч и контактов в России до эмиграции. Хотя можно допустить, что работы Руо (особенно его витражи) и декоративные вырезки из бумаги Матисса сыграли не последнюю роль в ее парижском периоде.
Московская группа художников, примыкавшая к «Союзу», – Н. Гончарова, М. Ларионов, А. Шевченко – выступала с пропагандой новой живописи беспредметного, абстрактного искусства (лучизм Ларионова), а так же «примитива». Причем «примитив» заявлялся не только как стиль, но и как своеобразное вероучение, «религия художника». Наталия Гончарова была его ярким представителем. Идеологом группы был А. Шевченко, который в 1913 году издал специальную брошюру под названием «Неопримитивизм».
В ней он говорил: «простая, бесхитростная красота лубка, строгость примитива, механическая точность построения, благородство стиля и хороший цвет, собранные воедино творческой рукой художника-властелина, – вот наш пароль и наш лозунг. Мы берем за точку отправления нашего искусства лубок, примитив, икону, т. к. находим в них наиболее острое, наиболее непосредственное восприятие жизни, притом чисто живописное».
Художественные критики еще до революции считали, что искусство Н. Гончаровой глубоко русское, традиционное. Сказочно-лубочный, близкий к народной картинке стиль ее живописи оказался созвучен во многом духовным и творческим поискам Елизаветы Юрьевны.
* * *
29 марта 1912 года она выезжает в свою первую заграничную поездку, в Германию, на курорт в Бад-Наугейм. В эти годы он представлял из себя своеобразное ожерелье курортов, поскольку к Наугейму примыкали тогда еще Фридберг и Иоганнинсберг, расположенные поблизости. Елизавета Юрьевна побывала в каждом из них. Но больше всего ее привлекал Иоганнинсберг, откуда она даже послала открытку А. Блоку, на которой был изображен вид «Ивановой горы».
Иоганнинсберг был небольшим селением на правом берегу Рейна, славившимся своими виноградниками, что было для Елизаветы Юрьевны, как выходца из семьи потомственных виноделов, особенно интересно. Ведь первые виноградные лозы ее дед, Д. В. Пиленко, для своих виноградников в районе Абрау вывез именно из этих мест.
В прогулках по волнующим ее сердце местам Елизавета Юрьевна не расстается с блокнотом. Из письма к А. Блоку, где Лиза подробно описывает многие и дорогие для него достопримечательности Наугейма, выходит, что она много гуляет, пишет стихи, рисует и дышит не только чудным воздухом гор, но и впитывает атмосферу, в которой жил ее любимый поэт. Она представляет, как Блок бродил по тем же местам, делает наброски, мечтает показать их ему: «Я сидела целый час на башне во Фридберге. Меня там запер садовник, чтобы я могла рисовать», – пишет она Блоку. Из этой серии этюдов сохранились только два – это рисунок карандашом и пейзаж, цветной набросок маслом на бумаге.
Она не могла не знать, что в 1897 году поэт, посещая Бад-Наугейм (вместе с матерью), пережил первую и сильную любовь к Ксении Садовской, которая оставила глубокий след в его творчестве. В свои 38 лет, после неудачных третьих родов Садовская приехала в эти места поправить здоровье и… покорила сердце юного поэта. Тетушка Блока, писательница М. А. Бекетова, вспоминала: «Она первая заговорила со скромным мальчиком, который не смел поднять на нее глаз, но сразу был охвачен любовью. Красавица всячески старалась завлечь неопытного мальчика». По прошествии 15 лет история любви повторяется, но только уже неопытная девушка Лиза приехала ощутить на себе магию этих мест и осмыслить любовь к поэту.
В одном из писем к Блоку, то ли скучая по северной столице, то ли с надеждой на радужное возвращение, она замечает:
«Я не верю, что в Петербурге нет каштанов, и красных крыш, и душного сырого воздуха, и серых дорожек, и белых с черными ветками яблонь…» В Наугейме она написала несколько стихотворений, которые позже были ею соединены с анапскими в одну книгу «Дорога». Этот сборник стихов, или, как она назвала их, «Лирическая поэма», вроде бы никак не связан с посещением курорта в Германии, скорее они полны внутренних раздумий и схожи по стилю с поэзией поздних символистов, но если знать о чувствах, наполнявших сердце Елизаветы, и ее сомнения, то эти стихи есть лакмусовая бумажка для историка… Прогулки без устали по «его» маршрутам, одно то, что здесь бродил, сочинял и рисовал «он» – ее любимый Александр Блок! Было ли это целительно для нее? Ей казалось, что она может лучше разобраться в себе, в нем, почувствовать время, в котором живет. Она вспоминала, что говорил поэт о взаимодействии и неразрывности искусства во всех его направлениях: «Россия – молодая страна, и культура ее – синтетическая культура. <…> …Неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга – философия, религия, общественность, даже – политика».
Эти строки из статьи Блока (они уже приводились выше) во всем были ей близки. Пройдут годы, и синтез взаимопроникновения, о котором пишет Блок, станет для Елизаветы Юрьевны, впоследствии м. Марии, настоящим воплощением не только в ее творчестве, но и на пути монашества. Драматические события уничтожили большинство ее работ, но некоторые рисунки и вышивки чудом сохранились, и у нас есть возможность взглянуть на ее творчество во времени, проследить путь талантливого художника, во многом самоучки, для которого дар от Бога стал движущей силой ее мироустройства.
Художественный, рисовальный талант играл в ее жизни важную роль на пути к монашеству, о котором она еще не помышляла в те годы, к ее страстному желанию самопожертвования, поиску нелегкого пути, на котором ее преследовало чувство собственного предназначения, отпущенное ей Господом. Фундаментом в формировании личности м. Марии стало Творчество. В ранних рисунках и акварелях на евангельские темы уже появились ее собственные находки: расстановка акцентов, символика, композиция, выбор фактуры и материала… Тот же путь, те же поиски можно увидеть и в ее стихах. Поэтический образ она немедленно воплощала в рисунок, акварель, вышивку… В книге «Стихи»[37]37
Издательство «Петрополис» – Германия. 1937 г.
[Закрыть] мать Мария легко и виртуозно соединила поэзию с иллюстрациями на полях книги. Именно так впервые у нее получилось естественное взаимопроникновение «поэтической мысли и рисунка», о котором говорил А. Блок.
* * *
После отдыха и лечения в Германии Елизавета Юрьевна, вернувшись в Россию, проводит лето 1912 года у себя в имении Джемете под Анапой. Сюда из Симбирской губернии к ней приезжают погостить друзья – А. Н. Толстой со своей женой, художницей С.И. Дымшиц[38]38
Дымшиц Софья Исааковна (1884–1963, Ленинград) – русская художница-авангардистка. Жена шурина Марка Шагала – Исаака Розенфельда (1905–1906), гражданская жена А. Н. Толстого (1907–1914).
[Закрыть]. Они много читают, рисуют, мечтают о будущем. Позже Софья Исааковна вспоминала об этой поездке: «Лето стояло жаркое. По ночам мы часто бежали от духоты из дома и уходили в сад, где спали на земле, на разостланных тулупах. На заре Алексей Николаевич пробуждался первым и будил меня, чтобы посмотреть на восход солнца. В Анапе мы много работали. Я писала виноградники, большие, пронизанные солнцем виноградные кисти»[39]39
Цит. по: Кривошеина К. Красота спасающая. 2004.
[Закрыть].