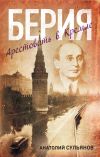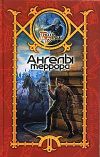Текст книги "Анатомия террора"

Автор книги: Леонид Ляшенко
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 45 страниц)
Сизов отчетливо сознавал близость минуты покушения, как сознавал, что ждет его после покушения, но и выстрел в Муравьева, и приготовления к казни, и видение эшафота – все это проносилось сторонней тенью, и Сизову хотелось лишь поскорее выпростать пистолет, сунуть в карман, под широкую, распояской блузу.
– Осади, малый, – весело скомандовал жандармский офицер. – Достиг ты желанного брега.
Они были в приемной прокурора московской судебной палаты. Молоденький чиновничек, ни дать ни взять вербный херувимчик, взглянул на Сизова и опять зашелестел бумагами. Два курьера – почтенные, в медалях – прямо и важно сидели на ампирных стульях.
– Смотри мне, – все так же весело продолжал офицер, – смотри не хами, как в камере. Не то я поговорю с тобой по-своему. Понял?
– Как не понять, ваше благородие, – отвечал Сизов, словно заражаясь офицерской веселой насмешливостью. – Мне бы вот только нужду справить.
Капитан рассмеялся.
– Знаю я, брат, твою нужду, не забыл. – Он опять рассмеялся. – А впрочем, валяй: отсюда не удерешь. – Капитан достал портсигар: – Угощайся. В сортире покурить – одно удовольствие.
И тут-то Нил вспомнил, все вспомнил: погром заводской конторы, жандармский дивизион верхами и этот вот фартовый капитан, у которого он тогда тоже просил дозволения справить нужду.
Сизов взял папироску, улыбаясь и поводя плечами.
– Благодарствуйте, ваше благородие. Дай бог здоровья. Редкий вы господин, право слово, редкий.
– Ладно. Будет лясы точить. Ступай.
Ватерклозет аптечно белел фаянсом. Посреди мраморного пола – для смеха, что ли? – изображен был черный навозный жук. Сизов ухмыльнулся и выпростал пистолет. И сразу почувствовал себя ладным, подвижным, до удивления беспечным. Он переложил пистолет в брючный карман и потряс, растопыривая, широкую свою блузу. Вроде бы все аккуратно получилось.
Нил не торопился. Он всласть подымил папироской. Докурил до горечи, до мундштука, еще пошевелил плечами, чтоб блуза сидела вольнее, и вышел из ватерклозета. Капитан и унтер (только сейчас Сизов заметил, какой здоровяк этот унтер) повели Нила в кабинет прокурора.
Нил шел свободно. «Целясь, смотри ему в глаза». Так Флеров писал. В записке. В той, что принес Белино-Бржозовский. Отставной корнет, их благородие, светлые клетчатые брючки.
Капитан отворил дверь в кабинет, пропустил вперед Сизова. Опершись об огромный письменный стол, Муравьев привстал с кресла. Глаза его показались Нилу белыми, как клозетный фаянс. И, глядя в эти глаза, Сизов скользнул ладонью в карман с пистолетом.
Ему дали выхватить револьвер. И тотчас унтер таранным ударом опрокинул Сизова навзничь. Выстрел грянул в потолок. Посыпалась штукатурка.
– Плохо стреляешь, малый, – рассмеялся жандармский капитан и легонько пнул Сизова сапогом.
Глава шестаяНа ущербе августа Зизи и дети отправились из калужского имения в Петербург, а Вячеслав Константинович пожелал обозреть подмосковную, недавно благоприобретенную.
В Москве была пересадка, выдалось несколько праздных часов, но г-н Плеве, не терпевший праздности, знал, куда себя деть. Он уже наперед все расчислил и теперь, в Москве, пригласил товарищески отобедать Муравьева Николая Валерьяновича.
Они были питомцами Московского университета, случалось им вместе служить, оба отдавали должное друг другу. В своем старшем собрате находил Николай Валерьянович ясный ум, бездну трудолюбия и недюжинный темперамент, хотя и скрытый внешней бесстрастностью. В свою очередь, Вячеслав Константинович ценил выдающийся юридический дар Муравьева, его образцовые ораторские способности и говаривал, что завидует московским студентам, которым нынешний московский прокурор взялся читать курс уголовного судопроизводства.
Разумеется, оба замечали и «пятна на солнце». Г-н Плеве порицал некоторую беспорядочность в личной жизни г-на Муравьева. А г-н Муравьев порицал несколько болезненное самолюбие г-на Плеве, которое, очевидно, объяснялось, выражаясь по-старинному, худородностью нынешнего директора департамента.
Муравьев не ошибался. Худородность была Вячеславу Константиновичу вечной занозой, саднила ему сердце; в глубине души г-н Плеве завидовал фамильной громкости Муравьевых; признаться, он даже немножко злорадствовал, когда Николаю Валерьяновичу после смерти бездетного дядюшки не достался титул графа Амурского.
Все это, впрочем, не мешало обоим юристам поддерживать отношения добрые, насколько таковые вообще доступны людям, делающим карьеру на государственном поприще...
Москва еще не развеяла духоты и вони протекшего лета, и Муравьев с Плеве расположились в загородном ресторане «Мавритания», под щедрой сенью Петровского парка.
Плеве заказал суп тортю, соус бордлезо, филе из куропаток с трюфелями и саваран с фруктами. Заказав, намекающе улыбнулся сотрапезнику:
– Отобедаем по-царски.
Муравьев неопределенно шевельнул бровью. Плеве опять улыбнулся намекающе:
– Буквально, Николай Валерьянович. В прямом смысле.
Откинувшись, пристраивая крахмальную салфетку, он рассказывал, как ему посчастливилось обедать в Арсенальном зале Гатчинского дворца: «Пять персон. Их величества, фрейлины Голенищевы-Кутузовы и ваш покорный слуга-с».
Бывший петербургский начальник Муравьева завел свою речь, конечно, не ради пустого бахвальства, а с умыслом. Но с каким, Муравьев решительно не догадывался. И ждал чего-то вроде подвоха. Это не было мнительностью. Муравьев в последнее время опасался неприятностей. Он опасался их с того самого дня, как Сизова «отобрали» для департамента полиции. Там Сизовым, как выяснил Николай Валерьянович, занялись майор Скандраков и прокурор Котляревский. Майора Николай Валерьянович не боялся, полагаясь на его профессиональную «скромность». Муравьев боялся Котляревского: «Враг, язва, субъект несноснейший!» К тому же Котляревский действительно пострадал от революционеров – глаза лишился. Ох, как одноглазый циклоп, должно быть, зол на него, Муравьева, который хотел задешево поднять свои акции.
В сущности, прямые служебные неприятности за эту историю с лжепокушением не грозили. Лишь бы она не дошла до сведения царя. Тут приходилось считаться с особенностями августейшей натуры. Император, например, не желал читать писем, перлюстрированных в «черном кабинете». Отмахивался: «Мне этого не нужно». Признавая важность политического сыска, он, по слухам, брезговал провокацией. Человек примитивный в государственном смысле (хотя житейски сметливый), он чугунно-твердо верил, что правит по праву, а потому и не нуждается ни в чтении чужих писем, ни в услугах дегаевых. То есть они-то – и «черный кабинет», и агенты-провокаторы, – конечно, нужны, как нужны золотари, но порядочным людям все-таки надобно держаться подальше.
Вот эти-то черточки государевой натуры беспокоили Николая Валерьяновича. Когда Плеве заговорил об Арсенальном зале, Муравьеву почему-то подумалось: уж не довели ли до сведения его величества недавнее происшествие в кабинете прокурора московской судебной палаты?..
Даже будучи в отпуске, свежея и молодея в деревенской аркадии, Вячеслав Константинович не порывал связи с департаментом. Глава тайной политической полиции ни на день не должен выпускать вожжи. Не потому, что лошади могут понести или шарахнуться (лошади достаточно послушны и выезжены), а потому, что неровен час на облучке может очутиться другой кучер.
Обо всем, что творилось в сумраке, сокрытом от непосвященных, г-на Плеве письменно, через фельдъегерей-курьеров, регулярно и толково, то есть кратко, вразумительным «экстрактом», извещал неутомимый чиновник особых поручений майор Скандраков.
В общих чертах Вячеславу Константиновичу было уже известно и недавнее московское происшествие: при ревностном участии местных жандармов и уголовного, отставного корнета Белино-Бржозовского, талантливый Муравьев инсценировал покушение на самого себя... То, что покушался не революционист Флеров, а какой-то безвестный Сизов, было чистой случайностью. Просто Скандраков по неведению вытребовал Флерова в Петербург раньше срока – ради «полноты» дела о столичной Рабочей группе. Бутырки Муравьев посетил нарочито, не для прокурорской ревизии, а затем, чтобы распалить другого кандидата на лжепокушение, этого самого простофилю мастерового... Впрочем, частностями г-н Плеве не тяготил свою память, и без того достаточно нагруженную. Нравственная сторона происшествия ничуть его не возмущала.
Другое, совсем другое извлекал Вячеслав Константинович из недавнего московского происшествия. Он имел свои виды на Николая Валерьяновича. Даровитость московского прокурора, его фамильные и дворцовые связи сулили Муравьеву высокий полет. А г-н Плеве взял за обыкновение крепить дружество с соколами еще до того, как те взвиваются орлами... Николай Валерьянович сейчас не совсем в своей тарелке. Стало быть, момент очень подходящий. Но пока...
Пока Вячеслав Константинович, как бы подготавливая Муравьева, повествовал об Арсенальном зале: «Обедали по-семейному... Их величества были чрезвычайно радушными... Государь изволил заметить: «Мы не знали всего о Судейкине...»
(Как в загородной царской резиденции, так и теперь, в загородном московском ресторане, имя покойного инспектора не было произнесено попросту.)
Вячеслав Константинович посетил Гатчину и удостоился приглашения к императорскому столу именно в те дни, когда «сферы» волновала статья «Таймс»: «Заговор на жизнь графа Толстого». Многие, увы, слишком многие поверили, что директор департамента тайной полиции приложил руку к этому чудовищному заговору на своего министра. Резче прочих высказался о Плеве всемогущий Победоносцев, обер-прокурор Синода: «Подлец!»
Редкостной удачей было то, что Вячеславу Константиновичу удалось почти тотчас проскочить в Гатчину. Ему повезло: граф Дмитрий Андреевич хворал, товарищ министра Оржевский отлучился в Шлиссельбург, поглощенный устроением новой тюрьмы, и в Гатчину с очередным докладом попал он, директор департамента. (Правду сказать, он тогда еще больше был не в своей тарелке, чем теперь Муравьев.)
Г-н Плеве, достаточно изучив государя, избрал тактику прямодушия. «Таймс» цитирует нелестный отзыв Плеве о дубовой реакционности старика графа? Весьма вероятно, что он, Плеве, когда-нибудь в присутствии Судейкина неосторожно обмолвился о каких-либо текущих распоряжениях Дмитрия Андреевича. Однако ведь не секрет: почтенный граф, столь много потрудившийся на своем веку, дряхлеет час от часу. Увы, законы естества...
(Одряхление заслуженного министра не было новостью императору Александру. Передавали, что старик порою «спрыгивает с ума» и мнит себя... лошадью. Злые языки не скупились на выразительные подробности; их можно было выдумать, но их нельзя было забыть. Передавали, что граф однажды совсем «олошадился» и крикнул слуге: «Человек, порцию сена!» Увы, законы естества... Этот Плеве отчасти прав.)
А «этот Плеве» пошел дальше. Конечно, основываясь на лживой статейке «Таймс», можно сменить директора департамента полиции, хотя, видит бог, у него, Плеве, совесть чиста. Но, повинуясь высочайшей воле, он удалится. Однако его отставка, несомненно, произведет в глазах всей Европы невыгодное России впечатление. Дело совсем не в нем, не в тайном советнике фон Плеве. Отставка лишь подтвердит правоту зловредного автора «Таймс». Отставка будет означать, что в недрах тайной полиции, хранящей царя и отечество, такое неблагополучие, что и вымолвить страшно.
«Этот Плеве» опять-таки оказывался прав. Открыто признать такое неблагополучие не мог позволить себе даже тот, кто мог позволить себе все. Недалекий и небыстрый ум Александра уяснил намек директора департамента полиции. Ради собственного престижа следовало похерить разоблачения «Таймс».
Но все ж статья произвела на Александра известное впечатление. Плеве нажимал на «досужие вымыслы», на «козни тихомировской шайки», на «пакости иуды Дегаева». Государь, соглашаясь, опасливо подумывал о честолюбцах типа покойного инспектора. Плеве, по мнению Александра, тоже был чрезвычайно честолюбив. Покойному Судейкину напрасно не давали настоящего хода... И государь император, отпустив с миром директора департамента, нашел не только возможным, но и полезным назначить фон Плеве еще и сенатором...
Сейчас, в ресторане, принимаясь за куропатку, Плеве припоминал вслух лишь то, что хотел вспомнить для Муравьева. Нарочно пространно развивал замечание императора: «Мы не знали всего о Судейкине...» Муравьев уже сообразил, куда клонит Плеве. Ведь Судейкин тоже замышлял покушение на самого себя, замышлял в карьерных целях, именно это-то и претит государю... Ах боже ты мой, боже ты мой... Но из спокойных, точных, будто отмеренных и взвешенных слов Вячеслава Константиновича Муравьев понял вдобавок еще и то, что роль его бывшего начальника по санкт-петербургской судебной палате чрезвычайно возросла и что самое лучшее немедля дать понять г-ну Плеве свою безусловную приверженность.
Прокурор сделал большее. Он не только заверил Вячеслава Константиновича в давней, неколебимой, искренней симпатии, но и предложил идею, осенившую его в ту минуту, когда Плеве говорил, что статью в «Таймс», очевидно, инспирировал Тихомиров.
Идея была сомнительной с точки зрения юридической, зато соблазнительной с точки зрения практической. Однако Плеве осадил прожектера:
– А Гартман?
Муравьев как поперхнулся. Упоминание о Гартмане было неделикатным, но справедливым.
Гартман – народоволец, участник одного из покушений на Александра Второго – бежал во Францию. Муравьева снарядили в Париж: требовать его выдачи. Николай Валерьянович, блестяще изъяснявшийся по-французски, ревностно обивал пороги дипломатов и префекта. Однако вернулся не солоно хлебавши.
Упоминание о Гартмане было неделикатным. Муравьев, скрыв досаду, вдумчиво сказал:
– Времена меняются. Наши теперешние сношения с Французской республикой... – И он пустился в рассуждения, достойные Талейрана или Меттерниха.
Подали саваран с фруктами. Плеве, берясь за сладкое, сказал:
– Вы же знаете эту прекрасную даму – общественное мнение. Пресса, парламент... – Он вздохнул, не то жалея Францию, не то от сытости. – Да-с, мы бы разом отсекли чудовищную голову. По моим сведениям, этот человек все еще верховодит, нельзя ни за что ручаться, пока он в Париже. Правда, есть еще эмигрант Плеханов, но тот, слава богу, не террорист. А Тихомиров... Эх, вашими бы устами, Николай Валерьянович, да мед пить. Однако сложно, трудно. Пожалуй, и вовсе неисполнимо.
Но хотя идея была отвергнута, Муравьев чувствовал, что высказался кстати, и посему счел удобным просить Вячеслава Константиновича умерить возможное злоречие одноглазого Котляревского и уж заодно как-нибудь отделаться от «этого дурачка Сизова».
Плеве благожелательно промолчал. «Вот что значит обстоятельства времени и места», – удовлетворенно подумал Муравьев. Почти удовлетворенно думал и Плеве: библейский Саул дал дочь Давиду: «Она будет ему сетью»; Котляревский, Сизов – какие пустяки! Вячеслав Константинович «отдаст» их Муравьеву, и они будут Муравьеву сетью. Соколов надо приваживать еще до того, как те взвиваются орлами.
В парке легко дышалось. Дворец освещало тихое солнце. Из-за деревьев доносилась полковая музыка. Музыка придавала шагам пружинность. Плеве и Муравьев ощущали радость бытия, какую ощущают после хорошего обеда с хорошим вином и хорошим, понятливым собеседником...
На другой день Плеве был в подмосковном имении.
Имение лежало неподалеку от станции Подсолнечное Николаевской железной дороги. В полутора верстах проселком грустило заброшенное водохранилище, которое уже называли Сенежским озером; там звучно всплескивали лини и щуки весом чуть ли не в дюжину фунтов.
Рыбалки не будили в душе Вячеслава Константиновича атавистические инстинкты. Да и охотиться он не любил. Плеве со времен своего невзрачного отрочества не любил больших бар. Втайне он даже мстительно радовался разорению старинных родов, хотя теоретически скорбел об упадке дворянства.
Вячеслав Константинович не проживался: ему нечего было проживать. Вячеслав Константинович наживался: ему было что наживать. Он клевал по зернышку, осмотрительно и методически. Его не интересовала пейзажная лирика; его интересовала прозаическая экономика.
Он не доверял, а проверял. В Петербурге, в домашнем своем кабинете директор политической полиции хранил большие гладкие разграфленные листы в крупную клетку: ведомости удоя коров, ведомости продажи картофеля, ведомости продажи зерна.
Хозяйство близ Подсолнечного Плеве купил, что называется, в ходу. Правда, лес рос не строевой, а дровяной. Но Москва пожирала пропасть дров, и лес тоже приносил доход. Окрестные луга покрывались обильным травостоем, пашни родили хорошо.
Усадьба была полной чашей. Барский дом на каменном фундаменте, намертво схваченном первоклассным портландским цементом. В доме тринадцать просторных, светлых комнат, людские и кухня, два отхожих места, одно господское, ватерклозет, другое для прислуги – люфтклозет. А в парке – флигель, цветники, пруды, ручей, перегороженный плотиной. Ну и, конечно, строения: конюшни выездных и рабочих лошадей, амбары и ледник, сараи и скотный двор. На скотном дворе сенатор озаботился устройством теплой избы для телят.
Вячеслав Константинович ревизовал тщательно. Он был доволен. При этом его вовсе не тянуло влезть в старосветский халат. Подлинная жизнь, несмотря на всяческие треволнения, кипела не среди полей, не под открытым небом, а в столичной густой атмосфере, среди фрачной публики. Однако государственное поприще представлялось бы слишком неустойчивым, не будь подмосковных, калужских, костромских. Не латифундии, конечно, но все же крепкий фундамент, схваченный портландским цементом. Домашняя независимость обеспечивает и некоторую служебную независимость.
Сладость этого тылового «обеспечения» Плеве особенно восчувствовал после статьи в «Таймс», осветившей не только замыслы Судейкина, но и его, Плеве, союз с покойным инспектором.
Еще в декабре, когда был убит Георгий Порфирьевич, а Дегаев сбежал, Плеве предвидел нелегкие испытания. Он сумел выйти из них сухим. Почти сухим. Нет, совершенно сухим.
Он не опустил головы даже перед графом Дмитрием Андреевичем. Старик и прежде был пуглив, «Таймс» Толстого ужаснула: правая рука министра направляла бомбу, назначенную министру! Его мутные, с желтизною глаза избегали Плеве: о-о-о, какие демоны бушуют в душе тайного советника! Толстому было страшно, хотя он поначалу и нападал. От нападения соскользнул к укорам, от укоров – к намекам на свою недалекую отставку по причине преклонных лет и слабости здоровья. Он задабривал, сулил министерское кресло.
Плеве, как и в Гатчине, не сделал faux pas[8]8
Ложный шаг (фр.).
[Закрыть]. He возражал, не уверял, а молча, холодно, непроницаемо выслушал обвинения и хныканье старого графа. Потом почти презрительно пожал плечами: «Ваше сиятельство, к сожалению, многое видит искаженно. Если угодно, я буду просить отставки». Геморроидальному сутяге некуда будет деться, он протянул директору департамента свою дряблую руку с выхоленными, но грубыми ногтями.
Сохранив лицо, Плеве продолжал служить. Однажды и навсегда была заведена стальная пружина мерного подъема на вершины власти. Ни богатство, ни семья, которую он любил, не могли заменить эти горние вершины. Он не думал злодействовать, как не думал и творить добро. И сказал Господь: «Слова ничего не значат». Пусть словами «добро» и «зло» пробавляются попы и моралисты. Господь сказал: «Слова ничего не значат, я взираю на сердце человеческое». Ну что ж, пусть анатомы взирают на человеческое сердце. Власть – это и не добро, и не зло, и не сердце. Власть – это все в этом мире, где все ничто.
Г-н Плеве отнюдь не желал видеть страну нищей и темной. Он желал родине процветания и могущества. Процветания в теплых избах для телят. А могущества – военного. Лишь оно внушает уважение. Но свободы г-н Плеве отечеству не желал.
Зачем? Раб, нахлобучив фригийский колпак, остается в душе рабом. Что ужаснее, что нелепее разнузданного зверя? Вчерашний раб, правящий рабами, что может быть хуже для самих рабов? Кажется, еще в притчах Соломоновых сказано, что земля сотрясется от раба, сделавшегося царем.
Плеве никогда не сомневался в необходимости неослабного полицейского сыска. Нигилизм – это род казачества. Он возникает и исчезает, исчезает и возникает. А сыск и дознание должны действовать.
Пока они действовали изрядно. Во всяком случае, если верить письмам Скандракова. А верить им можно. Г-н Плеве не оплошал в своем выборе. Чиновник особых поручений не зачумился чиновничьей привычкой говорить начальству одно лишь приятное.
Можно и должно верить Скандракову. Дело движется к развязке. Но пока вожак в Париже, пока там, во Франции, этот человек, виновник статьи в «Таймс», до тех пор не уснешь спокойно.
За обедом в ресторане «Мавритания» Муравьев верно указал, где «болит». Тихомирова изъять необходимо. Чем скорее, тем лучше. И ничего иного, кроме способа, предложенного Николаем Валерьяновичем, г-ну Плеве пока не подворачивалось. Ироническое замечание о трудности иметь дело с республиканцами, намек на фиаско с Гартманом он сделал лишь затем, чтобы охладить Муравьева. Пусть не чувствует, что квит: дескать, вы мне притушите нежелательные разговорчики о провокации, о лжепокушении, а я вам, извольте-ка, идею-с. Нет, милостивый государь, считайте-ка себя должником. И неоплатным.
Вот только поэтому, обедая с Муравьевым, г-н Плеве и прикинулся: дипломатический, мол, проект изъятия вожака террористов труден, почти неисполним. Только поэтому. А по правде, предложение московского прокурора сильно заинтриговало г-на Плеве. И, собираясь в Петербург, он уже размышлял, как нащупать почву через Министерство иностранных дел.
Ясный выдался день, когда г-н Плеве велел заложить коляску. В прекрасном расположении духа уехал он на станцию Подсолнечное. Так уж хорошо ему было, так отрадно, что замечал он и огромное, кованой сини небо, и темноликие пашни в окладах из золота берез, и даже мужиков, сымавших перед барином шапки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.