Текст книги "Воспоминания провинциального телевизионщика"
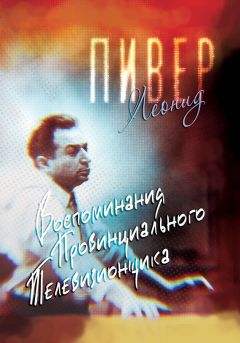
Автор книги: Леонид Пивер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Не трогай!
Отношения телевидения и Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки всегда были особыми. Во-первых, зрелищное учреждение и средство массовой информации являлись почти ровесниками. Ну, не считать же серьезным преимуществом театра лишние два года!.. Во-вторых, меня не покидало ощущение, будто студия является филиалом оперного. Да и мог ли иначе представлять эту ситуацию режиссер редакции музыкальных и развлекательных программ! Казалось, каждый член труппы побывал у нас, на телевидении. Артистам очень нравилось телевизионное внимание. Хотя бы потому, что они моментально становились знаменитыми, ведь аудитория телеэфира – вся область. Со многими мэтрами челябинской оперной сцены я познакомился, когда те еще были молодыми, начинающими, подающими надежды. Это были, в основном, выпускники московской, ленинградской и свердловской консерваторий, челябинского музыкального училища.
А мы, хотя «консерваторий и училищ не кончали», были полны желания выглядеть достойно перед представителями творческой интеллигенции обеих столиц. И иногда это удавалось. Но чтобы достойно снимать спектакль, особенно оперный, нужно было знать, понимать, видеть и слышать всё представление целиком. Наша съемочная бригада – режиссер, оператор, звукорежиссер – ходила в театр, чтобы увидеть, запомнить, прикинуть. Кто еще мог в те времена сказать домашним, уходя на ночь глядя:
– Я пошел на работу! И на вопрос:
– Куда? Гордо бросить:
– В театр!
А мы могли.
Оперный манил, звал. Нас устраивали в директорской ложе, в знак особого уважения. Но из директорской была видна лишь правая половина сцены – об остальном можно было только догадываться. Однако мы терпели творческие неудобства ради поддержания своего реноме. Как льстило самолюбию это пребывание в директорской ложе, гарантировавшее пристальное внимание зала.
Помню, петь заглавную партию в постановке «Евгения Онегина» был приглашен баритон из ленинградского Кировского театра. Зритель во все времена любил оперу Чайковского, и на этот раз зал был переполнен.
Действие разворачивалось, как обычно. Да и что неожиданного может быть в сюжете, известном каждому со школьной скамьи?
Вот прозвучала увертюра. Распахнулся занавес. На сцене – огромные ворота усадьбы Лариных. Причем ворота не бутафорские, фанерные, а – металлические. По ходу действия массовка направляется в дом хозяев. Дворяне – люди интеллигентные – через заборы не лазят. И не успевают артисты чинно-благородно прошествовать сквозь монументальное сооружение, как оно начинает медленно-медленно клониться, в финальной стадии ускоряя свое движение до скорости звука… Грохот. Кажется, сцена исчезла под оркестровой ямой. Клубы пыли…
Занавес закрывают. Минута молчания… Из тишины возникают какие-то стуки, реплики. Чей-то пронзительный голос выкрикивает простую фамилию, не указанную в театральной программке. В ответ несется короткая фраза, смысл которой понятен каждому, даже не знакомому с либретто великой оперы…
Но через некоторое время спектакль возобновляется. Опять звучит увертюра, снова господские гости преодолевают ворота… И, судя по тому, как легко, гордо и весело шествуют артисты, все понимают: ворота будут стоять вечно.
Становится понятным также и то, что все разговоры об отрицательном влиянии волнения на голос – ерунда. Артисты поют просто превосходно.
Наконец, наступает черед знаменитой сцены письма Татьяны Евгению Онегину. Помните, у Пушкина: девичья комната, горит свеча. Представляю, как эффектно будет выглядеть в телевизионном варианте «Я к вам пишу…». Солистка, как и все оперные солистки, не слишком субтильная, воплощая режиссерский замысел, перебирается к окну… Изображая каждым обертоном голоса душевное смятение, кладет руку на декорацию. И тут декоративная стена помещичьего дома качнулась… В полной тишине умоляю:
– Не трогай!
Мне казалось, сказал шепотом.
Но голос у меня – не тенор. Плюс прекрасная акустика оперного… И потом, я красуюсь в директорской ложе… В общем, мое «не трогай!» прозвучало. Пауза по напряженности соответствовала заветам Станиславского… И вот уже публика рыдает от смеха. Я выскакиваю из зала.
Спектакль, конечно, доиграли. Но я досматривал постановку из последнего ряда балкона, устроившись среди «студентов и разночинцев», как часто показывают в старом дореволюционном кино.

Симфония для канделябра с оркестром
Итак, на календаре – конец 50-х годов прошлого века. Впрочем, это не так уж важно – у нас не летопись, а воспоминания! В моей трудовой книжке запись «режиссер». И это звучит гордо.
В Челябинск приехал мэтр, знаменитый дирижер, народный артист Советского Союза, лауреат многочисленных премий Натан Григорьевич Рахлин. Маэстро уже в возрасте, наверное, поэтому с ним супруга, которая его очень оберегала. Какая это была трогательная пара!.. Впрочем, разговор не о личной жизни, – вечером должна была прозвучать «Неоконченная симфония» Гайдна. Однако условия нашей студии и аппаратура просто не годились для записи живой музыки. Магнитофоны и те были однодорожечными. Поэтому приходилось работать под фонограмму, как говорят профессионалы – под плюс. И даже в двадцать первом веке не надо этому ужасаться. Потому что мы, в отличие от западных специалистов, только сейчас научились работать с живым звуком.

Натан Рахлин
Но то было тогда. Записываем фонограмму «Неоконченной симфонии» Гайдна. Оркестр – в студии. Здесь же один оператор наблюдает за происходящим, чтобы позже, при записи картинки ориентироваться в материале. У нас вообще никогда не было суеты, беготни, свидетелем которых я становился, оказываясь в московских студиях.
Обстановка – тихая, рабочая. Никаких телевизионных кранов и про чих столичных съемочных аксессуаров. И музыкантов, не любивших кутерьмы, резких движений, такая ситуация вполне устраивала.
На пульте – звукорежиссер, микрофоны выставлены, ассистент в боевой готовности.
И главный – я, специалист по музыке, знаток разных неоконченных симфоний.
– Начинаем запись. Внимание! Мотор!
Маэстро дает вступление. Около десяти секунд льется чарующая музыка, вступает валторна…
– Стоп, стоп! – внезапно командует Рахлин. – Здесь не та нота!.. Я хорошо знал этого валторниста из оркестра нашего Театра оперы и балета имени Глинки. В те годы оркестранты зарабатывали мало, как, впрочем, и сейчас. Духовики-то были в привилегированном положении: могли подрабатывать, так сказать, в сфере ритуальных услуг. Но, естественно, даже частое соприкосновение с человеческим горем не дает права осквернять фальшивкой бессмертную музыку!
– Еще раз! – взмывает дирижерская палочка.
– Мотор! – отзываюсь я. – Дубль два!
– Ваам-парам-пари! – отзывается оркестр. Доходим до партии валторны, – опять неправильно! И тут у меня возникает гениальная мысль:
– Натан Григорьевич, – предлагаю я, – в фонотеке областного радио есть запись вашего оркестра с этой симфонией! Представляете, звучать будет другой оркестр, а наш – просто имитировать исполнение в кадре!
Я думал, что маэстро просто умрет от счастья! И валторнист, наконец, выдаст свой основной репертуар! А Рахлин спокойно так говорит:
– Нет, нет, ну что вы, друг мой, нет, нет, это неприлично… Давайте еще разочек!
– Мотор! – вступаю я. – Дубль три!
Звучит спасенный оркестр, дело доходит до валторны… И я чувствую, что сыграно так же, как и в предыдущих дублях!
– Стоп! – вырывается у меня.
Оркестр замирает. Становится тихо настолько, что я слышу свои мысли:
– Боже мой! Что я наделал! Народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии продолжает запись, а я останавливаю!
Мне, еще только начинавшему на телевидении, показалось, будто музыкант опять ошибся.
И вдруг, среди этого потока мыслей:
– Как зовут молодого человека? – обращается Рахлин к оператору Игорю Бузуеву, второму большому специалисту в области неоконченных симфоний.
В моем сознании проносится вся моя жизнь, показавшаяся такой мелкой, незначительной:
– С улицы взяли, на улицу и выгонят! И что я буду делать без любимой работы? Как жить?
– Леонид! – между тем радостно сообщает оператор, которому, как и многим, я досаждал наставлениями во время съемок.
И Рахлин повторяет радостно:
– Леонид!
– Да, – отвечаю «уволенным» голосом.
– Лёнечка, – продолжает он. – Лёнечка, спасибо, а то я никак не мог с ним справиться!
Поднялся хохот. Смеялся оркестр, смеялся даже оператор, не дождавшийся на этот раз моего увольнения. И моя жизнь опять потекла в творческом удовлетворении…
Здесь можно было бы поставить точку, или, как говорят режиссеры, стопнуться. И ощущение незавершенности выразило бы полное соответствие моего рассказа «Неоконченной симфонии». Но, в отличие от Йозефа Гайдна, создавшего бессмертное творение в знак протеста против сумасбродства покровителя – графа Эстергази, я никому и ничего не пытаюсь доказать. А пробую только рассказать!
И тут нельзя не рассказать (прошу прощения у читателей, сведущих в классической музыке!), что по воле автора «Неоконченная» исполняется при свечах, зажженных на каждом пульте. И, по мере приближения произведения к финалу, исполнители, отыграв партию, гасят свечу и уходят со сцены. Создается необычайно эмоциональная обстановка: уходит медь, задув свечи, уходят скрипки… В общем, публика, как правило, рыдает.
И когда мы записывали картинку для рахлинского исполнения, хотелось передать эту волнующую атмосферу. Но как? О свечах не могло быть и речи – их бы просто не заметили в свете студийных софитов, по яркости соперничавших с дуговой сваркой. Тогда вспомнили про канделябр, завалявшийся в реквизите. И помощнику режиссера весь эфир пришлось ползать под камерами со старинным осветительным прибором и, по моей команде, когда очередной музыкант покидал сцену, взмахивать им перед объективом. Зритель замечал мелькнувший в кадре канделябр и понимал, что имелось в виду.
Так, изобретательностью, граничащей с художественным хулиганством, мы компенсировали скудость технического арсенала.


С Мстиславом Ростроповичем
«Амати» в студию
Мы не догадывались, но та гастрольная поездка Мстислава Ростроповича была последней перед вынужденной эмиграцией. Из сообщений газет, радио и телевидения невозможно было понять, что происходит. Мелькали фамилии Ростроповича, Вишневской, Солженицына, но в чем дело – никто не знал.
Оркестр Мравинского в полном составе, с солистами, среди которых был великий русский виолончелист, приехал к нашим соседям – в Курган, чтобы выступить в непривычном качестве. Музыканты неделю трудились на строительстве ортопедического центра Г. А. Илизарова, где в это время лечился великий русский композитор Д. Д. Шостакович. Неизвестно, играл ли оркестр на стройке или музыканты носили раствор и кирпичи, но Челябинская филармония договорилась с маэстро о концерте в студии. Все с нетерпением ждали этого события, а режиссеры музыкальной редакции находились в отпуске. Лично я рыбачил на озере Тютняры.
Так, в рыбацком снаряжении, которое не слишком отличалось от театрального, я и примчался на студию, разорившись на попутную машину.
Через полчаса приехал маэстро.
– Мстислав Леопольдович, это режиссер, – представили меня.
И сердце захлестнула волна радости, когда великий артист заключил меня в объятия.
Правда, потом, из воспоминаний Галины Вишневской, я узнал, что ее супруг дарил это необычайно теплое, дружественное объятие всем знакомым, малознакомым и незнакомым людям.
А тогда – маэстро репетировал, мы готовили студию. Во время непродолжительного отдыха перед началом записи я подошел к инструменту. Виолончель небрежно лежала на стуле, и я хорошо рассмотрел инструмент гения. Он был старым, обшарпанным. Казалось, передо мной – участница сцены драки из знаменитой комедии Г. Александрова «Веселые ребята». Место, которого касалась рука маэстро, было словно изодрано тигриными когтями.
И я решил пошутить, но не как с мировым гением, а как с одногодком:
– Мстислав Леопольдович, вы такой великий музыкант, а у вас такой инструмент…
– Да, это ужасно, друг мой, – согласился Ростропович. – И тем более ужасно, что это Амати…
Ну, кто такой Амати, я уже знал. Включив воображение, я представил, как пять веков назад, в Кремоне, старый седой мастер при тусклом свете свечи нежно трогает струны, проверяя звучание сотворенного им дивного инструмента.
– И цена его восемьсот тысяч долларов… – продолжил маэстро.
Тут мое воображение отключилось. Как выглядит без малого миллион долларов, я не представляю до сих пор. Так что не ищите меня в списках Форбса!


Тут вошел он
В 1958 году в стране широко отмечался юбилей комсомола. Мы тоже не могли отстать от страны. Благо в то время многие участники исторических событий были еще живы. Они с удовольствием встречались с молодежью, делились воспоминаниями. Нам не составило труда отыскать в городе двух делегатов самого первого съезда комсомола, пригласить их в студию. Тогда это была еще малая студия, маленькая площадка. Но отметить событие хотелось грандиозно.
Чтобы оживить студийный интерьер, соорудили шалаш – не бутафорский – настоящий. Поставили два пенька, чтобы хоть как-то приблизить ту атмосферу, в которой, по нашему мнению, и должен был зарождаться будущий союз молодежи. Привезли из ближайшей школы третьеклассников в галстуках и белых рубашках. Окружившие ветеранов ребятишки радовали глаз, одновременно являя грядущую комсомольскую смену. И последнее было идеологически правильным.
Договорились, что первой на программе выступит Клавдия Ивановна, а после слов «Тут вошел он!» продолжит Николай Васильевич.
Прозвучало, как обычно:
– Внимание! Эфир.
Ведущая отрапортовала:
– Сегодня у нас в студии ветераны ВЛКСМ…
И Клавдия Ивановна начала делиться воспоминаниями. Делилась она долго. Почти столько времени, сколько прошло со дня памятного съезда. У пионеров, сидящих под нашими софитами, уже пот стекал ручьями.
А ветеранша не умолкает. И вдруг, сквозь пламенную речь, слышу храп.
– Что такое?! – кричат на пульте.
– Ветеран заснул! – понимаю я.
Наконец, звучит пароль:
– Тут вошел он…
В ответ – только храп. Разморило старичка.
Клавдия Ивановна, не получив поддержки, усиливает посыл:
– Тут вошел он! Николай Васильевич, вы, конечно, его узнали… Храп.
Она громче:
– Николай Васильевич! И тут вошел он…
– И мы его все узнали… По лысине! – молвил внезапно проснувшийся Николай Васильевич.
– Всех разгонят! Поубивают! – хаотично соображал я. – За что? Что плохого я сделал комсомолу?
Между тем гости напропалую пустились в воспоминания. Всплывали фамилии, явки, пароли… Я отчетливо представил выражение лиц сотрудников курирующей нас организации.
– Там был… – Клавдия Ивановна называет фамилию, – помните, он потом оказался провокатором…
– Не может быть! Я его видел в прошлом году на рынке… Забыв о том, что старикам везде у нас почет, прошу оператора, стоящего ближе к участникам:
– Сережа, покажи, чтобы закруглялись!
Сережа руками показывает ветеранам большой круг.
– Это куда? – спрашивает Николай Васильевич.
И, поймав окончание очередной фразы, мы убрали картинку. Дали песню «Взвейтесь кострами» и на оптимистической ноте ушли из эфира.
… С тех пор я настороженно отношусь к ветеранам. В том числе, и к себе.
Утро туманное
В 60-е годы популярных артистов мы часто видели по центральному телевидению. Их популярность была невероятной. Но когда звезды появлялись в провинциальных студиях, то с удивлением обнаруживали полное отсутствие суматохи и возгласов:
– Ой, это вы?
У провинциалов собственная гордость…

Борис Штоколов
Однажды в Челябинске гастролировал народный артист СССР Борис Штоколов – прекрасный певец, гордость отечественной оперной сцены. И между прочим, наш земляк, уралец. Тогда Штоколов был еще молод, но уже выглядел чрезвычайно представительно.
Когда он пел, его бас словно обволакивал слушателя. Микрофоны уважают такие голоса.
И вот, перед началом телепрограммы, Борис Тимофеевич признаётся:
– Ребята, я люблю крупные планы!
А я, уже немного попритершийся к «звездам», не спорю:
– Замечательно! Всё дадим крупным планом. А как же…
По графику подается команда в студию, светится табло «Микрофон включен» – передача начинается. В кадре идет средний план, хороший свет – черно-белый, который мне так нравится, микрофон работает…
Звучат несколько произведений. Увлекшись, я совсем позабыл о крупном плане…
Диктор объявляет: – В заключение исполняется старинный русский романс «Утро туманное».
Звучат первые аккорды. Вступает голос певца… Нивы, согласно тексту, печалятся… И тут я, вспомнив про крупный план, имею неосторожность скомандовать оператору: – Наезжай! Камера едет.
– И еще немножечко… Стоп! Камера замирает. В мониторе наблюдаю «поясной» план исполнителя, слышу строки рвущего сердце романса… Потом замечаю изменение ракурса… Камера опять идет на укрупнение.
– Куда? – торможу оператора. Он бормочет в микрофон: – Лично я – никуда, это меня…
А монитор по-прежнему заполнен крупным-прекрупным планом народного артиста. Вот объектив сканирует мощную грудную клетку… Я – опять к оператору, еще настойчивее: – Отъезжай!
– Не могу, – злится оператор. – Он камеру к себе тянет! И тут я соображаю, что происходит. На старых студийных аппаратах спереди, ниже объективов, как хобот у слона, торчал толстенный кабель питания. И Штоколов, то ли в творческом экстазе, то ли из любви к «крупнякам», схватился за этот электрический шланг, а объектив-то был широкоформатный. Техники в панике: – Лёня, мы видим печень! Я кричу оператору: – Отъезжай!
И вижу, как между ним и певцом начинается нечто вроде состязания по перетягиванию каната. Причем оператор тянет сознательно, а Штоколов, похоже, бессознательно. Он-то не видит, что происходит в кадре. А мы видим огромное нёбо певца и другие детали вокального аппарата – в общем, цех по производству «Утра туманного», хотя смотреть это было невозможно. Наконец, оператор вырвался, отъехал, но камера еще долго дергалась, словно не могла отдышаться. Это было невероятно!
Борис Тимофеевич, несмотря на то, что очень скучал без соседства камеры, достойно закончил романс. И потом, уже за кадром, спросил:
– Ну, как получилось?
Что можно было сказать дорогому гостю?
– Замечательно! Крупные планы – просто прелесть, – отвечал я.
Но оператор и камера еще долго не могли успокоиться.

За одним столом с Сергеем Эйзенштейном
В конце шестидесятых мы решили пойти на эксперимент. К этому времени, имея опыт телевизионных съемок, небольшую практику кинопроизводства, мы решили снять произведение, о котором написали бы в афишах: «Смотрите цветной художественный фильм».
В художественном совете было много дискуссий. Кто-то предложил снять полнометражный цветной фильм об уральских золотоискателях с метражом примерно час-час двадцать. И когда уставшая комиссия уже почти решилась на это предложение, вспомнили, что Москва нам выделила пленки всего на две киночасти – ровно двадцать минут. «Золотой лихорадки» не получалось…
На следующий день комиссия продолжила заседание. Было решено снять недавнюю премьеру Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки – спектакль «Болеро» на музыку Мориса Равеля. Время балета и количество пленки совпадали. Спектакль шел 18 минут и четыре секунды. Сделанный выбор был явным признаком высокого профессионализма нашего худсовета.
И началось! Те, кто видел фильм «Время, вперед!», могут представить себе размах строительных работ. Сооружался громадный деревянный помост, имитирующий сцену оперного театра. К этому времени студия заполучила профессиональную кинокамеру «Родина». Нам, привыкшим к портативным съемочным средствам, эта камера казалась необъятной, как и сама наша страна.
Кажется, каждую секунду съемок я помню до сих пор. Работали по ночам, когда в студии заканчивались программы. Актеры приходили на телевидение после вечерних спектаклей.
Оформление, представлявшее, по нашему мнению, испанскую Севилью, делали «вскладчину»: декорации взяли в театре, а «хлопушка» была наша.
– «Болеро», дубль один!
– «Болеро», дубль два!
Танцовщики были молоды, энергичны. Они испытывали эмоциональный и творческий подъем уже оттого, что впервые записывались на телевидении. Даже усталость от ночных съемок не отражалась на общем уровне накатывавших чувств.
И так продолжалось десять ночей. Потом двадцать дней монтажа. И все это время звучала музыка Равеля: ба-ба-ба-бам – ба-ба-ба-бам – ба-ба-ба-бам. Вот это, скажу я вам, пытка! Даже в средневековье не было более изощренных истязаний. Ба-ба-ба-бам – ба-ба-ба-бам – ба-ба-ба-бам!!! Не верите, – послушайте!
И наконец прозвучало:
– Снято!
Девушка с «хлопушкой» заплакала… Это были слезы радости.
Полет души закончился – начались банальные телевизионные проблемы. Например, студийный проявочный комплекс не позволял обрабатывать цветную кинопленку. Возникли сложности с монтажным столом. Проявка, копирование, сведение…
– Куда мы влезли? – паниковал я. – Это целая индустрия… Надо ехать в Голливуд!
Ближе всего к Голливуду оказался Куйбышев (Самара), где дислоцировалась студия документального кино. Там можно было проявить пленку, но не было возможности смонтировать. Так, радуясь, что и Куйбышев – тоже не Голливуд, мы с ассистентом отправились на вокзал.
Очередную схватку за Равеля мы выиграли у проводницы: в вагон нас не пустили, поскольку пленка была горючей. Ее полагалось сдать в багаж, оплатить провоз… А все, что касалось оплаты наличными, при социализме приравнивалось к государственной измене… И тут меня озарила очередная творческая находка: рулоны пленки были извлечены из коробок, делавших ее негабаритной, и растолканы по чемоданам.
Оказавшись в купе, мы разместили чемоданы с бесценным содержимым под нижними полками. И когда устроились на этих полках, то почувствовали себя, как на пороховых бочках.
В Куйбышеве пленка была проявлена, с нее был сделан позитив, призванный при монтаже спасти оригинал-негатив.
А монтировать фильм пришлось в Алма-Ате. Среди казахстанской экзотики я оказался впервые. Но даже знаменитые манты попробовать не успел – безвыходно сидел c оператором в монтажной. Спустя неделю работа подошла к финалу. Cобытие было скромно отмечено в местном ресторане. Какое счастье! – у оркестра в тот день был выходной. И мы с Равелем отдохнули!
На утро был назначен просмотр. Спускаемся в фойе – а там толпятся люди. И их настроение совсем не соответствует нашим радостным лицам.
– Что случилось?
– Юрий Гагарий погиб!..
Просмотр, естественно, отменили. Мы тихо вернулись в Челябинск.
Спустя какое-то время наш фильм показали. Кто-то из музыкантов-профессионалов заметил, что в паре мест не стыкуются картинка и музыка. Ну, профессионалам виднее. Зато никакие профессионалы не смогли понять, что балетное действо было снято одной камерой, в одной студии и c одной точки!..
И еще один штрих. В финале этой длинной истории я хочу вспомнить монтажную комнату алма-атинской киностудии. И табличку у входа: «Здесь великий советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн монтировал вторую серию фильма „Иван Грозный“». Тот фильм не понравился Сталину и не вышел на экран. К счастью, наш фильм не разделил эту печальную участь. Челябинский зритель его принял. В конце концов, кому-то должно было повезти…

Серьезный разговор с Вероникой… Леонид Пивер и эстрадный дуэт Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична
(Вадим Тонков и Борис Владимиров)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































