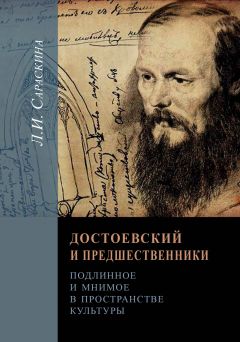
Автор книги: Людмила Сараскина
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
В песне Булата Окуджавы «На фоне Пушкина снимается семейство» рефреном звучат строки: «На фоне Пушкина и птичка вылетает». Пушкин здесь – это такое волшебное слово, ведь фото на фоне Пушкина (пушкинского ли памятника, портрета ли, вывески с его именем) сулит счастье и исполнение желаний.
«А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем поужинать в “Яр” заскочить хоть на четверть часа» – здесь Пушкин из ностальгической песни Окуджавы «Былое нельзя воротить…» – как раз поэт, дорогой собеседник, приятель, может быть, друг. Пушкин ассоциируется с желанием чего-то невозможного, и если «извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается, то завтра наверное что-нибудь произойдет».
А в стихотворении Окуджавы «Счастливчик Пушкин»13 воспроизводится часть мифологии о Пушкине, которая огромна и цветиста: образ Пушкина показан в зеркале популярного, обыденного сознания, на уровне массовой культуры, ее ходячих слухов и анекдотов.
Александру Сергеичу хорошо!
Ему прекрасно!
Гудит мельничное колесо,
боль угасла,
баба щурится из избы,
в небе – жаворонки,
только десять минут езды
до ближней ярмарки.
У него ремесло первый сорт
и перо остро.
Он губаст и учен как черт,
и все ему просто:
жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой смерти.
Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы его стихи
на память заучивали!
Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом.
Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.
Он умел бумагу марать
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки.
В популярнейшей композиции Ю. Шевчука «В последнюю осень» певец обращается к Пушкину-мудрецу, хранителю Знания, посвященного в некие сакральные Тайны, – это и скорбь о ранней смерти поэта, это и горечь утраты, обездолившей современных стихотворцев и бардов.
Ах, Александр Сергеевич милый,
Ну что же Вы нам ничего не сказали,
О том, что искали, держали, любили.
О том, что в последнюю осень вы знали.
…………………..
Уходят в последнюю осень поэты,
И их не вернуть, заколочены ставни,
Остались дожди и замерзшее лето,
Осталась любовь и ожившие камни.
…Вновь обращусь к дилогии И. Ильфа и Е. Петрова, которая буквально пронизана именем Пушкина, образами и строками его поэзии, вообще – пушкинской мифологией.
Пушкин – самый убедительный тест на элементарную, в пределах школьной программы по литературе, образованность. «Не обязательно всюду быть, – кричит в редакции ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму» Никифор Ляпис-Трубецкой, темный графоман и халтурщик, сочинитель нескончаемой «Гаврилиады» (несомненный намек на пушкинскую «прекрасную шалость»): «Гаврила ждал в засаде Зайца, / Гаврила Зайца подстрелил» и т. п.). – Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции»14.
– «О да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии», – возражает ему грамотный работяга, редактор «Станка» Персицкий.
«Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал:
– Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал»15.
Если Пушкину можно описать событие, не побывав на его месте, то и всякому можно, рассуждает Никифор Ляпис.
Пушкин – и слово, и поэт, и его памятник, будучи центром мироздания, – магнитом притягивает к себе все живое. «На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок… Но жизнь весны кончилась – в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках дудочках, галстуках “собачья радость” и ботиночках “джимми”»16.
Профессиональный сочинитель острот, записной автор юмористических журналов, Авессалом Владимирович Изнуренков, обладатель одного из двенадцати стульев, встречается в Пятигорске (уже лишившись стула) с просящим милостыню Кисой Воробьяниновым, сует ему, неузнанному, три рубля. «Долго еще в “Цветнике ’’мелькали его толстенькие ляжки и чуть не с деревьев сыпалось:
– Ах! Ах! “Не пой, красавица, при мне ты песни Грузии печальной!” Ах! Ах! “Напоминают мне оне иную жизнь и берег дальний!..” Ах! Ах! “А поутру она вновь улыбалась!” Высокий класс!..»
Две строки романса С. Рахманинова на слова А. Пушкина в исполнении Изнуренкова соседствуют со строчкой полублатной песни Б. Кинера и М. Цитриняка «Бандиты стражу перебили»17; оба произведения одинаково вызывают «ахи» исполнителя и оцениваются им как «высокий класс». Пошляк Изнуренков, персонаж пародийный, соединяет красавицу из романсовой композиции Пушкина-Рахманинова с красоткой из блатных «Бандитов»: для него это одна и та же фемина. Прием снижения образа построен по классическому образцу.
«Куда девал сокровища убиенной тобой тещи?..18 – кричит отец Федор Востриков, священник церкви Фрола и Лавра уездного города N. и по совместительству охотник за бриллиантами мадам Петуховой, обращаясь к ее зятю, Кисе Воробьянинову. – Говори!.. Покайся, грешник!
Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание. Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло: “Дробясь о мрачные скалы, / Кипят и пенятся валы…”
Великий испуг поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но колени у него затряслись»19.
Хорошо знающий творчество Пушкина и уместно, по ситуации, им пользующийся Остап Бендер цитирует первые две строки стихотворения «Обвал» (1829), точно рассчитывая, какой эффект оно должно произвести на алчного попика: великий испуг, до обморока, и грозное предупреждение о смертельной опасности, будто знает отец Федор вторую строфу стихотворения:
Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.
Окрик Бендера остановил и охотника за чужими сокровищами попа-расстригу «Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь… Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусам зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх»20.
Сила поэтического слова в устах умелого манипулятора командора Бендера творит чудеса, обращая противника в бегство.
Меж тем отец Федор тоже, оказывается, не чужд пушкинской стихии. Забравшись, движимый великим испугом, на совершенно отвесную скалу, он уже почти в беспамятстве, шепотом цитирует поэму «Цыганы». «Над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся Терек фунта полтора хлеба. Отец Федор погрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал:
Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.
Орел покосился на отца Федора, закричал “ку-ку-ре-ку” и улетел.
– Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!»21.
Воображая себя «птичкой божьей», Федор Иванович Востриков изрядно лицемерит – цитата из пушкинских «Цыган» дана ему будто в насмешку, и даже в издевку. Использовав тайну исповеди в целях наживы, стяжатель скачет по городам и весям в погоне за чужими стульями, трудится в поте лица и не щадя живота своего, заботясь во что бы то ни стало опередить конкурентов. Что же касается «долговечного гнезда», то, доведя до полного разорения свой дом в уездном городе N., он мечтает о покупке давно присмотренного свечного заводика в Самаре -
нужен только основной и оборотный капитал. Так что нет ничего более далекого от отца Федора, чем птичка божия, что гласу Бога внемлет, а как солнце красное взойдет, встрепенется и поет.
Пушкинские «следы» щедро разбросаны по всей дилогии – намеки, аллюзии, ассоциации. Назову лишь некоторые: «Ждать Остапу пришлось недолго. Вскоре из домика послышался плачевный вой, и, пятясь задом, как Борис Годунов в последнем акте оперы Мусоргского, на крыльцо вывалился старик»22. «Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона?»23 (здесь сразу три скупца – из Шекспира, Пушкина, Мольера). «Я вам устрою сцену у фонтана»24, -грозит Остап Бендер-Димитрий Самозванец устроить крупную разборку своим нерадивым компаньонам, Шуре Балаганову и Паниковскому.
И наконец, Пушкин – собственной персоной, без экивоков, намеков и околичностей: «У меня, – признается Остап Бендер водителю «Антилопы» Адаму Козлевичу, – налицо все пошлые признаки влюбленности: отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: “Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты”. Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?»25.
Много титулов и званий у Остапа Бендера: сын турецко-подданного и графини, живущей на нетрудовые доходы, командор, великий комбинатор, потомок янычаров, кавалер ордена Золотого Руна. Но последнее, в финале «Золотого теленка», самое замечательное.
«Вот навалился класс-гегемон, – сказал Остап печально, – даже мою легкомысленную идею – и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите, меня оттерли. Я несчастен.
– Печальный влюбленный, – произнесла Зося, впервые поворачиваясь к Остапу.
– Да, – ответил Остап, – я типичный Евгений Онегин, он же рыцарь, лишенный наследства советской властью»26.
Родство Остапа Бендера с Евгением Онегиным очевидно: он такой же, как и Онегин, лишний человек – лишний на советском празднике жизни, в мире профсоюзных столовых, в расписании автопробегов и собраниях почвоведов, в сознании молодых девушек и юных студентов, которые чураются миллионера и его непонятного миллиона. При всем своем уме, энтузиазме и опытности он не смог предвидеть, что миллион в сложившейся жизненной ситуации не даст ему никаких новых возможностей.
Однако замечу и существенное различие: про Остапа Бендера, может, и можно думать как о типичном Евгении Онегине, но представлять Евгения Онегина как типичного Остапа Бендера никак невозможно: не тот масштаб, не та эстетика.
В контексте дилогии И. Ильфа и Е. Петрова Пушкин – в полном объеме смыслов – и в самом деле «наше всё». Замечу попутно и другое: из всех объектов дореволюционной дворянской культуры, которые стали для сатириков мишенью для ниспровержения, дробления и измельчания (какими стали, например, Л. Толстой и Ф. Достоевский27), Пушкин «пострадал» менее всех: совокупные упоминания и цитирования, очевидные свидетельства магнетической привязанности авторов дилогии к классику, удержали их от фирменных издевок и комического осквернения.
Миф как признание в любвиПушкинский миф – это корпус текстов русской литературы, в которых А.С. Пушкин представлен как литературный герой или мифологический образ.
Пушкинский миф обаятелен и многолик.
О бескрайнем океане пушкинской мифологии пишет автор широко известных очерков о мифологии Петербурга: «Повышенный интерес низовой, фольклорной культуры к тому или иному историческому лицу, как правило, возникает при острой недостаточности документальной информации. И хотя Пушкин, будучи одним из любимцев истории, не был обделен вниманием официальных летописцев, интерес к нему фольклора огромен. Наряду с документальной создавалась параллельная, фольклорная биография поэта, фрагменты которой дошли до нас в виде легенд и преданий, мифов и анекдотов о любимом национальном поэте»28.
Имеет смысл подчеркнуть, что «миф» как понятие не имеет единого общепринятого определения. Миф – это не совсем сказка и не совсем выдумка, ибо часто содержит в себе некую важную информацию, рациональное зерно реальных событий и фактов. Мифология (от греч. mifos – предание, сказание и logos: слово, понятие, учение) – форма общественного сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий общественного развития. Однако и в современной культуре слово «миф» – одно из наиболее популярных и общеупотребительных, хотя оно продолжает оставаться неразгаданным и глубоко таинственным. Историки культуры понимают миф как совокупность странных, фантастических повествований, на которых построена вся духовная жизнь древнейших цивилизаций.
В мифе странно и причудливо сочетается подлинное и вымышленное. «Миф – это яркая и подлинная действительность, ощущаемая, вещественная, телесная реальность, совокупность не абстрактных, а переживаемых категорий мысли и жизни, обладающая своей собственной истинностью, достоверностью, закономерностью и структурой и в то же время содержащая в себе возможность отрешенности от нормального хода событий, возможность существования иерархии бытия»29.
Миф, полагают историки культуры, соединяет в себе рациональное и иррациональное. Рациональное – поскольку современный человек стремится достичь ясной картины окружающего мира, такой картины, которую можно проверить на достоверность и подлинность. Иррациональное же в мифе не подлежит проверке, и ему нет соответствия в действительности. Соединение рационального и иррационального более всего отвечает задаче постижения биографии великого человека, которая – в восприятии современников – при всей тяге к реализму и ясности часто мифологизируется и даже мистифицируется. «Миф – вещь двусмысленная, амбивалентная. В одних случаях мифу надо верить – иначе попадешь в профаны, выгонят тебя из храма культуры и обзовут Фомой неверующим. В других случаях мифу верить нельзя ни в коем случае – иначе попадешь в дураки и невежды: “А ты думал, что это правда? Неужели ты такой темный?” И самая коварная штука заключается в том, что нигде, ни в какой энциклопедии, ни в каком справочнике не написано, как отличить миф в первом, высоком значении (“предание, традиция”) от мифа во втором, низком смысле (“вранье”)»30.
Пушкинский миф стал формироваться уже при его жизни. Фактически каждое крупное событие недолгой жизни поэта становилось легендой, тканью мифа, сценарным материалом. Формулы личности Пушкина, которые проговаривались его выдающимися современниками, становились мифологемами – и время показало их жизненность, их непреходящую актуальность.
Основоположником, пионером создания пушкинского мифа можно считать Н.В. Гоголя. В 1832 году, то есть еще при жизни поэта, в небольшой статье «Несколько слов о Пушкине» Гоголь даже не сказал, а провозгласил: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте… В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет»31.
Гоголь написал это за пять лет до смерти поэта, но и сегодня мысль о нем как о русском человеке, который явится через двести лет, будоражит воображение соотечественников. Гоголь, правда, обезопасил свое высказывание осторожной оговоркой «может быть», но ее, эту оговорку, в спорах о Пушкине и о прогнозах Гоголя, как правило, не замечают. Но как не явилось в русской поэзии второго Пушкина, так и не стал русский человек в своем развитии явлением, в котором «русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла»32.
Да и с какого времени следует отсчитывать эти двести лет? Если со дня рождения поэта, то двести лет исполнились в 1999 году: русский человек в своем развитии претерпел столько страданий, столько несчастий, столько утрат, что странно было бы ожидать от него безупречной чистоты и красоты характера. Если же гоголевский срок приурочен к дате написания статьи, то вряд ли и в 2032 году наступит время, когда будет достигнуто величие русской души в абсолютной степени. Да и не мог предвидеть автор «Мертвых душ», как повлияют на русского человека революции, войны, репрессии, тюрьмы, лагеря. Чего стоит один только «мирный» квартирный вопрос, который так испортил характер соотечественников и в столицах, и в провинции.
Мифологема «русский человек через двести лет» в статье Гоголя все же была смягчена обаятельными деталями из биографии Пушкина, которые называет писатель: разгул и раздолье, которые так нравятся свежей молодежи; Кавказ, который разорвал в поэте цепи, тяготевшие на свободных мыслях. «Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин; ничья слава не распространялась так быстро… Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его на своем творении, уже оно расходилось повсюду»33.
Невозможно переоценить, какое влияние оказал романтический гоголевский комментарий на будущих биографов поэта.
Еще через два года мысль Гоголя поддержал В.Г. Белинский. «Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чутьем и удивительною способностию принимать и отражать всевозможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия… Да – Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества, – но мира русского, но человечества русского»34.
Мысль о Пушкине, который все попробовал – и в поэзии, и в жизни, – стала насущной пищей для биографов, дала возможность самым широким толкованиям.
«Его муза – не бледное существо, с расстроенными нервами, закутанное в саван, это – женщина горячая, окруженная ореолом здоровья, слишком богатая истинными чувствами, чтобы искать воображаемых, достаточно несчастная, чтобы не выдумывать несчастья искусственные»35. Так в 1850 году высказался о Пушкине А.И. Герцен, поддержав расхожее суждение о чувственном характере поэзии Пушкина, но избежав той резкости, с которой о чувственности поэта писал, например, М.А. Корф, лицеист-однокашник, невзлюбивший поэта: «В Лицее он превосходил всех чувственностью, а после, в свете, предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. Должно дивиться, как и здоровье, и талант его выдержали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались и частые гнусные болезни, низводившие его часто на край могилы. Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы. У него господствовали только две стихии: удовлетворение чувственным страстям и поэзия; и в обеих он ушел далеко»36.
О чувственности поэта сложены легенды; о его донжуанском списке не упоминают разве что самые чопорные казенные пушкинисты, мифы о поэте-сластолюбце с бешенством желаний и страстей – обязательный атрибут многих и многих жизнеописаний, равно как и легенды об адресатах его любовных посланий: споры об этом не прекращаются и по сей день.
Важнейшая из мифологем о Пушкине возникла через два десятилетия после смерти Пушкина, в 1859 году, под пером еще одного корифея русской критической мысли А.А. Григорьева: она, мифологема, во-первых, определила место Пушкина в меняющемся мире и в мировой литературе (как оно понималось критиком), а во-вторых, стала мемом, полновесной единицей культурной информации.
«Пушкин – наше всё: Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что останется нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужими, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя… все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный… образ народной нашей сущности…»37.
При очевидной прозрачности высказывания оно вызывает множество вопросов. Что значит «наше»? Наше, то есть принадлежащее русской литературе и ничье больше? Что значит «всё»? Надо ли так понимать, что за пределами Пушкина для «нас» больше ничего существенного нет? Или все же есть? Покрывает ли собой Пушкин весь объем и горизонт литературы и культуры? Далее. Самородок ли Пушкин?
Для биографа это важнейший вопрос: откуда все же взялся пушкинский гений, из чего возник, на чем возрос? Однороден ли образ «народной нашей сущности»? Так ли он полон и целен? Эффектное рассуждение критика нуждается, как видим, в уточнении и конкретизации, чтобы яркая и звучная мифологема превратилась в нечто осязаемое и реальное.
Нельзя тут не вспомнить современный анекдот: «Почему говорят, что Пушкин – это наше всё?» – «А потому, что все остальное уже не наше».
Вскоре после публикации А.А. Григорьева утверждение, что Пушкин – «наше всё», было радикально поколеблено другим представителем русской критической школы, с ярким протестным, нигилистическим складом ума. Д.И. Писарев дал понять, что он не подписывается под формулой «наше всё», не приемлет ее и никакого благоговения при анализе пушкинских текстов не испытывает. В статье «Пушкин и Белинский» (1865)38 Писарев так язвительно, так насмешливо, так уничижительно и беспощадно отзывается о предметах пушкинской поэзии, так презрительно рисует центрального пушкинского персонажа, Евгения Онегина, что – в рамках своей статьи – камня на камне не оставляет от величия Пушкина. На фоне Шекспира, Шиллера, Байрона и Гёте «наше всё» для Писарева – это всего лишь «наш маленький Пушкин», которому «решительно нечего делать в той знатной компании, в которую он попал по милости своего доброжелателя, Белинского». «Наш маленький и миленький Пушкин не способен не только вставить свое слово в разговор важных господ, но даже и понять то, о чем эти господа между собою толкуют». «Пушкин пользуется своею художественною виртуозностью, как средством посвятить всю читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственного бессилия».
Короче: «Господин Пушкин изволят быть знаменитым сочинителем. Стало быть, если господин Пушкин изволят любить и жаловать Татьяну, то и мы, мелкие читающие люди, обязаны питать к той же Татьяне нежные и почтительные чувства». Писарев всеми силами своей души противился такому, как он считал, интеллектуальному диктату.
Претензии Писарева к Пушкину равнялись его претензиям к Онегину: оба неспособны к обсуждению насущных проблем, обоих занимают лишь пустяки. Пушкин своим талантом усыпляет общественное самосознание, подавляет личную энергию, обезоруживает личный протест и укрепляет общественные предрассудки. Пушкин не имел ни малейшего желания выставлять напоказ мелкие и дрянные стороны онегинского характера, а на женщину смотрел исключительно с точки зрения ее миловидности. Никакого права стоять на пьедестале Пушкин не имеет – ибо всю жизнь создавал невинные и бесцельные штучки, решать же великие задачи он не только не умел, но и не считал нужным.
Имя Пушкина сделалось знаменем неисправимых романтиков и литературных филистеров.
Так был создан контрмиф: мифологема оборачивалась идеологемой, отрицание Пушкина как первого поэта России, как абсолютной величины для русской культуры заражало новизной, свержение кумиров виделось задачей соблазнительной, воистину революционной.
Спустя полвека поэт и пушкинист Владислав Ходасевич назовет позицию Писарева «первым затмением пушкинского солнца» – в том смысле, что предчувствие других подобных «затмений» было осязаемо. «В истории русской литературы, – скажет он в феврале 1921 года на Пушкинском вечере в Доме литераторов Петербурга, – уже был момент, когда Писарев “упразднил” Пушкина, объявив его лишним и ничтожным. Но писаревское течение не увлекло широкого круга читателей и вскоре исчезло. С тех пор имя Писарева не раз произносилось с раздражением, даже со злобой, естественной для ценителей литературы, но невозможной для историка, равнодушно внимающего добру и злу. Писаревское отношение к Пушкину было неумно и безвкусно. Однако ж, оно подсказывалось идеями, которые тогда носились в воздухе, до некоторой степени выражало дух времени, и, высказывая его, Писарев выражал взгляд известной части русского общества. Те, на кого опирался Писарев, были людьми небольшого ума и убогого эстетического развития, – но никак невозможно сказать, что это были дурные люди, хулиганы или мракобесы. В исконном расколе русского общества стояли они как раз на той стороне, на которой стояла его лучшая, а не худшая часть»39.
Но шел пока что век XIX, со скрипом двигались реформы Александра II, вызревали опасные идеи, взрослели будущие революционеры-ниспровергатели. Пушкина продолжали отстаивать большие русские писатели.
И.А. Гончаров (1871): «Пушкин громаден, плодотворен, силен, богат. Он для русского искусства то же, что Ломоносов для русского просвещения вообще. Пушкин занял собою всю свою эпоху, сам создал другую, породил школы художников»40. Это были высокие слова, но не без оглядки: «Несмотря на гений Пушкина, передовые его герои, как герои его века, уже бледнеют и уходят в прошлое. Гениальные создания его, продолжая служить образцами и источником искусству, – сами становятся историей»41.
Л.Н. Толстой (1873): «Пушкин – наш учитель. Я с восторгом, давно уж мною не испытываемым… читал повести Белкина. Писателю надо не переставая изучать это сокровище. Чувство красоты развито у него до высшей степени, как ни у кого. И потом этот его удивительный язык, который он так смело и свободно поворачивает куда ему угодно и всегда попадает в самую точку»42.
И хотя всю вторую половину столетия многим в России (как, например, И.А. Гончарову) казалось, что историческая роль поэта исчерпана, что он относится к разряду завершенных явлений литературы, что его творчество – значимая, но перевернутая страница истории, впереди было великое пушкинское торжество.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































