Текст книги "Стремление к счастью. С комментариями и объяснениями"
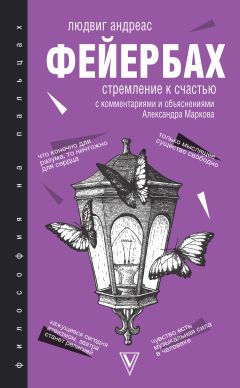
Автор книги: Людвиг Фейербах
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
V. Обычные противоречия в стремлении к счастью
Но какое тебе дело до святого Ксаверия, до католицизма вообще, а тем более до буддизма? Это ведь вода только на твою мельницу; это все только порождения религиозного безумия, относительно которого ты можешь мне с легкостью доказать, что они являются лишь извращенными, безумными проявлениями стремления к счастью. Попробуй удержаться на обычных, повседневных и распространенных явлениях человеческой природы и попробуй их кричащие к небу противоречия с этим стремлением привести в согласие с ним! Разве они не такого рода, что скорее мы будем вправе предположить стремление к несчастью, чем стремление к счастью. Мучить зачем нам друг друга? Ведь жизнь проходит, и лишь однажды здесь собирает нас старое время. Только однажды и на такое короткое время! И тем не менее мы часто мучаем себя только от скуки. Но мучаем ли мы только друг друга? Не мучаем ли мы и самих себя? Не является ли каждый на нас в большей или меньшей степени Heautontimorumenos, самоистязателем и мучителем самого себя?
Heautontimorumenos (греч.: сам себя наказавший) – название комедии римского драматурга Теренция. Греческие названия были обычными для «паллиат», комедий на греческие сюжеты, имевших в виду и греческие актерские амплуа. Это амплуа самого себя наказавшего, то есть обрекшего на лишения и бедствия из-за каприза, было понято как характер самоистязателя, мазохиста, в одноименном стихотворении Шарля Бодлера в книге «Цветы зла». В стихотворении изображен ироник и скептик, для которого мучительно само его бытие, который стремится наказать сам себя, чтобы прекратить эти мучения. Фейербах имеет в виду именно такого персонажа, как он далее говорит, трагического, а не комического.
Но тот Heautontimorumenos, которого римский поэт вывел в своей комедии, не является ли он в высшей степени ограниченной, жалкой, несчастной, комической фигурой сравнительно с самоистязателем, который в действительной жизни меньше всего играет комическую роль, но на самом деле играет трагическую роль? Что значит комариный укус самоистязателя Теренция по сравнению с ядовитыми змеиными укусами повседневных и обыкновеннейших страстей вроде честолюбия, ревности, зависти, ненависти и жажды мести?
В пьесе Теренция главный герой Менедем, сын которого сбежал из дома из-за строгости отца, не перенося разлуки с сыном, меняет свой образ жизни – начинает заниматься тяжелым трудом в поле, чтобы когда сын вернется, справить свадьбу. Далее развивается интрига с подменами и приключениями, но нам важно другое. Для Фейербаха поведение героя Теренция вовсе не является настоящим самоистязанием или наказанием себя, потому что Менедем с удовольствием думает о будущем и только на время себя ограничивает в удовольствиях. Не случайно изречение Менедема «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», которым он объяснял, почему стал вести жизнь простолюдина, вошло в поговорку и означает вовсе не самоистязание, а наоборот, простые, обыденные, иногда не вполне оправданные, но в целом понятные удовольствия, вроде пристрастия к какой-то еде или напитку.
Мы злы в отношении к другим, мы даже с радостью причиняем им горе, но не причиняем ли мы тем самым горе и сами себе? Связаны ли эти страсти и даже преходящие аффекты – гнев, досада и огорчение – с чувством благосостояния? Когда мы кипим от огорчения, гнева или злости к другим, то не являемся ли мы одновременно фуриями и в отношении к самим себе?
Фурии (лат. бешеные) – в римской мифологии духи мщения, женского рода. Далее Фейербах ссылается на обычное представление, что злоба отравляет самого человека и физически, через разлитие желчи и нарушение балансов (или как мы бы сейчас сказали, сбой процессов) в организме.
Не отравляем ли мы сами себя ядом ненависти, которую мы носим в сердце против наших врагов? Не доказано ли даже физиологически, что сильные страсти и аффекты действуют, как настоящие яды? Удовлетворенная жажда мести сладка, конечно, но какую адскую муку представляет собой неудовлетворенная! Не истинно ли то, что говорили древние, которые черпали свою мудрость не из книг, а из самой жизни: gravior inimicus, qui latet sub pectore, не истинно ли то, что каждый в самом себе имеет своего злейшего врага и противника?
Gravior inimicus, qui latet sub pectore (лат.) – самый худший недруг таится у тебя в груди (т. е. твое сердце, полное злобой). Из «Сентенций», сборника цитат из недошедших до нас комедий Публия Сира.
Но если каждый в себе самом таит своего собственного дьявола, то где же столь прославленное стремление к счастью? Какое может быть счастье там, где честолюбие и скупость, пожирающие самих себя, где заразительная жажда наслаждений, где вообще несчастные страсти, каковы бы они ни были, как бы они ни назывались, господствуют над человеческим сердцем и мозгом? Или разве там, где хозяйничает ад, там и счастье дома? Однако оставим враждебные человеку страсти и душевные волнения.
Хозяйничает ад – возможно, вариация на известную строку из «Бури» Шекспира: «Ад пуст. Все бесы сюда слетелись», учитывая довольно «шекспировский» каталог страстей в этих фразах.
Не противоречат ли стремлению к счастью также и сами по себе безвредные, благожелательные страсти? Боязнь, например, очевидно, желает нам только добра; она самым нежным, самым робким образом заботится только о нашем существовании и благополучии, она только предупреждает и охраняет нас от зол и опасностей, неизбежных без нее. Но не является ли сама боязнь в большинстве случаев гораздо большим злом, чем то, которого мы боимся? Скольких людей убил один только страх перед смертью, сделал больными – страх перед болезнью, бедствующими скрягами – страх перед бедностью!
Фейербах описывает механизмы паники или повышенной тревожности, указывая, что чаще всего такое состояние ведет к неразумным действиям и человек, думая улучшить свое положение, с каждым шагом только его ухудшает.
Больше того, даже наиболее благожелательная и благотворная страсть, сама покоящаяся лишь на взаимной благосклонности, та самая страсть, которой человек обязан самим своим существованием и которая вместе с тем является самой могущественной и величайшей страстью, – половая любовь – не является ли также и наиболее гибельной страстью, больше всего противоречащей стремлению к счастью? Не бросается ли здесь в глаза то, что естественная цель является чем-то совершенно иным, чем цель и воля человека, что человеческое счастье не имеет никакого основания и никакой почвы в природе, а есть только иллюзия, созданная им самим? Человек, конечно, хочет только своего наслаждения, хочет только удовлетворить свое стремление, но природа преследует только цель сохранения и продолжения рода или вида. Поэтому теологи с особенным удовольствием объявили половое стремление и половое наслаждение лишь лукавством природы, приманкой, с помощью которой она ловит болвана-человека для того, чтобы сделать его слугой своих целей, часто даже против его сознания и воли.
На самом деле мнение о том, что половая любовь и соответствующая привлекательность – иллюзия, созданная природой для того, чтобы обеспечить размножение, а следовательно, любовь не обладает собственным духовным содержанием, отстаивал Артур Шопенгауэр. Он утверждал, что за всеми явлениями природы стоит иррациональная воля, которая ради самоутверждения создает в природе размножение, но реализуясь как основание для существования вещей, создает и представления, разного рода иллюзии, такие как любовь и искусство.
Но что же такое род или вид, который ты делаешь лишь целью природы? Что он такое, в отличие от индивидуума, которому ты даешь в качестве цели только собственное счастье? Почему в природе нет такого именно рода или вида, какой ты имеешь в своей голове? Почему природа, если уж она хитра и коварна, как поп, почему она тем не менее оказывается настолько глупой и неискусной, что только снова и снова производит индивидуумов, что она совсем ничего не знает ни о философии, ни даже о естествознании? Почему из чрева матери, из ее родовых мук, из ее девятимесячной беременности, из всех этих отрицаний стремления к счастью тем не менее снова всегда появляется только новое стремление к счастью? И действительно ли «естественная цель» стоит в противоречии с собственной целью человека?
Хитра и коварна как поп – обычная начиная с античности (попов там не было, но были философы как наставники людей) насмешка над интеллектуалами как жадными и ограниченными, изобретающими различные хитрости, но при этом легко уступающими перед простым здравым смыслом. Так, в античности существовал сборник «Любитель смеха», в котором были рассказы про «схоласта», ученого человека, жадного и недалекого, которого легко обманывал его слуга. В Средние века на место схоласта пришел, конечно, священник, мы знаем такие рассказы, например, по «Сказке о попе и работнике его Балде» Пушкина. Один из таких типичных рассказов: священник, издеваясь над слугой и не желая ему платить за труд, упрекает его, что он не знает латинских названий бытовых вещей, и при этом по невежеству, не зная латынь по-настоящему, придумывает эти названия на ходу. Когда ночью начался пожар, то слуга, верный достигнутой договоренности, сообщил о пожаре на этой «латыни», так что священник сам ничего не понял и сгорел. В Новое время, кроме представителей духовенства, в такой роли малоприятного, скупого и некомпетентного резонера мог выступать джентльмен, сноб, выпускник университета (типичный пример – Сыч, в русском переводе Сова, из «Винни-Пуха» А. Милна).
Так как в печальном положении человеческих обществ, в которых естественность становится неестественностью, а неестественность – естественностью, существование детей и их сохранение стоит в противоречии с собственным стремлением родителей к самосохранению, то относится ли это также и к нормальным, соответствующим природе и разуму, положениям? Не относится ли там отцовство и материнство скорее к блаженству? Противоречит ли любовь к детям любви к самому себе? Несомненно, противоречит в очень многих случаях; но только по таким основаниям, которые ничего общего с ней не имеют, которые не относятся к делу. Тем не менее бесспорно, что без детей мы не имели бы бесчисленных забот, усилий и горя. Да, но вместе с тем не имели бы и бесчисленных радостей.
Соизмерение как бы на вес двух путей жизни: холостой и брачной, бездетной и детной, столичной и идиллически-деревенской, полной приключений и спокойной и мирной – было важной темой античных эпиграмматических стихотворений. В одном, например, могло утверждаться, что жизнь без друзей или без детей лишена радостей, но в ней меньше и горя. В другом могло говориться, что быть холостым скучно, а быть женатым утомительно, а в третьем, наоборот – что быть холостым очень свободно и радостно, а быть женатым очень счастливо и усладительно. Перед нами типичная каталогизация «общих мест», с целью посмотреть на один и тот же предмет под разным углом, увидеть и плохое во всем, и хорошее во всем, и которая потом сохранилась, например, в советском массовом кинематографе (песни «Если у вас нету тети» А. Аронова и «У природы нет плохой погоды» Э. Рязанова).
Независимо даже от того, что все совершаемое из любви совершается с охотой, что жертва во имя любви не есть жертва, разве не связан даже чистый эгоизм, как, например, забота о собственном здоровье, с величайшими усилиями и жертвами? Где имеется такая любовь, будь ее предмет каким угодно, которая не была бы одновременно болью и мукой? Кто более несчастен, чем скряга? И тем не менее собственный денежный мешок есть его единственная забота и единственная любовь. Конечно, если неподвижно и в остолбенении остаться стоять перед родом как перед каким-то призраком, конечно, если из любви к священной троице и к логической, или, скорее, лингвистической, трилогии допустить, как в теологии, вслед за рождением Сына от Отца шумное кипение Святого Духа, уничтожающее всякую личность, или, как в антропологии, за двумя полами, он и она, в качестве объединяющего третьего – оно, дитя; конечно, если отказаться от более близкого рассмотрения этого невинного создания в свете действительности, если не заметить, что уже оно несет на себе печать негодяя или гулящей девки, то с мыслью о роде неизбежно и неотделимо связывается мысль о смерти индивидуума.
Фейербах опять пишет в стиле фельетона, который нам может показаться несколько сложным, пародируя и христианское учение о Троице, и антропологическое понимание ребенка как воплощения чистоты, оправдывающего родителей. Для Фейербаха это все идеалистические модели, пытающиеся дополнить действительное отношение внутри рода между поколениями, из которых ни одно в нравственном отношении не лучше другого и все одинаково обречены на смерть, неким мысленно сконструированным третьим, вдохновением Святого Духа или чистотой ребенка как «невинного создания». Другое дело, что его параллель между Троицей и семьей с одним ребенком слишком надуманная и журналистская.
В природе и в самом деле у многих низших животных смерть следует непосредственно в момент или после полового акта; их жизнь исчерпана, кончена, как только семя или яйцо выйдут из тела. Но акт зачатия только потому является для них последним наслаждением жизни, что он для них является также высшим, превосходящим все остальные наслаждения, таким наслаждением, вслед за которым ничего не остается для требования, для желания и стремления, а следовательно, ничего не остается и для переживания. Но чем выше поднимается индивидуум, чем развитее и совершеннее он становится, тем в большей степени даже самое высокое жизненное наслаждение вступает в ряд более продолжительных и чаще повторяющихся наслаждений, как очевидное доказательство того, что стремление к половому сближению стоит в теснейшем согласии с индивидуальным стремлением к счастью.
Фейербах воспроизводит романтическое учение о связи сексуального наслаждения и всестороннего духовного развития личности, отразившееся во множестве манифестов романтической философии любви, от романа «Люцинда» (1799) Фридриха Шлегеля до эссе «Смысл любви» (1892) Вл. С. Соловьева. В этой концепции, восходящей к своеобразно понятому «Пиру» Платона, в отличие от любви животных, особенно примитивных, ограничивающейся целью размножения, человеческая любовь не обязательно имеет в виду размножение, но всегда включает в себя саморазвитие и производство новых духовных смыслов.
Но даже и человек может быть настолько охвачен страстью любви, что, как бабочка, отдает за и вместе с любовным наслаждением свою жизнь. Ведь уже в гомеровских гимнах Анхиз так сильно горит любовью к Венере, что с воодушевлением восклицает: «Мне бы хотелось, о дева, богиням подобная видом, ложе с тобой разделивши, спуститься в жилище Аида».
Речь идет о гимне «К Афродите», приписывавшемся Гомеру, он назван «гомеровским», потому что его позднее происхождение было уже очевидно для всех филологов. Значительная часть гимна представляет собой диалог между Афродитой (Фейербах предпочитает латинское соответствие Венера) и ее земным возлюбленным Анхизом. Богиня возлагает на героя миссию породить от нее Энея (который в римской мифологии считался праотцем всех римлян) и долго пророчествует о его, Анхиза, будущем.
Но находится ли смерть в противоречии со стремлением бабочки к счастью? Может ли она продолжать прозябать после высшего наслаждения жизни в качестве опустошенной бабочки или вновь в качестве гусеницы? В противоестественном императорском Риме апофеоз и обожествление следовали только после смерти: «Похоже, что я становлюсь богом», т. е., что я умираю, говорил поэтому иронически император Веспасиан.
Апофеоз (греч.) – обожествление, превращение в бога. Это слово применяли и к культу римских императоров после их смерти, например, «апофеоз божественного императора» – его смерть и посмертное прославление.
Но в царстве природы, напротив, только за превращением в бога следует превращение в мертвеца, умирание. Какой смысл и какую ценность имеет жизнь для бабочки, если она является пустой шкуркой? Как могу я продолжать существовать в качестве жалкого человека, после того как я стал уже богом, испытал высшее блаженство и высшую честь жизни? Так обстоит с половым стремлением. Но что касается других упомянутых выше несчастных стремлений, страстей и аффектов, то и они не доказывают ничего иного, кроме того, что человек вместе со своим стремлением к счастью является существом природы и что так же, как он сам создан и оформлен природой, точно так же, как его тело и дух, его голова и сердце созданы и определены, так же создано и определено его стремление к счастью.
Аффект – это слово является латинским соответствием греческого «пафос» – страдание, претерпевание, в широком смысле – любая эмоция. В отличие от русского языка, в котором слово «аффект» обычно означает «сильное переживание», неконтролируемый выплеск эмоций («убийство в состоянии аффекта»), в европейских языках это слово означает скорее страдание или пассивное восприятие чего-либо: например, тоска, скука, ностальгия, скорбь, мечта, доброе воспоминание будут отнесены к числу аффектов. Аффект обычно эмоционально неустойчив, имеет различные обертоны: например, несчастная любовь горестна, но несет в себе светлый образ любимой.
Разве могло бы стремление пугливого и боязливого человека к счастью обнаружиться иначе, как не в постоянном, на каждом шагу и при малейшем поводе пробуждающемся страхе перед возможным несчастьем? Каким образом могло бы иначе проявиться оно у завистливого человека, как не в том, чтобы завидовать владельцу того блага, которого он не имеет, но достойным которого считает только самого себя, и путем наслаждения этой завистью, путем этого духовного стяжения и овладения облегчить боль собственного лишения. Жаба – безобразное явление природы; древесная лягушка – чтобы не выходить за пределы отряда бесхвостых земноводных – милое явление природы. Но почему вы хотите наделить счастьем только лягушку, а не жабу также?
Оценка жабы как безобразного, а древесной лягушки (гилиды, квакши) – как милого существа обязана, с одной стороны, традиционной символике жабы как жадного и злобного существа (отчасти из-за сходства с кошельком, отчасти из-за ядовитости некоторых видов), а с другой стороны – тогдашней любви к экзотике: пестрые, переливающиеся, меняющие цвет квакши казались почти такими же милыми, как заморские птицы.
«Хотя в моих жилах, – говорит жаба, – и пульсирует смертельный яд зависти, злости и мести, но этот яд для меня, ядовитой жабы, – амброзия; я счастлива, когда посредством того яда, которым я убиваю себя, я убиваю также и других». Да, существует и счастье жаб и змей, но оно как раз и есть жабье и змеиное счастье. Но что такое змея и жаба в сравнении с ужаснейшими чудовищами в истории человечества, в сравнении с мегатериями и дейнотериями в истории Земли?
VI. Зло природы и время
Разве нет явлений природы, на которых действительно останавливаются в недоумении сердце и разум (конечно, если таковые имеются), где прекращается все, что обычно по милости жизни бурлит и движется в нас, где буддийское небытие оказывается единственным ценным и единственно достойным желания? Кто не трепещет перед одной только мыслью о чуме (черной смерти), о холере, венерических болезнях – короче, о всех этих столь же страшных, как и отвратительных, болезнях человечества? Но доказывают ли эти болезни, что нет никакого здоровья и что оно не есть нормальное состояние природы? Являются ли болезни, эти ужасные муки и страдания, порожденные природой, всеобщими и постоянными, бесконечными, как муки религиозного и теологического ада, которые, конечно, находятся в неразрешенном противоречии, разумеется, со стремлением к счастью тех, которые осуждены на вечные муки, но не тех, которые помилованы? Разве в природе так же, как в аду, нет уже больше совсем никакой надежды, никаких видов на улучшение, если даже это последнее послужит на пользу не нам самим, к сожалению, а лишь потомкам нашим?
Когда Фейербах писал эти строки, вакцинация еще не была систематической, поэтому многие болезни казались неизлечимыми. Признание метода Пастера (использование ослабленных микроорганизмов) началось только в 1880-е годы и сопровождалось целым рядом сложных бюрократических, правовых и организационных решений, которые трудно было представить раньше.
Конечно, гнев бесконечного – бесконечен; но присуждает ли нас безвольная природа к смерти и болезни из того же озлобления, гнева и ярости, что и Бог теологии и религии? Разве на этой печальной земле только хорошее и прекрасное преходяще? Не минует ли также и дурное, безобразное, отвратительное, ужасное? Почему вы, поэты, обращаете внимание на бренность одного только прекрасного, почему вы вздыхаете только о ней? Разве в сравнении с вашими поэтическими грезами, с вашим раем – этим царством вечной красоты и покоя, Земля – это царство ураганов и ужасных гроз – не является вместе с тем и царством затишья? Только, конечно, в «лишенной понятия» природе они соединены не одновременно, как в голове философа, а лишь так, что, когда проходит буря, устанавливается мир и покой.
В последней фразе Фейербах пародирует диалектику Шеллинга и Гегеля, требовавшую соединения противоположностей. Он замечает, что в природе, где смерть всеобща, не может быть соединения противоположностей, так как смерть всегда окажется сильнее жизни и чаще смерть будет выглядеть как «покой», а не как «буря».
О вы, философы, мнящие себя столь возвышенными и свободными, несмотря на ваш рационализм, несмотря на ваши ереси, столь оскорбительные для слепо верующих, несмотря на то, что вы ничего не желаете знать о личном, индивидуальном Боге, потому что индивидуальность ничего не значит для вас, вы все же прячете в вашей голове, в тайниках ваших мыслей лишь старое, теистическое, вневременное и внепространственное существо. У Гегеля им является и называется «понятие», у Канта – «вещь в себе». Только ради этой вещи, для которой не существует ни пространства, ни времени, но которая все же является истинной, хотя и непознаваемой для нас вещью, Кант превратил время, для того, чтобы особенно его выделить, в какую-то принудительную иллюзию, созданную нами самими, приписав ее только чувственному человеку, но тем самым как раз и лишил нас истинного созерцания жизни и природы.
Для Канта время и пространство – действительно, исходные формы созерцания, благодаря которым мы можем рассматривать вещи, соотносить их друг с другом и систематизировать. Фейербах отрицает этот подход к природе как системе вещей, так как для него существенно, что все вещи уничтожимы, но именно поэтому мы можем стать на сторону вещей в этой конечной жизни, почувствовав их жизненность в данный момент.
Время на самом деле совсем не является одной только формой созерцания, но существенной формой и условием жизни. Там, где нет следования друг за другом, где нет движения, изменения и развития, там нет и жизни, нет и природы; но время неотделимо от развития. Что развивается, то существует, но оно теперь не таково, каким некогда было и каким когда-нибудь будет. Следовательно, отними у меня время (а человек, наверное, в такой же степени, как и что-либо другое, претендует на то, чтобы быть существом или вещью в себе, хотя бы только модификацией абсолютной вещи в себе, ибо вещи в себе сводятся в конце концов лишь просто к вещи в себе как таковой, одной абсолютной вещи, так как всякое множественное число, всякая множественность и различие относятся все же только к чувственному созерцанию), отними у меня время, и ты отнимешь у меня кровь из жил, сердце из тела, мозг из головы, безусловно, не оставишь мне ничего иного, кроме смерти или буддийского «ничто».
Фейербах указывает на одно противоречие в кантовском понятии «вещи в себе» (вещи самой по себе, вещи как она есть, независимо от отношений), на которое обратили внимание еще Фихте и Шеллинг: ведь если вещь как таковая стремится к абсолютности, к тому, чтобы быть самодовлеющим бытием, то к абсолютному неприложимы различения качеств, а значит, у нас не будет основания отличить эту вещь в себе от всего остального, вообще как-либо выделить ее из бытия. Фейербах додумывает эту критику: если вещь не извлечешь из бытия, то у нас нет никаких вещей в распоряжении, а значит, мы такое бытие можем вполне признать и небытием, «ничто».
В мыслях время, конечно, есть первое, обособишь ли ты его от развития, изменения или движения, предпошлешь ли его им; но мысль не господин и не учитель природы; в действительности время представляет собой нераздельное единое с развитием, единое с природой, единое с временными вещами. Но разве эти вещи суть вещи в себе? Я не знаю этого. Но для меня, который не может отделить себя от времени, эти временные вещи суть также вещи в себе, а само время так же, как Солнце, планеты и кометы, движущиеся в пространстве и во времени, является чем-то действительным и именно поэтому чем-то в себе самом, чем-то вне и без моей головы существующим. Я не терплю в своей голове никакого очевидного противоречия, никакой туманности, будь то туманность кантовская или гегелевская; я ничего не знаю об идеальности, т. е. о недействительности, которая все же опять-таки должна быть действительностью, ничего, стало быть, не знаю о той действительности недействительности, какой является туманное время умозрительной философии Германии. Я не знаю никакого другого различия между «для меня» и «в себе», между субъектом и объектом, кроме различия между воображением и действительностью, между обманом и истиной, между видимостью и сущностью.
Фейербах противопоставил учению Канта о познании отказ от понятия «идеальное» и различение только достоверного и недостоверного, которое может быть одинаковым способом произведено и во внешней действительности, и во внутренней действительности человеческого сознания.
Туманное время – Фейербах упрекает спекулятивную (умозрительную) философию за то, что единого определения времени в ней так и не было дано.
Но и то и другое, и сущность и видимость, находятся у меня не по ту, нет, а по сю сторону пространства и времени. И я не жалуюсь на эту свою полную посюсторонность. Я не нахожу здесь никаких необъяснимых и неразрешимых противоречий с человеческим стремлением к счастью, какие я нахожу в теологии и метафизике. Нет, не существует никакого другого лекарства против неизлечимых болезней, против низостей и гнусностей природы и человеческого мира, кроме времени. То, что время приносит с собой к нашему ужасу и печали, то самое оно снова погружает в своих волнах к нашему утешению и счастью.
Здесь философ опирается на метафору времени как течения, наподобие течения реки, нормативную уже в античной философии. Так, слово «ритм» буквально означает просто «течение», то есть некоторое целесообразное и упорядоченное движение.
«Какой яркий образ!» Но зато, как освежающе, как благодетельно это время, мыслимое, подобно текущей воде, уносящей весь сор, по сравнению с мертвым, метафизическим временем, вытянутым только в одну, к тому же математическую, линию, которая, как известно, не имеет ширины, с временем, которое не отличается от старой теологической вечности, существующей только в голове абстрактного мыслителя! «О вечность, о ты, громовое слово!»
Образ линейного времени, конечно, обязан своим возникновением прежде всего физике Ньютона с представлением об однородности пространства и времени, что позволило перенести привычки восприятия линейной перспективы на восприятие времени. Развитие дифференциального исчисления, позволившего представлять процесс как линейное приближение, окончательно утвердило эту метафору времени как прямой линии.
О вечность, о ты, громовое слово (нем.: O Ewigkeit, du Donnerwort) – начало одного из известнейших хоралов И.-С. Баха.
И ты отзвучало, и твои страхи и чары исчезли и уже не мешают нам больше наслаждаться нашими бедными по сравнению с твоими вечными чрезмерными радостями, но зато действительными временными радостями! Восстановим же снова доброе имя времени по сравнению со всеми вещами. Только ему мы обязаны тем, что мы освобождены от геологических чудовищ, от дейнотериев и мегатериев, ихтиозавров и как их еще называют, этих великанов животного царства! Только ему мы будем обязаны – конечно, не без нашего содействия – если мы когда-нибудь освободимся от существующих еще пока теологических и антропологических несообразностей, не совместимых с человеческим существованием и благополучием.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































