Текст книги "Стремление к счастью. С комментариями и объяснениями"
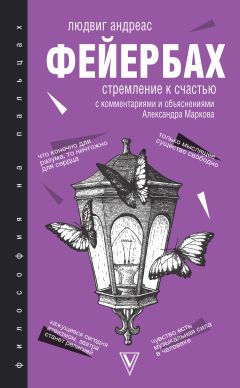
Автор книги: Людвиг Фейербах
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
I. Неразрывность воли и стремления
То, что живет, – любит, хотя бы только себя, свою жизнь; хочет жить, потому что оно живет; хочет быть, потому что оно есть; но, заметьте, хочет быть только в хорошем состоянии, здоровым и счастливым, ибо только счастливое бытие есть бытие с точки зрения живого, ощущающего, желающего существа, только оно является желанным, любимым бытием. То, что хочет, хочет только того, что для него полезно, благотворно, хорошо, что причиняет ему добро и не причиняет зла, что сохраняет его жизнь и способствует ей, а не ограничивает и не разрушает ее, что не противно, а соответственно чувству, короче – того, что делает его счастливым, не несчастным и не жалким, если, впрочем, конечно, между волей и предметом воли не появляются, как у человека, иллюзия, обман, заблуждение, извращенность.
Фейербах опирается на нормативное в неоплатонизме и христианском богословии различение между «бытием» и «благобытием»: если бытие доступно любой вещи, то благобытие оказывается результатом действия высшей воли. Фейербах, как мыслитель-материалист, исходит из того, что благобытие – результат действия не только высшей воли, но и любой частной воли любого существа, например, инстинкта самосохранения у животных. Для него благобытие – это не какое-то высшее состояние, согласное с волей Божией, но собственная удовлетворительность вещи и собственная удовлетворенность вещи собой: например, когда мы здоровы, мы и чувствуем себя хорошо и чувствуем, что мы можем удовлетворительно действовать в окружающем мире.
При этом Фейербах сразу же говорит, что человек отличается от других живых существ тем, что может жить иллюзиями, ошибаться, или применять к самому себе насилие: например, заставлять себя верить в невероятное, заставлять себя жить несбыточными надеждами. Фейербах специально не анализирует, откуда берутся иллюзии и как они связаны с насилием или реакцией на насилие, ему достаточно осудить определенные типы социального поведения.
Больше того, просто желание и желание, делающее счастливым, следовательно, желание быть счастливым, неотделимы друг от друга, представляют собой по существу одно и то же, если принять во внимание первоначальное и неизвращенное, естественное назначение и естественное проявление воли. Воля – это стремление к счастью. Гусеница, после долгих неудачных поисков и напряженного странствования, успокаивается, наконец, на желанном растении, соответствующем ей. Что привело ее в движение, что побудило ее к этому трудному странствованию, что заставило ее мускулы попеременно сжиматься к разжиматься? Только воля, только боязнь захиреть и истомиться от голода самым жалким образом или, точнее говоря, только любовь к жизни, стремление к самосохранению, стремление к счастью.
Фейербах неожиданным для нас образом отождествляет инстинкт самосохранения и стремление к счастью. Но в этом он близок классической философии: для Аристотеля также достижение вещью своей полноты, завершенности, и было достижением счастья, и человек может быть счастлив, когда не терпит ущерба, даже если беден и умирает раньше времени. Для Аристотеля быть счастливым – это быть благородным, не жаловаться на трудности, не предаваться лишним наслаждениям, поддерживать достойные отношения с людьми – этого достаточно для того, чтобы не только считаться, но и быть счастливым.
Стремление к счастью – это основное, первоначальное стремление всего того, что живет и любит, что существует и хочет существовать, что дышит и что не воспринимает в себя с «абсолютным безразличием» углекислоту и азот вместо кислорода, мертвящий воздух вместо живительного. Но счастье (Glückseligkeit – существительное от glückselig, которое, согласно лингвистам, является лишь усиленным glücklich подобно тому как armselig есть усиленное arm (бедный) есть не что иное, как здоровое, нормальное состояние какого-нибудь существа, состояние хорошего здоровья, или благополучия; такое состояние, при котором существо может беспрепятственно удовлетворять и действительно удовлетворяет индивидуальные, характерные потребности и стремления, относящиеся к его сущности и к его жизни.
Фейербах отождествляет счастье с удовлетворением потребностей: здесь он расходится с Аристотелем, для которого счастливый человек мог становиться вполне аскетичным, мог как удовлетворять потребности, так и воздерживаться от любых излишеств, даже вроде бы полезных. В конце концов классическая философия стала различать необходимые потребности, как пища и питье, и излишества, и законной признавала только удовлетворение первых потребностей: конечно, человек, обреченный на голодную смерть, счастливым не будет. Тогда как Фейербах говорит об индивидуальных потребностях, специфичных именно для человека как существа: например, общение с другими людьми, хождение в гости или отмечание праздников, в чем животные не нуждаются. Аристотель бы сказал, что это человеческое общение реализует счастье, например, что счастливый человек всегда хочет что-то рассказать друзьям и что-то им подарить, но не что оно является предварительным условием счастья.
Если существо не может удовлетворить свое стремление, будь оно каким угодно, хотя бы только индивидуализирующим и отличающим его сущность от ряда других, оно становится недовольным, мрачным, печальным и несчастным, как, например, енот в тех случаях, когда он не имеет достаточно воды, чтобы удовлетворить отличающее его стремление к чистоте, хотя бы ни в чем ином он не чувствовал недостатка. Любое стремление есть стремление к счастью как во всех других ощущающих существах, так и в человеке, и поэтому оно может овладеть им настолько, что его удовлетворение будет обозначать для него единственное полное счастье, ибо любой предмет, которого он желает и к которому он стремится, является чем-то осчастливливающим человека, поскольку он удовлетворяет это стремление, утоляет его желание; и только потому, что он является таковым, к нему стремятся и его желают.
Как показывает пример енота, стремление к счастью приравнивается к правильному выполнению отдельных физиологических функций, причем не только внутренних и незаметных (правильное пищеварение; не всегда на лице видны следы неправильного пищеварения), но и обращенных вовне, таких как стремление к чистоте, отличающее данный биологический вид и служащее условием его выживания. При этом Фейербах не уточняет, енот недоволен, если нет рядом воды, потому что переживает за себя как за родовое существо, ответственное за благополучие рода, или потому что ему так же это неприятно, как незаметные проблемы со здоровьем. И то, и другое для Фейербаха объединено как инстинкт, индивидуализующий существо как родовое существо, и поэтому родовое и индивидуальное не различаются.
Поэтому первейшим условием воли является ощущение. Где нет ощущения, там нет страдания, боли, нездоровья, неблагосостояния, нет нужды и скорби, нет недостатка, потребности, нет голода и жажды, короче – нет несчастья, нет зла; но там, где нет зла, нет и сопротивления, противопоставления себя, нет стремления, нет усилия и желания отразить зло, нет воли. Противоволя (Widerwille) в отношении к нужде и скорби – отвращение – вот первая воля, та воля, при помощи которой чувствующее существо начинает и сохраняет свое существование.
Фейербах высказывает обычную для науки его времени мысль, выводившую все эмоции из реакций, то есть из претерпевания внешнего воздействия, а не из собственного действия существа. Эта мысль не свойственна классической философии, для которой действие предшествует реакции, и например, зрение чаще понимается как деятельность глаза, а не как реакция на раздражение. Для классической философии действовать (например, расти или двигаться) – в самой природе живых существ, даже если бы они ни на что не реагировали, не сталкивались с затруднениями. Скажем, в христианском богословии ангелы действуют, но ни на что не реагируют, кроме как если по воле Бога. Но развитие естественных наук сделало слово «реакция» универсальным понятием для всех дисциплин, от химии до психологии, и тем самым предпочтительнее стало говорить о реакции, проверяемой экспериментально, чем о собственном действии организма, про которое невозможно было доказать, что оно не реактивно.
Воля не свободна, но она хочет быть свободной. Однако свободной не в смысле неопределенной «бесконечности» и беспредельности, которую приписывают воле наши супранатуралистические, спекулятивные философы, не в смысле безымянной и бессмысленной свободы, но свободной только в смысле и во имя стремления к счастью, свободной от зла, каково бы оно ни было.
Супранатуралистический (слово из латинских корней) – стоящий над природой, иначе говоря, делающий выводы не из наблюдений над природой, а из поиска более общих начал, которым должна подчиняться природа. Фейербах использует это слово почти как синоним слова «спекулятивный», то есть созерцательный, исходящий в исследованиях природы из каких-то общих начал, доступных только уму, а не опыту.
Каждое зло, каждое неудовлетворенное стремление, каждое неутоленное желание, каждая неприятность, каждое чувство недостатка, каждая утрата суть возбуждающее и раздражающее нарушение или отрицание врожденного каждому живущему и чувствующему существу стремления к счастью, а утверждение стремления к счастью, сознательно противопоставляющее себя и противодействующее этому отрицанию, и называется волей. «Воля без свободы – это пустое слово», – говорит Гегель.
Русское слово «воля» часто выступает как синоним слова «свобода», но в немецком языке воля – это прежде всего решение, принятое и которое нельзя отменить, вернуть обратно, то, что мы скорее назовем «начальным действием воли» или «выбором». Гегель устанавливает юридическое соответствие: человек не может отвечать за свой выбор, если ему или ей не была предоставлена свобода выбора.
Но прежде всего свобода без счастья, свобода, которая не является в то же время свободой от устранимого, разумеется, зла жизни, а оставляет в неприкосновенности даже самые кричащие бедствия жизни, спекулятивная свобода немцев, бытие которой равняется небытию, отсутствие которой не ощущается как зло, а наличие – как благо, – такая свобода является пустым и лишенным смысла словом. Там, где зло не ощущается больше как зло, где гнет деспотизма, какого бы рода он ни был, не ощущается как гнет, там и свобода от этого зла, от этого гнета не ощущается больше как счастье и к ней не стремятся как к счастью; но там, где существо перестает желать счастья, там оно перестает желать вообще, там оно впадает в слабоумие и идиотизм.
Здесь Фейербах полемизирует прежде всего с диалектикой Фихте, Гегеля и особенно Шеллинга, в которой свобода в конце концов мыслилась как чистая возможность бытия или небытия, как начальное состояние мироздания, тогда как в последующих состояниях стали уже действовать различные необходимости, например, законы природы. Такому пониманию свободы Фейербах противопоставляет гражданское стремление к свободе как к необходимому условию счастья. Здесь он близок классической мысли: для Аристотеля раб не может быть счастливым, так как каждое его действие всегда зависимо от приказа хозяина, от корысти, от необузданных желаний (например, наедаться после тяжелой работы), и поэтому раб не может достичь той цельности характера, которая и есть счастье.
Идиотизм – это слово Фейербах употребляет в тогдашнем медицинском смысле, это отсутствие желаний, связанное с глубочайшим невежеством: когда человек ничего не знает, то ничего толком и не желает.
Положение «я хочу» – значит «я не хочу страдать, я хочу быть счастливым», в котором я с наивозможной краткостью и четкостью выразил не замеченную до сих пор неразрывность воли и стремления к счастью, не является, впрочем, чем-то новым по существу, хотя, может быть, оно является новым по своему словесному выражению. «Желание удовольствия, – говорит, например, Гельвеций в своей книге «Об уме», – является принципом всех наших мыслей и поступков; все люди непрестанно стремятся к счастью, будь оно истинным или только кажущимся, поэтому все наши волевые акты суть только действия этого стремления».
Клод Адриан Гельвеций в книге «Об уме» (1758) обосновывал материалистическую концепцию удовольствия: если природа состоит только из материальных тел, то единственная функция ума – находить приносящие наибольшее удовольствие тела и состояние, при этом заблуждение состоит в принятии меньшего, порочного удовольствия, за большее, разумное. Тем самым, единственным движущим механизмом человеческой воли у Гельвеция становится «интерес», в котором не различаются физиологическая и разумная сторона, а единственным критерием существования вещи для человека – ее «полезность».
То же самое, только не так коротко и определенно, говорили до него Локк и Мальбранш, последний, собственно говоря, является не чем иным, как религиозным или теологическим Гельвецием, в своем главном произведении «Разыскания истины». Следовало бы здесь ради краткости обратить внимание на следующее его положение: не желать быть счастливым находится не во власти воли. Что иное это означает, как не то, что желание счастья необходимо для воли, лежит в сущности последней и не может быть отнято от нее?
Николя Мальбранш, в отличие от атеиста и материалиста Гельвеция, был религиозным идеалистом, но весьма своеобразным: он тоже исходил из интереса, удовольствия и полезности, но считал, что Бог – единственное начало, со ссылкой на которое мы можем объяснить, почему вещи имеют не только объективную сторону (существование), но и субъективную сторону (полезность). Бог для Мальбранша связывает самодостаточность каждой вещи с ее способностью быть полезной и значимой среди других вещей.
Немецкие философы и популяризаторы XVIII в. признавали и объявляли вслед за Локком и Гельвецием, что «стремление к счастью является существенным и всеобщим стремлением человеческой воли», например, Федер в его «Исследованиях о человеческой воле», прибавляя к этому следующее замечание, само по себе излишнее, но все же необходимое и теперь для устранения грубых недоразумений: «но не так, как если бы какая-нибудь идея о счастье или хотя бы только идея об удовольствии являлась причиной первых обнаружений человеческой волевой силы, или как если бы любое последующее душевное движение или даже каждое непроизвольное обнаружение силы пробуждалось бы этой отвлеченной идеей. Этим утверждается только то, что ближайшие предметы человеческой воли являются такими внутренними состояниями, которые поодиночке сохраняют название благополучия, в определенном же количестве получают названия счастья; воля же человека устроена таким образом, что вследствие ее существенных направлений и стремлений стремление к удовольствию, к счастью и любовь к себе должны быть прибавлены к ней, по меньшей мере, в качестве основных задатков».
Цитата из Федера, забытого сейчас мыслителя, звучит сложно, можно ее пересказать так: «Человек стремится к удовольствию не потому, что стремится к счастью, но наоборот, находя удовольствие в ближайших предметах, тем самым обретает состояние счастья. А если мы рассматриваем деятельность ума, то желание ума получить удовлетворение мало чем отличается и от желания удовольствия, и от желания счастья».
Только великие немецкие спекулятивные философы выдумали какую-то отличную от стремления к счастью и, больше того, – независимую и абстрактную волю, какую-то только мысленную волю; хотя они в лице Канта и искоренили теологию и метафизику вообще из так называемого теоретического разума – впрочем, только мнимым образом, – но зато они вложили ее в волю, превратили волю в метафизическую сущность или способность, в какую-то вещь в себе, в ноумен; волю, противоположность мышления (ибо даже там, где воля осуществляет мысль, она хочет именно противоположности чистого мышления, хочет действительного, чувственного бытия, а не мысленного только бытия мысли), волю, повторяю я, – противоположность мышления они в лице Гегеля – завершителя спекулятивной философии отождествили с мышлением, и притом отождествили с таким мышлением, которое к тому же еще ничего якобы не предполагает и от всего абстрагирует, – с «абсолютным», т. е. беспредметным, мышлением; больше того, волю отождествили с самим абсолютом, с «беспредельной бесконечностью, абсолютной абстрактностью, или всеобщностью».
Фейербах критикует немецкий идеализм после Канта: труды Г. Якоби, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра. Действительно, все эти философы настаивали на том, что раз вещь до конца не постигаема по своей природе, то объяснить то, что мы вообще можем как-то относиться к вещам, как-то их воспринимать и что-то с ними делать, можно только исходя из воли, которая и заставляет нас повернуться лицом к вещам. Без воли вещи были бы для нас не интересны, они бы ничем не отличались от разрозненных впечатлений или фантазий. При этом, как замечает Фейербах, сама причина существования воли не раскрывается и воля оказывается чем-то еще более загадочным, чем вещь. Правда, все эти философы могли бы возразить Фейербаху, что если воля умопостигаема, иначе говоря, не сводится к сумме своих проявлений, то нельзя говорить ни о наличии этой предполагаемой причины, ни о ее отсутствии. Но Фейербах исходит из того, что наука всегда должна искать причины.
Теоретический (чистый) разум – согласно Канту, способность мыслить только с использованием понятий, в отличие от практического разума, который принимает во внимание и чувственные стороны вещей.
Ноумен (греч.) – умопостигаемое, не воспринимаемое в чувственном опыте, например «единица», «идея», «вещь вообще». Ноумен противопоставляется в философии Канта феномену – вещи, доступной нашим чувствам.
У Гегеля, который переваривает в желудке своего «конкретного понятия» даже самое неперевариваемое, соединяет даже самое несоединимое и в этом соединении самого противоречивого делает ступенью или «моментом» основное и существенное, неизменное и истинно всеобщее, в данном случае – счастье как предмет воли, у Гегеля, повторяю, эта «абсолютная возможность воли мочь (Können) абстрагировать от любого определения» есть, однако, только одна сторона воли. Но это имеет так же мало смысла, как если бы я говорил: темнота, стирающая всякое различие красок, устраняющая всякую возможность видеть, есть только одна сторона света, или как если бы я сказал, что спутанность, темнота – это только одна сторона, только один момент ясного понятия.
Гегель исходил из того, что абсолютная возможность, иначе говоря, начальное состояние воли, предшествует любым ее определениям, но это не значит, что проявления воли сводятся только к этому начальному состоянию, и значит, воля может быть определена через свои предметы. Для Фейербаха это произвольное утверждение – ведь тогда получается, что мы наравне с определенными проявлениями воли ставим ее совершенно неопределенное начальное состояние. Дело в том, что Гегель здесь исходит из наличия или отсутствия предмета воли, на что она оказывается направлена, а Фейербах, наоборот, из субъекта воли, того, кто именно решил употребить волю в данный момент.
II. Кажущееся противоречие самоубийства со стремлением к счастью
Но что же в таком случае дает повод и даже, по крайней мере кажущееся, оправдание для предположения самостоятельной воли, отличной и независимой от стремления к счастью? Конечно, тот бесспорный факт, что человек может хотеть и часто действительно хочет злого, следовательно, того, что противоречит стремлению к счастью; хочет, в отличие от животного, которое, насколько я, по крайней мере, знаю, не способно на это и не может этого.
Может ли животное желать себе вреда – сложный вопрос этологии (науки о поведении животных). Обычно биологи настаивают на том, что в животном мире возможно причинение вреда животному того же вида, например, во время сражения самцов за самку, во время зачатия новых особей (расправа самки богомола над самцом) или при контроле над особями в стае (убийство части детенышей главой стаи), но невозможна ситуация войны как таковой, где все особи оказались бы подвержены риску. Из этого делаются различные выводы, например, в религиозной мысли – о первородном грехе, в атеистической мысли (Р. Докинз) – о «меметическом» (от слова «мем», единица памяти, запоминаемый элемент) характере поведения человека в результате эволюционного сбоя и о происхождении религии из иллюзорно-меметичного стремления к власти.
Однако при истолковании этого факта в ущерб для стремления к счастью не замечают того обстоятельства, что оно не есть простое и особое стремление к счастью, что скорее каждое стремление, как уже было сказано, есть стремление к счастью; что человек поэтому поступает в противоречии со стремлением к счастью только ради стремления к счастью и что такой противоречивый поступок возможен только тогда, когда то зло, на которое человек решается, кажется, представляется и ощущается им как благо в сравнении с другим злом, которое он при помощи этого поступка хочет устранить или преодолеть.
Вопрос, является ли побудительной причиной самоубийства разум (сравнительная оценка обстоятельств и вывод о невыносимости текущей ситуации) или воля (отчаяние из-за неспособности совершить желанное действие) многократно обсуждался в немецкой мысли, достаточно указать на философию Артура Шопенгауэра и социологию Эмиля Дюркгейма. По сути, самоубийство было для этих мыслителей не столько фактом чьей-то личной биографии, сколько идеальным экспериментом, позволяющим разграничить области «разума» и «воли». Фейербах далее объясняет, что самоубийца на самом деле видит в смерти форму счастья как избавления от страданий, то есть по сути уравнивает самоубийство и эвтаназию.
Замечательнейшим и вместе с тем радикальнейшим, сильнейшим противоречием со стремлением к счастью является самоубийство, что, впрочем, разумеется само собой; то самоубийство, которое принадлежит или причисляется к главе о способности вменения, к главе о свободе воли, ибо что может быть более интимно связанным со стремлением к счастью, что может быть менее отлично от него, как не любовь или стремление к жизни? Какая сила воли нужна для того, чтобы насильственно разорвать узы, приковывающие человека к жизни, если даже эта жизнь связана с величайшими страданиями и бедствиями! Какие ужасные душевные волнения и какая борьба должна произойти в самоубийце, прежде чем он придет к своему роковому решению! И все же эта борьба между жизнью и смертью есть только борьба стремления к счастью с самим собой, борьба стремления к счастью, ненавидящего смерть как злейшего врага человека, со стремлением к счастью, которое, тем не менее, раскрывает объятия смерти как последнему другу! Больше того, даже эта последняя воля человека, посредством которой он добровольно разлучается с жизнью и посредством которой он от всего отказывается, есть только последнее проявление стремления к счастью.
Заметим, что Фейербах здесь употребляет слово «последний» просто историко-биографически, что это было последней волей самоубийцы, иначе говоря, решает философский вопрос исходя только из личных историй каждого самоубийцы.
Ибо самоубийца хочет смерти не потому, что она зло, а потому, что она является концом его зол и несчастий, – он хочет смерти и избирает смерть, противоречащую стремлению к счастью, только потому, что она является единственным – хотя бы единственным только в его представлении – лекарством против уже существующих или только еще угрожающих, невыносимых и нестерпимых противоречий с его стремлением к счастью. Героические поступки, противоречащие стремлению к счастью, вообще не имеют места, если для них нет какого-нибудь трагического основания; они происходят – но это обыкновенно тоже упускают из вида или не обращают на это достаточного внимания – только в таких обстоятельствах и положениях и только в такие моменты, которые сами противоречат стремлению к счастью, когда нельзя не совершать эти поступки, когда все гибнет, если не отважиться на все.
Античная этика считала и смерть на войне, и самоубийство в безвыходных обстоятельствах (смерть Сократа и Сенеки) проявлением высшего благородства: сохранить свое достоинство свободного человека даже ценой жизни. Для Фейербаха существует не личное достоинство, но ситуация всеобщего унижения, необходимость пожертвовать жизнью, чтобы не допустить унижения себя, своей страны или своих друзей.
Стремление к счастью всемогуще, но это свое могущество оно доказывает не в счастье, а в несчастье. Самые обыкновенные жизненные факты подтверждают, что несчастливец может постичь и сделать то, что для счастливого непостижимо и невозможно. Как может человек, охотно живущий, желающий в своем представлении или воображении жить даже вечно, как может он хотя бы только подумать, что кто-нибудь мог бы и хотел бы сам убить себя? Самое большее, он может мыслить это только в качестве поэта, потому что этот последний обладает такой фантазией, что даже фактически не испытанное и не пережитое может представить, почувствовать и изобразить так, как будто бы он это действительно пережил.
Здесь Фейербах полемизирует с гедонизмом, который отличает от эвдемонизма. Гедонизм для него – это исключительно индивидуалистическое понимание счастья как удовлетворения индивидуальных капризов и фантазий. В таком случае унизительное несчастье, гнетущее состояние оказываются для гедониста только одной из фантазий, и он легко смиряется с любым унижением или несчастьем, лишь бы сохранить свою способность наслаждаться отдельными вещами, например, вкусной едой или собственным здоровьем. Такому гедонизму, который просто отказывается видеть что-либо вокруг, Фейербах противопоставляет ответственный индивидуализм, знающий о трагичности жизни, но при этом понимающий, что возможно добиться счастья там, где прежде было несчастье.
Поэтому нет ничего более одностороннего и более извращенного, как такое положение, когда, говоря о стремлении к счастью, мыслят только удовлетворенное стремление к счастью, а это последнее представляют себе в таком случае совсем как какого-то праздношатающегося, как прямую противоположность добродетельному работнику (как будто бы труд не относится также к счастью человека!), представляют как бонвивана и гурмана. Конечно, пища, и притом сытная и хорошая пища, и питье относятся, но существу, к предметам стремления к счастью, относятся, по существу, к счастью и здоровью, хотя, разумеется, не к небесному и ангельскому, а к земному, человеческому счастью. «Есть и пить, – как говорит честный Лютер, – это легкое дело, так как человек ничего не делает охотнее»; более того, есть и пить – самое радостное дело на свете, как говорят обыкновенно, «перед едой не до танцев», «на полный желудок и голова весела».
Перед едой не до танцев – поговорка, означающая, что от голода падает настроение. При этом, конечно, имеется в виду обед с вином или пивом, который не просто утоляет голод, а веселит, пьянит, заставляет прийти в движение.
Но если еда и питье являются самым радостным и самым легким делом на свете, то голод и жажда, напротив, – самая печальная и самая тяжелая вещь на свете; поэтому свобода от голода является хотя и самой низменной, но вместе с тем и самой первой и самой необходимой свободой, первым и основным правом народа и человека. Но как односторонне и недостаточно было бы в таком случае, если бы я для того, чтобы узнать, что такое голод или желудок и что он в состоянии сделать, взял бы за образец его способности, его действия, его проявления силы только в обстановке переполненного стола богатого кутилы!
Фейербах усматривает важное противоречие гедонизма – если признать правоту гедонистов, то субъектом суждения, какое наслаждение самое настоящее, станет человек, живущий в наибольшей роскоши. А это противоречит аскетической и ответственной установке философии.
Правда, это совсем по-великосветски, но потому именно и лицемерно пропускать мимо ушей за звучными тостами и веселыми возгласами самого радостного дела на свете ужасные проклятия и пожелания гибели со стороны стремления освободиться от голода. Какую карикатуру нарисовал бы я на себя и на других, если бы я образ стремления к счастью скопировал бы только с веселой головы на полный желудок, забыв одновременно скопировать печальную и возбуждающую ужас голову на пустой желудок! Такой образ, конечно, недостаточен для объяснения человеческой жизни и сущности; он нуждается для своего завершения в выдуманных сущностях, в выдуманных силах, в «сверхчувственных способностях».
Фейербах иронизирует над тем, что сытое рассуждение обычно никогда не объясняет все аспекты счастья, например, почему иногда может быть счастлив и бедняк, а значит, выдумывает какие-то мнимые основания, на которых счастливы могут быть все люди. Такое рассуждение только вводит в заблуждение публику, так как большинство людей не узнают своего счастья в счастье сытых, разве что будут им завидовать. Тогда как Фейербах думал о том, что возможно такое понимание счастье, которое справедливо по отношению к любому индивиду и, следовательно, может уменьшить и количество несправедливости в мире.
Но то, что является непроницаемой тайной для тебя при полном желудке, то становится прозрачным, как вода, при пустом желудке. Способность отправлений желудка великих мира сего при их обедах, конечно, велика, вспомните, например, о гастрономических геройствах римских патрициев; их желудок был способен на многое, даже на неестественное и сверхъестественное, как, например, на то, чтобы по желанию вырвать и снова есть и есть для того, чтобы вырвать; но все же бесконечно больше объясняет и бесконечно больше в состоянии сделать власть голода.
Фейербах имеет в виду известные описания римских пиров: так как они длились долго и сопровождались сменами множества блюд, то время от времени участники вызывали у себя рвоту, чтобы высвободить место для новой еды. Фейербах считает, что из этой противоестественной, оскорбляющей уважение к еде, практики и выросло представление о счастье как о чем-то сверхъестественном, что дается не каждому, но является какой-то случайностью.
Конечно, даже сама голая страсть к наслаждениям изобретательна; но как ничтожно малы по числу и значению ее изобретения, если они только заслуживают это название, как малы они по сравнению с бесконечно многими и великими изобретениями и открытиями нужды[1]1
«Очень вероятно, что своими познаниями о свойствах почти всех растений мы обязаны именно тому, что человек первоначально находился в состоянии варварском и часто вынужден был, для удовлетворения голода, есть все, что только можно изжевать и проглотить» (Дарвин. Изменение животных и растений под влиянием одомашнивания) – примечания здесь и далее Л. Фейербаха.
[Закрыть], которая, однако, сама в свою очередь является если не изобретением, то ощущением проклятого стремления к счастью, ибо имеет нужду и ощущает нужду только то, что не хочет терпеть нужды.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































