Текст книги "Стремление к счастью. С комментариями и объяснениями"
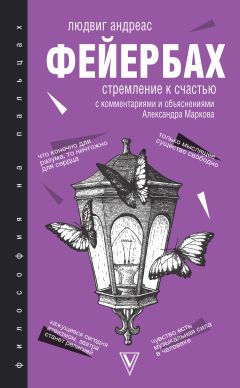
Автор книги: Людвиг Фейербах
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Тайна логоса и подобия Божия
Существенное значение Троицы для религии концентрируется в существе второго лица. Христиане живо интересовались Троицей главным образом из-за интереса к Сыну Божию. Горячий спор о подобосущии и единосущии – homousios и homoiusios – не был пустым спором, несмотря на то, что вся разница заключалась в одной только букве. Здесь шла речь о равенстве с Богом, о божественном достоинстве второго лица, о чести самой христианской религии; ибо существенным, характерным предметом последней является именно второе лицо: а существенный предмет всякой религии есть ее истинный, существенный Бог.
Единосущный и подобносущный (Фейербах приводит эти слова и по-гречески, где они отличаются одной буквой) – термины богословских споров IV века. Сторонники единосущия исходили из равенства Отца и Сына, указывая, что боговоплощение и богочеловечество не было бы возможным, если бы Сын был в чем-либо хуже Отца. Сторонники подобосущия во главе с Арием Александрийским думали, что Сын – божественное существо, но зависимое от Отца, что-то вроде самого прекрасного творения или посредника между Богом и миром. Сторонники единосущия справедливо упрекали сторонников подобосущия в том, что получающаяся у них система – не христианство, так как посредничество богов, боги как родовые для мира высшие существа (как говорит современная антропология, «тотемы»), генеалогии богов – это как раз отличительные черты любого язычества. Сторонники Ария возникали и в последующие века, обычно их называют «унитаристами», то есть признающими Богом только Бога-Отца.
Истинный, действительный Бог религии есть вообще так называемый посредник, ибо он и служит ее непосредственным предметом. Всякий, кто вместо Бога обращается к святому, обращается к нему в предположении, что Бог повинуется этому святому, находится в его руках и с готовностью исполняет его просьбы, т. е. его желания и волю. Просьба есть средство проявлять под видом смирения и покорности свое господство и превосходство над другим существом. Существо, к которому я прежде всего обращаюсь, является для меня поистине первым существом. Я обращаюсь к святому не потому, что он свят от Бога, а потому что Бог зависит от него и определяется, обусловливается его просьбами, т. е. волею или сердцем святого.
На самом деле, молитвы святым в теологии обосновываются догматом об «общении святых», иначе говоря, о том, что умершие христиане так же участвуют в жизни церкви как христианской общины, как и живые, поэтому могут оказывать помощь и поддержку.
Различие, которое католические богословы делали между latria, dulia и hyperdulia, есть не что иное, как пошлый, необоснованный софизм. Бог, заслоненный посредником, есть отвлеченное, праздное представление, представление или идея божества вообще; и роль посредника заключается не в примирении с этой идеей, а в ее уничтожении, отрицании, ибо она не есть предмет для религии. Короче, Бог, стоящий над посредником, есть не что иное, как холодный разум, царящий над сердцем – подобно судьбе над олимпийскими богами.
latria, dulia, hyperdulia (греч.) – поклонение, почтение, чрезмерное почтение. Имеется в виду, что святым нельзя поклоняться, потому что поклоняются только Богу, но их надлежит почитать.
Человек, как существо чувствительное и чувственное, находится во власти только образа. Образный, чувствительный, чувственный разум есть фантазия. Второе существо в Боге, в действительности первое существо религии, есть объективированная сущность фантазии. Определения второго лица по преимуществу образны. И эти образы не вытекают из неспособности человека мыслить предмет иначе, как образно; это ложное толкование-образность объясняется тем, что самый предмет есть образ. Поэтому Сын определенно называется подобием Божиим; его сущность в том, что он есть образ-фантазия Бога, видимая слава невидимого Бога. Сын есть удовлетворенная потребность образного содержания, объективированная сущность фантазии как абсолютной, божественной деятельности.
Слово «фантазия», в противовес просветителям, объявлявшим любую религию результатом корыстной «фантазии» жрецов, Фейербах употребляет в положительном смысле, как способность представления. Но просветители опирались на начальный смысл греческого слова «фантазия» – роскошь, причуда, самодурство, пышность, самовозвеличивание – намекая, что, дескать, жрецы думали лишь о собственной роскоши и величии. Фейербах вводит свою терминологию, называя фантазией скорее моделирование, при этом эмоционально окрашенное и поэтому необходимое для полноценной эмоциональной жизни человечества, и этим отличающееся от моделирования в отдельных науках.
«Образом Отца» Сын назван в приписанном апостолу Павлу новозаветном Послании к Евреям (Евр. 1, 3). Сторонники Ария говорили, что «образ» всегда хуже оригинала, тогда как правоверные христиане отвечали, что как раз образ означает точное воспроизведение, точное совпадение видовой принадлежности, только доступное людским чувствам. Для ариан слово «образ» относилось к онтологии, для правоверных христиан – к гносеологии.
Человек делает себе образ Бога, т. е. превращает отвлеченную сущность разума, сущность мыслительной способности в чувственный объект или сущность фантазии. Но он переносит этот образ на самого Бога, потому что его потребность осталась бы неудовлетворенной, если бы этот образ казался ему не объективной истиной, а лишь субъективным образом, отличным от Бога и созданным человеком. Да и на самом деле этот образ не есть созданный, произвольный образ; ибо в нем выражается необходимость фантазии, необходимость утверждать фантазию, как божественную силу. Сын есть отблеск фантазии, любимый образ сердца, и поэтому он, в противоположность Богу как олицетворенной сущности абстракции, является только предметом фантазии, только объективированной сущностью фантазии.
Из этого видно, как заблуждается догматическое умозрение, когда оно, упуская из виду внутренний генезис Сына Божия как образа Божия, объясняет Сына как метафизическое ens, как мыслительную сущность; ибо Сын есть удаление, отпадение от метафизической идеи божества, – отпадение, которое религия естественно переносит на самого Бога, чтобы оправдать это отпадение и не чувствовать его отпадением. Сын есть высший и последний принцип иконопочитания; ибо Он есть образ Божий. Но образ неизбежно заступает место самого предмета. Почитание святого в образе есть почитание образа как святого. Образ есть сущность религии там, где образ является существенным выражением, органом религии.
Ens (лат.) – сущность, существо. Фейербах здесь спорит с догматическим богословием, в котором Сын не меняет свою природу. С точки зрения классической метафизики, как и с точки зрения здравого смысла, существо не способно изменить свою природу, оно может разве что приобрести отдельные новые свойства или изменить внешний вид. Но Фейербах исходит из того, что природа Сына с самого начала неопределенная, это образ, она поэтому развивается, и образ может изменить природу, превратившись в сущность. Поэтому он видит в диалектике Отца и Сына не просто ряд событий, но историю приключений самой природы Божией, которая приоткрывает нам, почему человечество в ходе исторического развития, где истины как таковой нет, а есть только факты, открывает истину.
Никейский собор, наряду с другими доказательствами правильности употребления икон, сослался, между прочим, на авторитет Григория Нисского, который говорит, что образ, представляющий жертвоприношение Исаака, всегда исторгал у него ручьи слез; так живо рисовался ему этот священный рассказ. Но действие изображенного предмета не есть действие предмета как такового, а только действие образа. Священный предмет есть только ореол, в который образ закутывает свою таинственную силу. Религиозный предмет служит лишь предлогом для искусства или фантазии, чтобы беспрепятственно проявить свою власть над человеком. В религиозном сознании святость образа естественно и необходимо связывается со святостью предмета; но религиозное сознание не есть мерило истины. Церковь делала различие между образом и предметом и отрицала поклонение образу; но вместе с тем она опять-таки невольно, по крайней мере косвенным образом, признавала истину и сама удостоверяла святость образа.
Никейский собор – Второй Никейский собор (787 г.), утвердивший иконопочитание как одну из обязанностей веры, вопреки противникам икон, видевших в них языческий пережиток. Отцы собора указали на то, что икона является не только образом, который указывает на первообраз и законен в качестве такого указания, но и реликвией, которая подтверждает реальность боговоплощения, пребывания Бога в материальном теле.
Имеется в виду следующий эпизод из проповеди св. Григория Нисского «Слово о божестве Сына и Духа и похвала праведному Аврааму»: «После этого отец касается сына, и природа не противится делу; сын предает себя отцу, делает с ним все, что угодно. Кому из обоих больше подивлюсь? Тому ли, кто из любви к Богу налагает руки на сына, или тому, кто даже до смерти послушен отцу? Препираются между собою, один – возвышаясь над естеством, другой – рассуждая, что воспротивиться отцу – хуже смерти. Затем отец связывает сына сперва узами. Нередко видел я живописное изображение этого страдания и никогда не проходил без слез мимо этого зрелища – так живо эту историю представляет взору искусство. Исаак лежит перед отцом у самого жертвенника, припав на колено, и с руками, загнутыми назад; отец же, став поодаль отрока на согнутое колено и левой рукой отведя к себе волосы сына, наклоняется к лицу, смотрящему на него жалостно, а правую, ножом вооруженную руку направляет, чтобы заклать сына, и острие ножа касается уже тела, – тогда приходит к нему свыше глас, останавливающей дело» (дореволюционный анонимный перевод сотрудников Московской духовной академии).
О переходе от почитания иконы к непосредственному созерцанию есть прекрасное стихотворение Новалиса:
Ich sehe dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt,
Doch keins von allen kann dich schildern,
Wie meine Seele dich erblickt.
Ich weiß nur, daß der Welt Getümmel
Seitdem mir wie ein Traum verweht,
Und ein unnennbar süßer Himmel
Mir ewig im Gemüte steht.
Подстрочный перевод: «Мария, я вижу тебя запечатленной с любовью на тысячах икон, но ни одна из них не может передать тебя так, как ты отражаешься в моей душе. Я только знаю, что шум мирской так же рассеется вокруг меня, как сон, и только несказанно сладкое небо останется навсегда в моей мысли».
Но последним, высшим основанием иконопочитания является почитание образа божия в Боге. «Отблеск Бога» есть восхитительный блеск фантазии, проявляющийся в видимых образах. Образ подобия божия есть образ образов не только во внутреннем, но и во внешнем смысле. Образа святых суть только оптическое умножение одного и того же образа. Умозрительная дедукция образа Божия есть поэтому только бессознательная дедукция и обоснование иконопочитания; ибо санкция принципа естественно является санкцией его неизбежных последствий. Но освящение первообраза есть освящение снимка. Если Бог имеет от себя образ, почему я не должен иметь образа от Бога? Если Бог любит свой образ, как самого себя, почему я не могу любить образ Бога, как самого Бога? Если образ Бога есть сам Бог, почему образ святого не есть сам святой? Если это не есть суеверие, что образ божий не есть образ, не есть представление, а есть сущность, есть личность, то почему же будет суеверием, что образ святого есть чувствующая сущность самого святого? Образ божий льет слезы и истекает кровью, почему же образ святого не может лить слезы и истекать кровью? Неужели это различие проистекает из того, что образ святого есть дело рук? Но ведь этот образ создается не руками, а духом, одушевившим эти руки, фантазией; и если Бог сделал себе образ самого себя, то этот образ есть также только продукт силы воображения. Или, может быть, разница в том, что образ Божий есть продукт самого Бога, а образ святого создается другим существом? Но ведь образ святого есть также самоосуществление святого, потому что святой является художнику; а художник изображает его таким, каким он сам представился ему.
Снимок – копия, список. Фейербах рассуждает в виде множества восклицаний о предмете, который решался отцами церкви просто: различием между «одушевленным образом», которым является человек и Богочеловек, и «неодушевленным образом» – иконой, портретом. Само слово «икона» технически означает просто портрет, любое изображение, передающее хоть какое-то внешнее сходство. Познавательное значение образа всегда одно, просто природа может различаться по одушевленности или неодушевленности.
Другое определение второго лица, находящееся в связи с сущностью образа, заключается в том, что Сын есть Слово Божие.
Слово есть отвлеченный образ, воображенный предмет или, поскольку всякий предмет непременно является предметом мысли, воображенная мысль. Поэтому люди, знающие слово, название предмета, воображают, что они также знают и самый предмет. Слово есть результат силы воображения: спящие говорят во сне, больные в бреду. Возбужденная фантазия делает нас разговорчивыми, воодушевление сообщает нам красноречие. Дар слова есть поэтический дар. Животные не говорят, потому что у них нет поэзии.
Фейербах здесь отождествляет слово с произносимым словом и потоком речи, как бы автоматизированным словом. Слово поэзия употребляется в значении «способность придумывать слова», «способность сочинительства, порождающая новые слова или понятия». В таком случае животные, раз они не придумали ни одного своего слова, – не поэты.
Мысль выражается только в образах; способность выражения мысли обусловливается силою воображения; но сила воображения проявляется внешним образом в языке. Говорящий пленяет, очаровывает того, кому говорит; но сила слова есть мощь силы воображения. Поэтому древние народы, обладавшие неразвитым воображением, считали слово существом таинственным, магически действующим. Даже христиане, не только простые, но и ученые, отцы церкви, связывали с простым именем Христа таинственную, спасительную силу. Простонародье и до сих пор верит в возможность заворожить человека одними словами. Чем же объясняется эта вера в воображаемую силу слова? Тем, что само слово есть только сущность силы воображения, почему оно и действует на человека подобно наркозу, отдавая его во власть фантазии. Слова обладают революционной силой; слова господствуют над человечеством. Предание считается священным, а дело разума и истины не пользуется доброй славой.
Последняя фраза переведена из рук вон плохо, не передавая каламбуры и мысль Фейербаха. На самом деле сказано: Heilig ist die Sage; aber verrufen die Sache der Vernunft und Wahrheit – «Свят Сказ, но отречена Речь разума и истины». Слово Сказ имеет значение «сказание», «сказка», «предание», «мудрое изречение», все, завещанное традицией, а созвучное ему в оригинале «Речь» означает «вещь», «практическое следствие», «правдивое существенное содержание». Сближение речи и вещи есть во всех языках: в русском «вещь» и «вещать», украинском «речь» в значении вещь, немецкое Sage-Sache в этом тексте, латинское res (вещь, дело) от reor (говорить, судить, судачить, то же, что наше «речь»), английское thing означало изначально «мысль, предмет заботы» и было созвучно слову Тинг – древнескандинавский и древнегерманский парламент, «говорильня» (хотя тут возможно слияние с этимологией слова «День», нем. Tag, как в слове Бундестаг), и в парламентах говорят и тем самым заняты делом, и т. д.
Поэтому утверждение или объективирование сущности фантазии связывается с утверждением или объективированием сущности языка, слова. У человека есть потребность не только думать, чувствовать и воображать, но и говорить, выражать свои мысли, сообщать их другим. Эта потребность так же божественна, как божественна сила слова. Слово есть образная, откровенная, сияющая, блестящая, освещающая мысль. Слово свет мира. Слово вводит нас в святилище истины, открывает все тайны, являет невидимое, воспроизводит отдаленное прошлое, ограничивает бесконечное, увековечивает преходящее. Люди умирают, слово бессмертно; слово есть жизнь и истина. Слову дано всемогущество: оно исцеляет слепых, хромых и убогих, воскрешает мертвых; слово творит чудеса, и притом лишь чудеса разумные. Слово есть евангелие, параклет, утешитель человечества. Чтобы убедиться в божественной сущности языка, представь себе, что ты, одинокий и покинутый, впервые слышишь человеческую речь; разве она не покажется тебе ангельским пением, голосом самого Бога, небесной музыкой? На самом деле слово нисколько не беднее, не бездушнее музыкального звука, хотя нам и кажется, что звук бесконечно выразительнее, глубже и богаче слова, ибо его окружает этот призрак, эта иллюзия.
Параклет (греч., соответствует лат. advocatus, «вызванный на помощь») – утешитель, адвокат, ходатай, эпитет Святого Духа, употребленный Иисусом на Тайной вечере с учениками (Ин. 14, 16). Имеется в виду, что Дух может подтвердить правоту учеников и одновременно вдохновить их на самозащиту перед противниками христианства. К утешению в смысле эмоциональной поддержки в скорби это имеет лишь косвенное отношение.
Слово обладает способностью искуплять, примирять, освобождать, дарить блаженство. Грехи, в которых мы каемся, отпускаются нам благодаря божественной силе слова. Умирающий исповедуется в своих долго таимых грехах, чтобы примириться с Богом. Сознание греха влечет за собою прощение греха. Наши страдания облегчаются наполовину, если мы делимся ими с другом. Наши страсти утрачивают свою остроту благодаря тому, что мы говорим о них; предметы гнева, злобы, огорчения приобретают иную окраску по мере того, как мы сознаем недостойность страсти. Стоит нам раскрыть рот, чтобы спросить друга о чем-нибудь сомнительном и непонятном, как все наши сомнения разлетаются точно дым. Слово делает человека свободным; кто не умеет высказаться, есть раб. Поэтому чрезмерные страсти, чрезмерная радость, чрезмерное горе лишают нас языка. Речь есть акт свободы; слово есть сама свобода. Поэтому обогащение языка справедливо считается корнем культуры; где культивируется слово, там культивируется человечество. Варварство Средних веков исчезло с культурою языка.
Фейербах указывает на античное понятие «парресии» (παρρησία): права свободного человека когда угодно выступать публично с критикой существующего положения, по сути, права парламентского выступления, которым обладал любой гражданин античного полиса. В христианское время словом «парресия» стали называть право святых напрямую обращаться к Богу, из чего исходили и молитвы к святым как заступникам перед Богом, на церковнославянский язык это слово обычно переводится как «дерзновение» (дерзновение к Богу – право святых заступаться за грешников).
Культура – это слово здесь надо понимать предикативно, «культивация», Bildung, тогда эта фраза в переводе будет иметь смысл. Речь об образовательной программе эпохи Возрождения.
Как не можем мы в качестве божественной сущности представить себе ничего, кроме разумного, благого и прекрасного, которое мы мыслим, любим и чувствуем, так не знаем мы другой, более высокой, духовной силы, чем сила слова. Бог есть совокупность всей действительности, т. е. всего совершенного. Человек переносит на Бога все, что он чувствует и познает как действительность. Поэтому религия должна признавать силу слова божественной силой. Слово Бога есть божественность слова, поскольку она объективируется для человека в религии, – истинная сущность человеческого слова. Слово Божие тем отличается от человеческого, что оно является не преходящим дуновением, а сообщенной другим сущностью. Но разве человеческое, по крайней мере, истинное человеческое слово не заключает в себе сущность человека, его сообщаемое другим «я»? Таким образом религия принимает призрак человеческого слова за его сущность; поэтому неизбежно она представляет себе истинную сущность слова как особую, отличную от человеческого слова сущность.
Эвдемонизм
Перевод С. Бессонова
Эвдемонизм – это учение о том, как можно достичь счастья в повседневной жизни, а не только в интеллектуальных прозрениях или отдельных событиях существования. Разумеется, эвдемонизм подразумевает свободу воли как исходную предпосылку: ведь если человек зависим от обстоятельств, то и счастье, довольство собой, оказывается призрачным – тогда никакого «себя» у тебя нет, оно присвоено другим, поработившим тебя. Во многом Фейербах отвечал на распространившийся в 1860-е годы пессимизм, представленный прежде всего Артуром Шопенгауэром. Для Фейербаха близкий буддизму пессимизм Шопенгауэра противоречит «двигателю блаженства», заложенному в вещах: даже камни хотят быть, растения и животные хотят жить, а человек еще и хочет мыслить. Все стремятся к бытию от небытия, а значит, стремятся к довольству и счастью. Шопенгауэр считал, что рано или поздно мы познаем иллюзорность всех наших усилий, но на это Фейербах отвечал, что наше желание не может быть иллюзорно, ведь оно столь же наше, сколь наше тело. Поэтому эвдемонизм в мире духа столь же важен, сколь здоровье и правильное питание в мире тела. Но назвать Фейербаха просто оптимистом и самодовольным потребителем было бы грубо, ведь потребитель присваивает себе чужое, чужие эмоции или реакции, тогда как Фейербах призывал человека обрести собственную природу, собственное счастье. Конечно, для этого ему приходилось долго и подробно исследовать, как устроена индивидуальная воля: ведь мы сами иногда толком не знаем, чего хотим, и как можно на таком ненадежном основании строить философскую систему? Но в ходе этой аналитики Фейербах и построил ту моральную систему, которая позволяет говорить, что за всеми нашими влечениями, порывами и мыслями стоит настоящее желание блаженства, пусть иногда неверно понятое.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































