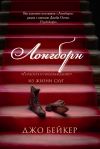Текст книги "В гостях у Джейн Остин. Биография сквозь призму быта"

Автор книги: Люси Уорсли
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Наделенная «теплым и легким поэтическим даром, жадная до чтения, с быстрым умом», она стала превосходной наставницей для будущей писательницы. О матери Джейн никогда не писала с нежностью, зато о мадам Лефрой – постоянно. И в зрелые годы Джейн часто вспоминала «ее ласковую улыбку».
Помимо литературных способностей мадам Лефрой имела и деловые: она раздавала по округе милостыню и привила «более 800» бедняков вакциной коровьей оспы, открытой доктором Дженнером[16]16
Дженнер, Эдвард Энтони (1749–1823) – английский врач, разработавший первую в мире вакцину против натуральной оспы, прививая неопасный для человека вирус коровьей оспы. Первый руководитель ложи оспопрививания в Лондоне с 1803 г. (ныне Дженнеровский институт).
[Закрыть] и предотвращающей настоящую оспу.
Ее брат, сэр Эджертон Бриджес, был еще более популярным, хотя и довольно напыщенным романистом, который какое-то время обитал в динском пасторате. Он специально поселился неподалеку от сестры; по его свидетельству, в ее доме «не переводились гости».
«Мне редко доводилось видеть столь счастливое существо, – писал о мадам Лефрой ее знакомый, – она почти непрестанно смеялась». Однако душу Энн Лефрой тоже терзали демоны. Она была цепкой матерью-собственницей, неспособной отпустить от себя детей, – вмешивалась в их жизнь и постоянно жаловалась, что ей без них плохо. Мадам Лефрой признавалась: «Я до такой степени возложила все мои земные надежды и чаяния счастья на любовь ко мне детей, что бываю больно задета, когда у меня возникает хоть малейшее подозрение, что они меня не ценят». Возможно, Джейн играла роль заместительницы, своего рода подпорки, помогающей мадам Лефрой справляться с унынием, вызванным невниманием родных детей.
Биографы Остинов не могут прийти к единому мнению относительно мадам Лефрой: то она харизматичная наставница, то злобная интриганка. Скорее всего, правы и те и другие. Она умудрялась сочетать занятия благотворительностью и обучение детей бедняков грамоте с сословной спесью и чрезвычайно расстроилась, когда ее брату не удалось выиграть долгую тяжбу за пэрство. Этот брат, сэр Эджертон, весьма снисходительно отзывается о девочке, чья слава в будущем непомерно превзойдет его собственную. Да, пишет он, ему довелось знать подругу своей сестры Джейн «ребенком: она тесно общалась с миссис Лефрой, которая поощряла ее литературные опыты».
Сэр Эджертон был первым романистом, которого Джейн видела вживе, но она понимала, что он далек от совершенства. От нее не укрылось, что даже миссис Лефрой «стыдилась» творчества своего брата, потому что в романе «Артур Фиц-Альбини» (1798) он жестоко высмеял ее друзей из окрестностей Эша и Стивентона. Тем не менее на примере творчества сэра Эджертона Джейн училась составлять собственное мнение о художественной литературе. «Папа разочарован, – признавалась Джейн, когда они оба прочитали одно из творений сэра Эджертона, – а я нет, потому что лучшего и не ожидала».
В поле зрения Джейн находились еще две печатавшиеся романистки – менее близкие географически, но принадлежащие к ее разветвленной семье. Двоюродная сестра миссис Остин Кассандра Кук в 1799 году опубликовала исторический роман; о более дальней родственнице по линии Ли, леди Кассандре Хоук, говорили, что она «не выпускает пера из рук; для нее не писать значит не жить». Ее романы характеризовали так: «Любовь, любовь, сплошная любовь». Строгим Остинам это не нравилось.
Не довольствуясь сочинениями соседей и родичей, Джейн Остин увлеченно читала и другие романы. Она обладала, как назовет это критик Клэр Харман, прекрасным «читательским пониманием» жанра, в котором ей предстояло работать. Привычкой запоем читать романы обзавелась не только Джейн. Каждые десять лет с 1760 по 1790 год число опубликованных женских романов вырастало на 50 процентов. Бытовало убеждение, что писательницы-женщины – непревзойденные мастерицы этого жанра. «Лучшие романы, – писала актриса, модная куртизанка и феминистка Мэри Робинсон, – вышли из-под пера женщин».
К друзьям семьи Джейн принадлежала еще одна романистка – обожаемая ею Фрэнсис Берни, автор «Эвелины» и «Цецилии», готовившая теперь к изданию по подписке роман «Камилла». Это немножко смахивало на современный краудфандинг: подписчики удостаивались чести быть поименованными на первых страницах книги. Собрание подписчиков «Камиллы» больше похоже на союз георгианских романисток, потому что многие из них поддержали свою сестру по цеху. Там фигурируют миссис Радклиф, и мисс Эджуорт (автор «Белинды»), и даже девятнадцатилетняя «мисс Дж. Остин из Стивентона», чью гинею, должно быть, внес за нее отец. Когда в «Нортенгерском аббатстве» Джейн выступает со своей знаменитой речью в защиту «романа», она упоминает «Камиллу» Фрэнсис Берни. Юная леди, которая «всего лишь» читает роман, говорит Джейн, «всего лишь» читает «Цецилию», или «Камиллу», или «Белинду», читает «всего лишь произведение, в котором выражены сильнейшие стороны человеческого ума, в котором проникновеннейшее знание человеческой природы, удачнейшая зарисовка ее образцов и живейшие проявления веселости и остроумия преподнесены миру наиболее отточенным языком».
Значит, «всего лишь» роман может иметь силу. Мэри Робинсон призывала писательниц – «неоцененных, невостребованных, отринутых обществом» – сплотиться. «Какая это будет могущественная когорта!» – мечтала она. Пройдут годы, и Джейн в «Нортенгерском аббатстве» встанет рядом с ней. «Не будем предавать друг друга», – обращается она к сочинительницам романов. «Если героиня одного романа не может рассчитывать на покровительство героини другого романа, откуда же ей ждать сочувствия и защиты?»
Еще раньше, в Стивентоне, Джейн жаждала стать частью этого счастливого клана и начать публиковаться. До нас дошли три тетради с ее ранними работами. Названные «Том первый», «Том второй» и «Том третий», они содержат двадцать семь сочинений объемом около 90 тысяч слов, сочтенных достойными сохранения и аккуратно переписанных. Сами тетради были подарены Джейн отцом, и дорогая бумага служит красноречивым свидетельством его одобрения: за два шиллинга, то есть за недельное жалованье горничной, можно было купить всего сорок восемь листов, или две дести, бумаги.
Бумага высокого качества, четкий почерк, идеальные беловые копии ранних пьес и рассказов… Три эти тетради – плоды трудов молодой девушки, которая уже считала себя «автором» и которой хотелось сберечь свое слово.
Названия тетрадей – том первый, том второй, том третий – подразумевали некое внутреннее единство. Они были старательно подделаны под настоящие, печатные книги. Одна из историй, озаглавленная «Катарина, или Беседка», даже начинается льстиво-просительным письмом автора к патронессе, в котором говорится, что другие сочинения, опубликованные при ее поддержке, «нашли место в каждой библиотеке королевства и выдержали трижды двадцать изданий». Харман считает это ранним свидетельством того, что Джейн станет практичной профессиональной писательницей, которая, еще не завершив романа, задумывается о продажах книги.
К осуществлению мечты Джейн имелось лишь одно, но существенное препятствие. При таком обилии в близком кругу печатающихся писателей и вдобавок при наличии брата, публикующего их опусы в «Разгильдяе», Джейн наверняка росла в уверенности, что издать рукопись ничего не стоит. Когда она впоследствии наставляла племянницу, сочинившую собственный роман, обе они говорили о его публикации как о чем-то само собой разумеющемся. В подростковом возрасте Джейн, должно быть, не сомневалась, что непременно станет романисткой. И какое, наверное, ее постигло разочарование, когда выяснилось, что путь к этой цели так долог. Причина заключалась в оригинальности Джейн. Ее романы были слишком необычны, слишком «неромантичны», чтобы издатели сразу поняли, насколько они хороши.
Но, глядя вовне, на мир будущих читателей, Джейн не забывала и о тех, кто рядом. Четырнадцать ее произведений посвящены членам семьи, или кружка Остинов, и создается впечатление, что они задуманы для совместного чтения или даже сценического представления в духе стивентонских спектаклей. Еще Джейн писала рассказы в подарок друзьям и родным: это ничего ей не стоило, если не считать траты бумаги и времени. Впоследствии семья отдала одну из тетрадей во владение счастливчику Чарльзу, поскольку кое-какие из содержащихся в ней вещиц были «написаны специально, чтобы его позабавить». Другую вещицу Джейн посвятила своей подруге Марте Ллойд как «скромное свидетельство моей благодарности за великодушие, которое ты недавно проявила ко мне, дошив мое муслиновое платье». Впоследствии эта самая Марта, как и ее сестра Мэри, станет не только подругой, но и родственницей Джейн.
К сочинению литературы какого рода побуждали Джейн все эти наставники, родичи и приятельницы? В своих произведениях она ставит рассудок выше эмоций, что неудивительно для девушки, которая жила в окружении мальчиков, грызущих гранит науки. Всю жизнь она старалась избегать излишних сантиментов. В рассказике «Прекрасная Кассандра» предметом любви является не ожидаемый юный красавец, а чудесная шляпка. История излагается в череде «глав» длиной с птичью трель – абсолютно новаторская форма, где нет ни одного лишнего слова. «Когда Кассандре сровнялось 16 лет, она была прелестна, мила и способна влюбиться в элегантную шляпку». Ее мать-модистка смастерила шляпку по заказу графини, но Кассандра «надела ее на свою нежную головку и вышла из мастерской матери на поиски счастья». Какое восхитительное начало!
Затем, обратившись к теме роскошеств, предоставляемых Лондоном, Джейн позволила своей героине вкусить его удовольствий. «Прекрасная Кассандра» пренебрегла неотразимым виконтом ради кондитерской, где проглотила шесть порций мороженого. Когда пришло время платить, она «толкнула кондитера и ушла». Затем красотка прокатилась в наемном экипаже до Хэмпстеда, а когда кучер потребовал вознаграждения, нахлобучила ему на голову свою дивную шляпку и убежала. В конце концов Кассандра после семичасового отсутствия вернулась домой, чтобы «прильнуть к материнской груди». Но в материнских объятиях «Кассандра улыбнулась и шепнула себе под нос: „Денек удался“». Какое озорство! Какой блеск!
Эта проба пера, нелепо разделенная на двенадцать «глав», в каждой из которых ровно по одному предложению, – идеальное вступление к ироничному, искрящемуся творчеству Джейн Остин. Ее племянник в своей весьма авторитетной биографии изобразил тетушку образцом достоинства, доброты и кротости. «В ней не было ничего эксцентричного или вздорного, – пишет он, – никакой строптивости нрава, никакой резкости манер». Однако ее ранние произведения свидетельствуют об обратном. Они напичканы эксцентричными и вздорными девчонками, гораздыми на всякие шалости.
Помимо прекрасной Кассандры еще есть Софи, способная «залпом осушить бокал вина»; есть София, бессовестная воровка, которая «величественно» вытаскивает купюру из стола кузена, а когда ее уличают, вскипает праведным гневом; есть комедиантка Китти, оплакивающая потерю своей обожаемой гувернантки мисс Диккенс. Китти, сокрушенная горем, рассказывает нам, что никогда не забудет, как исчезла мисс Диккенс. «„Моя милая Китти, – сказала она, – доброй тебе ночи“. Больше я ее не видела». Создав надлежащий мелодраматический накал, Китти театрально замолкает, утирает глаза и только тут сообщает, куда на самом деле подевалась мисс Диккенс: «В ту ночь она сбежала с дворецким».
По мнению одного из лучших критиков Джейн Остин, Вирджинии Вулф, есть что-то удивительно насмешливое в этих ранних рассказах о «Любви и дружбе» (как назван один из них), об ужасе и фарсе. «Что это за нота, которая никогда не тонет в массе других, которая звучит отчетливо и пронзительно от начала и до конца тома? – спрашивает она. – Это переливы смеха. Пятнадцатилетняя девочка смеется в своем уголке над миром».
Тетрадь Джейн, совсем как настоящая книга, получила настоящий отзыв. Ее отец проаннотировал дочкин «Том третий» следующими точными – не в бровь, а в глаз – словами: Это «всплески воображения очень юной леди, представленные рассказами в совершенно новом стиле». «Совершенно новый стиль» был величайшим талантом Джейн. Но он стал и величайшим препятствием к тому, чтобы ее произведения реально увидели свет.
7
Войны
Какую спокойную жизнь они вели… Ни беспокойств по поводу Французской революции, ни сокрушающего напряжения по поводу Наполеоновских войн.
Уинстон Черчилль о «Гордости и предубеждении»
Джейн ни разу не бывала во Франции. За всю свою жизнь она не выбиралась на север дальше Стаффордшира; возможно, на западе она посещала Уэльс; на самом востоке Кента – несомненно, Рамсгит. Критики часто отказывали ей в звании «серьезной» романистки, поскольку она не писала о Французской революции, Наполеоне и прочих великих событиях и людях своего времени, а Франция в ее романах упоминается лишь трижды. Однако это слишком поверхностное суждение. Джейн и ее семья просто не могли отгородиться от страны, находившейся от Хэмпшира через пролив, и в особенности – от последствий революции. Уникальная заслуга Джейн в том и состоит, что она показала, как эти сейсмические события отразились в крошечных деталях повседневной жизни обыкновенных людей. Политическое Джейн превратила в личное.
Несмотря на знание языка и восхищение лоском Элизы, Джейн относилась к французам неоднозначно. Внимательный читатель ее романов даже уловит в них едва заметные антифранцузские нотки. Мерзкий мистер Хёрст в «Гордости и предубеждении» любит французскую кухню, а скользкий Фрэнк Черчилль в «Эмме» пересыпает разговор словечками типа «naïveté» (наивность) и «outré» (возмущенный). Мистер Найтли клеймит Фрэнка и французов, но тоже при помощи французского: Фрэнк, говорит он, «может быть любезен лишь в том смысле, как это понимают французы, но не англичане. Может быть «très aimable», иметь прекрасные манеры, производить приятное впечатление; но он не обладает тем бережным отношением к чувствам других, которое разумеет англичанин под истинною любезностью». В романах Джейн французы и все французское не в большой чести. Однако она слишком умна, чтобы откровенно их осуждать.
Конечно, даже до начала революции французы и англичане не слишком ладили. Любимая романистка Джейн Фрэнсис Берни немало изумлялась: как это ее угораздило выбрать себе «французского мужа». «Никакое удивление на земле, – писала она, – не сравняется с моим собственным, вызванным находкой такой личности в этой нации». Однако Остины не опускались до бытового шовинизма. Джейн знала о замужестве Берни и упомянула о нем в «Нортенгерском аббатстве», где глупейший персонаж отзывается о Берни как «о той женщине, из-за которой было столько разговоров и которая вышла замуж за французского эмигранта»[17]17
В 1792 г. Берни познакомилась с французским генералом Александром Д’Арбле, только что эмигрировавшим в Англию. В 1793 г. Берни и Д’Арбле поженились.
[Закрыть]. Насмешки над французскими «мусью» как над мерзкими поедателями «фрикасе из лягушек», писал Джеймс, «несовместимы с широтой взглядов».
В 1789 году многие британцы приветствовали новость о взятии Бастилии и крахе французского абсолютизма. «Своей грандиозностью это событие затмевает все, что когда-либо совершалось в мире!» – восклицал Чарльз Джеймс Фокс[18]18
Фокс, Чарльз Джеймс (1749–1806) – английский парламентарий и политический деятель, убежденный оппонент короля Георга III, идеолог британского либерализма, вождь радикального крыла партии вигов.
[Закрыть]. Однако через год, когда проявились последствия революции, в душах тех, кто ее приветствовал, зародились сомнения. Понравилось бы британским джентльменам, вопрошал Эдмунд Берк[19]19
Берк, Эдмунд (1729–1797) – англо-ирландский парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвещения, родоначальник идеологии консерватизма.
[Закрыть] в палате общин, «если бы их особняки были разорены и разграблены, их достоинство поругано, их семейные реликвии сожжены у них на глазах, а сами они были принуждены скитаться в поисках прибежища по всем странам Европы?». Поэтесса Анна Сьюард, поняв, что ее прежнее восторженное отношение к революции – ошибка, сетовала: «О, если бы французам хватило мудрости понять, где нужно остановиться».
В 1789 году Джейн исполнилось тринадцать лет, и ее жизнь, как и жизнь каждого, кто принадлежал к ее поколению, подверглась влиянию Наполеоновских войн, которые затронули ее ближе, чем многих, – из-за Элизы и братьев-моряков. За внешней канвой ее романов прочитывается глубокая озабоченность поиском ответа на тот же самый вопрос: где человек должен остановиться. «Благополучие каждой нации, – говорит мудрая героиня раннего романа Джейн «Катарина», – обусловливается добродетелью отдельных ее представителей», и выступать против «декорума и приличий» – значит приближать крушение королевства. С одной стороны, романы Джейн – это островок спокойствия посреди бурного моря перемен. С другой – их автор размышляет над гораздо более важной проблемой, чем успех или поражение Наполеона. Над тем, как должна быть устроена хорошая жизнь в мирное время.
После рождественских развлечений в стивентонском пасторате Элиза вернулась к мужу во Францию, откуда ей пришлось незамедлительно вновь уехать. 7 июля 1789 года, в последний момент ускользнув от начавшейся в Париже смуты, семейство Хэнкок прибыло в Лондон. 14 июля французские революционеры взяли штурмом Бастилию.
Следующее ключевое событие произошло 26 января 1793 года, когда французы казнили своего короля, Людовика XVI. Говоря словами другого сельского священника, преподобного Вудфорда, бедный Людовик был «бесчеловечно и несправедливо в прошлый понедельник обезглавлен жестокими, кровожадными молодчиками. Боюсь, близятся страшные времена». Мистер Остин, видимо, держался того же мнения. Британцы, несмотря на их приверженность свободе, сочли это перебором. Через месяц они вступили с Францией в войну.
Дыхание войны коснулось и жизни в Стивентоне. Череда войн, известных как Наполеоновские, началась, когда Джейн исполнилось семнадцать лет, и не заканчивалась до ее тридцати девяти. Это означало, что из сорока одного прожитого ею года мирными были всего тринадцать. Это также означало, что ей не повезло: ее молодость прошла на фоне нехватки женихов, так как Наполеоновские войны уносили в среднем по 20 тысяч мужчин в год.
«Война не только объявлена, – провозглашал Питт[20]20
Питт, Уильям Младший (1759–1806) – 16-й премьер-министр Великобритании (1783–1801).
[Закрыть] в палате общин, – она у наших дверей». Графство Хэмпшир, с его открытым берегом Ла-Манша и верфями в Портсмуте, стало своего рода внутренним фронтом. По улицам ходили солдаты и матросы, по дорогам ползли бесконечные обозы с провиантом. В Винчестере – королевском дворце, который так и не успел достроить Карл II, – содержались тысячи французских военнопленных. Их охраняли шесть тысяч военных, и еще восемь тысяч разместились в лагерях под Андовером и Бейзингстоком. «В воздухе витал общий для всех страх, – писал мемуарист того времени, – страх перед Бонапартом и французским вторжением. Разговоры шли исключительно о маяках, башнях мартелло, лагерях, складах и видах самообороны». Джейн все это наблюдала. Конечно, в «Гордости и предубеждении» громадную роль в жизни Беннетов играют офицеры, и не только в качестве конкретных персонажей. Они приносят в деревню беспощадный дух поля брани – так же как Китти и Лидия приносят домой сплетни: «Несколько офицеров обедали у их дядюшки, был подвергнут телесному наказанию рядовой и распространились самые упорные слухи, что полковник Форстер намерен жениться». О телесном наказании упоминается вскользь, как о чем-то обыденном, что с удвоенной силой показывает нам черствость глупых девчонок.
Изменился и вид хэмпширской деревни. Из-за французской блокады поднялась цена на зерно, побуждая землевладельцев огораживать и удобрять свои поля и сгонять с них как людей, так и животных, которые там раньше паслись. «Огораживание» означало не просто обнесение земли забором, но и смену ее правового статуса с запретом на ней пастись или с нее кормиться. Свидетельства этих болезненных перемен в сельской жизни то и дело мелькают в романах Джейн Остин: начиная с человека, поправляющего изгородь (символ огораживания) в «Мэнсфилд-парке», и кончая голодными цыганами, которые вроде бы крали индеек в «Эмме».
Дыхание войны прямо коснулось семьи Остин, когда Генри Остин решил поступить в армию. Республиканская Франция объявила Англии войну 1 февраля 1793 года, и уже через два месяца Генри стал лейтенантом Оксфордширской милиции. «Политические обстоятельства поры 1793 года, – объяснял он впоследствии, – обязывали каждого, не занятого иным делом, внести свою лепту в общую оборону страны». Генри прослужил в милиции пять лет. По всей стране так же поступали молодые англичане, как слуги, так и господа. «Наш посыльный, Тим Тули, – сетовал норфолкский священник, – пропал… Он якобы отправился спать, но сбежал: полагают, в Норидж, чтобы завербоваться в солдаты, так как у него в голове давно засела мысль о том, чтобы повоевать». Всеобщий энтузиазм был таков, что на военную службу рвались даже люди, явно к ней непригодные, взять хотя бы поэта Сэмюэла Тейлора Кольриджа. Кольридж вступил в 15-й полк легких драгун под чужим именем, но не смог скрыть, что амуниция у него ржавая, а сидеть в седле он практически не умеет. Через три месяца его выгнали как «душевнобольного». Примечательно, что Генри, как и лейтенант Уикхем в «Гордости и предубеждении», участию в активных военных операциях за границей предпочел милицию, являвшуюся оборонительной силой. Любовь к домашнему комфорту заметно умеряла его воинственный пыл. К тому же, находясь в отпуске по болезни, он ухитрился пропустить самые волнующие события в жизни полка (мятеж, бунт), хотя присутствовал при кораблекрушении.
В августе французы объявили поголовную мобилизацию, что вдохновило Британию на зеркальный ответ. По словам корреспондента «Джентльменз мэгэзин», «военная лихорадка настолько захватила юных и прекрасных леди, что они позволили какому-то сержанту их муштровать и натаскивать (разумеется, приватно)». Джейн приобрела и носила на тюрбане воинскую кокарду из перьев нильской цапли, подобную тем, что красовались на шляпах ее братьев-капитанов во время сражений с наполеоновским флотом. Для бала в честь победы Нельсона в битве на Ниле в 1799 году она позаимствовала «чалму мамелюка» (что-то вроде египетской фески). Еще настойчивей одеваться и вести себя по-военному порывалась Элиза. «Я ходила обсудить мою экипировку, – писала она, – чтобы незамедлительно подвергнуться муштре».
Возникает вопрос, что имела в виду Элиза под «муштрой». Весной 1791 года она жила в Англии, выезжая ради здоровья своего бедного малыша в Маргит и нянчась со своей матерью, тетей Филой, у которой, как стало очевидно, развился рак груди. Маленький Гастингс страдал припадками, и Элиза опасалась, что мальчик «будет как несчастный Джордж Остин… он пока не стоит на ножках и не может говорить». Несмотря на ветреность Элизы, все признавали, что она глубоко предана умирающей матери и болезненному сыну. Спесивая кузина Филадельфия, завидовавшая Элизе с ее светским блеском, в довольно мерзком письме рассуждала о ждущей родственницу тяжелой утрате: «Бедняжка Элиза скоро останется совсем одна. Веселая и разгульная жизнь, которой она так долго и так необузданно предавалась, не снискала ей дружбы среди лиц достойных… Ее легкомыслие всегда вызывало у меня тревогу и жалость».
Где же был муж Элизы? Предполагаемый граф, «стойкий аристократ, или роялист духом», не принял революционную Францию и уехал в Британию. Однако задолго до того, как Элиза сняла траур по матери, он поспешил назад на родину, так как получил извещение, что «если задержится в Англии, то будет сочтен эмигрантом, вследствие чего все его имущество отойдет народу». В 1792 году судьба вновь привязала Элизу к Стивентону и к Джейн. Теперь у нее не осталось покровителя надежнее, чем мистер Остин. Элиза часто садилась с ним рядом, отыскивая в его лице черты своей покойной матери, пока, как она писала, «из глаз не изольются слезы сердца». «Я всегда нежно любила дядю, – заключала она печально, – но, думаю, теперь он дорог мне как никогда».
У Элизы имелась и еще одна, вполне прагматичная причина испытывать к мистеру Остину благодарность. Как попечитель ее состояния в 10 тысяч фунтов, он не позволил сомнительному графу вложить их во Франции. Это оказалось мудрым решением; Элиза сохранила свое богатство. Кроме того, вопреки внешнему впечатлению, она очень осторожно обращалась с деньгами, никогда не делала долгов и за все платила вперед. Что поразительно для любительницы светских развлечений, она не играла в азартные игры, в том числе ни при каких обстоятельствах не прикасалась к картам. Она наслаждалась покоем Стивентона, где находила утешение в общении с Кассандрой и Джейн, которые «одинаково рассудительны, и обе до такой степени, какую редко встретишь». Но у Элизы была любимица: «Мое сердце склоняется к Джейн, чье доброе ко мне пристрастие, конечно же, требует равноценного ответа».
Ее муж, находившийся в тот момент на расстоянии всего нескольких миль, за проливом, из-за своих роялистских симпатий попал в беду. В 1794 году против него выдвинули обвинение в содействии некой маркизе, участвовавшей в подготовке заговора против республики. Де Фейид попался на даче взятки; к несчастью, Комитет общественного спасения обнаружил в кармане графских панталон расписку в получении денег. Его с Элизой французский дом и владения передали под опеку чернокожей служанки, гражданки Розы Клариссы, и экономки, гражданки Жубер.
До Остинов дошли слухи, что «граф», до революции кичившийся своим титулом, предпринял последнюю отчаянную попытку избежать гильотины. Он представился лакеем, который убил и занял место настоящего графа. Несмотря на это, 22 февраля 1794 года (в четвертый день ненастного месяца вантоза[21]21
В антоз (фр. ventôse, от лат. ventosus – ветреный) – 6-й месяц (19 февраля – 20 марта) французского республиканского календаря, действовавшего с октября 1793 г. по 1 января 1806 г.
[Закрыть] по новому республиканскому календарю) де Фейида казнили. Его заявление, что он не был графом, чрезвычайно затруднило овдовевшей Элизе задачу восстановить свои права на его имения. Вся эта история выглядит страшно запутанной, хотя и весьма романтичной.
В 1798 году Британия вступила в новую коалицию против Наполеона. Мистер Остин отправился на собрание в Бейзингстокской ратуше обсуждать Закон о защите королевства, призванный подготовить страну к сражению. По всей стране людей опрашивали, хотят ли они служить в армии. Подразумевались ответы «да» или «нет», но кое-кто выражался более красочно, например: «У меня этот Бонипарт попляшет» и «Я лягушатникам ноги-то обломаю». Опросы показали, что Стивентон способен составить свою «папашину армию»[22]22
«Папашина армия» – телесериал-ситком BBC (1968–1977) об ополчении в годы Второй мировой войны.
[Закрыть] из тридцати девяти трудоспособных мужчин в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет. У них не было никакого серьезного оружия – ни сабель, ни револьверов, ни копий, – а их «наличный арсенал» состоял из шестнадцати топоров, двенадцати заступов и четырех лопат.
Даже в начале нового века обитатели Хэмпшира все еще верили, что в любой миг возможно вторжение. «Прошлым вечером нас испугал вид огромного зарева, – писала подруга Джейн мадам Лефрой. – Я боялась, что это какой-то сигнал, оповещающий о приближении врага, и легла спать с пренеприятным чувством». На самом деле горела бейзингстокская солодовня. Мадам Лефрой не знала, чего опасаться больше – того, что французы приплывут на лодках, или того, что они прилетят на воздушных шарах. В Британской библиотеке сохранился рисунок диковинного «французского плота для завоевания Англии», несущего на себе крепость с зубчатыми стенами и толкаемого вперед гребными колесами, приводимыми в движение ветряками.
Между тем Элиза осталась сиротой и одинокой матерью ребенка-инвалида. Но она не стала поступать с сыном так, как поступили Остины с братом Джейн Джорджем. Его, как мы помним, препоручили заботам чужих людей. Для Элизы это было неприемлемо. Она держала малыша при себе и пыталась «вылечить» от припадков. Гастингса никуда не отсылали.
Элиза явно нуждалась в поддержке, в супруге, который разделил бы с ней бремя ухода за сыном. В тридцать четыре года она все еще была «исключительно хороша собой», и есть свидетельства, что «во время короткого вдовства она кокетничала со всеми своими стивентонскими кузенами». В прежние беззаботные дни рождественских празднеств она предпочитала Генри, но теперь ситуация изменилась. Джеймс Остин, стихи которого когда-то декламировала в спектаклях Элиза, нуждался в спутнице жизни. За прошедшие годы он успел жениться и потерять жену, оставившую ему малолетнюю дочь. Джеймс стал викарием, жил в динском пасторате и управлял вторым приходом мистера Остина. Союз с Элизой всем представлялся в высшей степени разумным. Но Джеймс повел себя довольно-таки бесцеремонно, «выбирая между прекрасной Элизой» и подругой Джейн мисс Мэри Ллойд. В отличие от изящной Элизы толстощекая Мэри Ллойд красотой не блистала: ее лицо было «изрыто оспой». Все историки семейства Остин указывают на то, что Мэри к тому же обладала вздорным характером, но мы вправе в этом усомниться: не исключено, что ими двигало глубокое убеждение в том, что внешний облик человека всегда соответствует его внутреннему содержанию. Обезображенное лицо подразумевало испорченный нрав.
В результате Джеймс все-таки предпочел домашнюю, практичную Мэри. Сама Мэри, кстати, до гробовой доски не могла простить мужу его колебаний. Когда Джеймс и Мэри наконец соединились, Элизе пришлось покинуть Стивентон. Женщины «не ладили»; вернее сказать, Мэри отказалась терпеть в доме Элизу. Невестка Джейн Мэри Остин, урожденная Ллойд, «не любила и порицала» Элизу. Сила Мэри заключалась в надежности и бережливости. Они были полными противоположностями – ветреная Элиза и Мэри, бдительно надзиравшая за хозяйством и не упускавшая случая «отругать близких за расточительство».
Впрочем, опасения Джейн лишиться из-за решения брата общества очаровательной «французской» кузины, принесшей Остинам столько беспокойств, не оправдались. Предприимчивая Элиза нашла другую возможность проникнуть в их семейство.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?