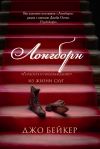Текст книги "В гостях у Джейн Остин. Биография сквозь призму быта"

Автор книги: Люси Уорсли
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
10
Романы
Из всех химических смесей самая опасная – чернила.
Джеймс Остин (журнал «Бездельник»)
Унылая сельская жизнь в Хэмпшире военной поры имела то великое преимущество, что оставляла Джейн время для творчества. В июне 1793 года, в семнадцать лет, она закончила переписывать в три тетради свои ранние работы и взялась за осуществление нового замысла.
Первый набросок книги, которая в конце концов была опубликована под заглавием «Чувство и чувствительность», назывался «Элинор и Марианна». Произведение задумывалось как эпистолярный роман. По свидетельству Кассандры, Джейн его «сначала сочиняла в письмах и так читала семье». К 1795 году сюжет романа, вероятно, уже полностью сложился, раз Джейн читала его вслух Остинам, в лице которых, должно быть, находила благодарных слушателей.
Легко вообразить, что по вечерам Остины требовали познакомить их с очередной главой или очередным «письмом» из «Элинор и Марианны». Для своего первого крупного литературного опыта Джейн выбрала форму эпистолярного романа, очевидно в подражание «Памеле» Ричардсона, но впоследствии она пересмотрела свой подход и переработала текст. К моменту выхода «Чувства и чувствительности» в свет (Джейн уже исполнилось тридцать пять лет) манера рассказывать истории в письмах безнадежно устарела. Автору пришлось менять сюжет, ведь в первоначальной редакции Марианна и Элинор постоянно писали друг другу, что подразумевало разлуку. В «Чувстве и чувствительности» они почти не расстаются. Эта коренная переделка – раннее свидетельство того, что Джейн тщательно работала над своими текстами, правила черновики и оттачивала слог.
В 1790-е годы письма служили Джейн естественным развлечением. Переписка была занятием, входившим в распорядок дня практически всех георгианских дам. Лишенная ярких впечатлений, Джейн в своих эпистолярных посланиях умела представить любое пустяковое событие как нечто грандиозное. Ее письма полны шуток, и нам не надоедает их перечитывать, так как каждый раз открываются новые смыслы.
Письма Джейн к сестре можно вслед за критиком Деборой Каплан назвать «двухголосыми». На первый взгляд они кажутся сдержанными, чуть ли не скучными. Ничто (или почти ничто) не помешало бы Кассандре, где бы она ни гостила, зачитать одно из них собравшемуся за завтраком обществу. Но вместе с тем эти письма содержат тонкую критику высшего света и всевластия мужчин. В них есть то, что Каплан называет «вкрапленными комментариями sotto voce[29]29
Вполголоса (ит.).
[Закрыть], предназначенными исключительно для женских ушей».
Это «двухголосие» присутствует и в «Чувстве и чувствительности». На первый взгляд – это дидактический рассказ: эмоционально неустойчивая Марианна получает урок и учится владеть своими чувствами, а благоразумная Элинор вознаграждается за сдержанность. Но при ближайшем рассмотрении видно, что героини выступают на равных. Хотя с точки зрения общества Марианна виновата, потому что говорит правду.
Из всех романов Джейн «Чувство и чувствительность» пользуется у современных читателей наименьшей популярностью. Вероятно, потому, что он наиболее близок к другим современным ему романам и наименее понятен нам. Частично причина в том, что он написан «против» чего-то, что сегодня не является частью нашей жизни, – тогдашнего культа чувствительности.
«Чувствительность», известная также как «английская болезнь», к середине восемнадцатого века сделалась модным среди богачей недугом. Она была признаком принадлежности к высшему классу, поскольку развивалась лишь у того, кто проводил жизнь в праздности и роскоши, позволявших с особым трепетом относиться к своим «нервам».
Склонность к чувствительности открывала дорогу миллиону других серьезных страданий, таких как меланхолия или разбитое сердце. Эта воображаемая уязвимость чувств, проявлявшаяся органически, сильно раздражала сторонних наблюдателей. Доктор Джонсон называл распространившееся поветрие «модой на сентиментальное нытье». Тому, кто желал поразить окружающих тонкостью изысканных чувств, начинать следовало с чтения романов. Пристрастившись к романам с их возвышенными понятиями о любви и любовных отношениях, читатели переняли эмоционально-романтическую манеру изъясняться их героев и попытались перенести ее в реальный мир. Расцвет культа чувствительности пришелся как раз на юность Джейн. Писательница-моралистка Ханна Мор в своем стихотворении «Чувствительность: Поэтическое послание» (1782) приравнивает чувствительность к добродетели:
Чувствительность души! Ты ликованье!
Твоя мораль чутка! Мгновенно правды знанье!
Но чем дальше, тем больше Мор утверждалась во мнении, что чувствительность стоит на пути долга и действия. Мэри Уолстонкрафт тоже полагала, что чувствительность вредит женщинам, делая их рыхлыми, бесформенными существами, не имеющими ни цели, ни внутреннего стержня. Как говорит критик Джон Маллан, перефразируя Сэмюэла Тэйлора Кольриджа, «светская дама готова обливаться слезами над «Страданиями юного Вертера» или терзаниями барышни в «Сэре Чарльзе Грандисоне» Ричардсона (1743–1744), но забывает, что сахар попадает к ней в чай с невольничьих плантаций».
К концу восемнадцатого века публика пресытилась чувствительностью. В 1799 году в журнале появилось пародийное письмо матери с жалобой на дочь, которая с утра до ночи только и делает, что читает романы. «Одну неделю – «Безмерную чувствительность», «Изысканную утонченность», «Бескорыстную любовь», «Сентиментальную красавицу» и тому подобное. Другую неделю – «Жуткие тайны», «Пещеры с привидениями», «Черные башни», «Зловещие чары» и так далее». Героини всех этих книг были представлены абсолютно никчемными созданиями. Современная женщина, с возмущением писала Мэри Робинсон, «не удостаивает быть умной, поскольку боится показаться мужеподобной; она дрожит от легчайшего ветерка, лишается чувств при малейшей опасности и тушуется перед каждым злодеем».
Новаторство Джейн как романистки состояло, в частности, в решимости изображать своих героинь далекими от идеала и ни в коем случае не слабовольными существами. По стандартам эпохи их поведение могло считаться просто дерзким. В них бурлят желания, они ошибаются и учатся. Марианна, образ которой Джейн создала в юности, так жаждет чувствовать, что ее эмоциональная уязвимость становится опасной. Девушка влюбляется в распутного Уиллоби именно потому, что тот демонстрирует все ту же чувствительность: говорит с ней о поэзии и романах, о природе и музыке. Однако увлечение Марианны оборачивается ухудшением самочувствия: у нее болит голова, она «не в силах произнести ни слова, проглотить ни кусочка». Поначалу это просто реакция молодой девушки на душевные переживания. Но когда Уиллоби действительно порывает с ней и она в отчаянии бродит под дождем, дело принимает более серьезный оборот: Марианна по-настоящему и тяжело заболевает. «Чувствительность» чуть не стоила ей жизни.
В нас, сегодняшних, сентиментальная Марианна пробуждает больше сострадания, чем в первых читателях Джейн. Вспышки гнева Марианны – по сути, единственное, чем она способна ответить обществу, которое до крайности ограничивает ее жизненный выбор. После того как Уиллоби бросает Марианну, друзья пытаются сосватать ее за скучного, но надежного полковника Брэндона. По важному наблюдению критика Тони Тэннера, «подавленный Марианной крик в сердце романа» – симптом общественного недуга. Ей необходимо кричать. Как еще она могла заявить о своих потребностях и желаниях? Джейн ненавидела жеманство вялых предшественниц Марианны. «Эти воплощенные совершенства, – писала она, – вызывают у меня тошноту и злобу».
Чувствительная Марианна восторгается всем «живописным», как и Джейн, обожавшая Уильяма Гилпина, одного из тех, кто сформулировал это понятие[30]30
Уильям Гилпин был первым теоретиком «живописности», определявшим ее как «вид красоты, который выразителен в живописи».
[Закрыть]. Но Джейн показывает, что в страсти к неокультуренным пейзажам есть риск переусердствовать. Ее герой, Эдвард Феррарс, более прозаичен. Холм, представляющийся Марианне «гордым», он называет «крутым». Склон, для нее «почти неприступный», – «неровным и бугристым». Эдварду «не нравятся ветхие, разрушающиеся хижины»: «Я не слишком люблю крапиву, репьи и бурьян… компания довольных, веселых поселян мне несравненно больше по сердцу, чем банда самых великолепных итальянских разбойников». В конце концов даже Марианна признает, что восхищение прелестью дикого, романтического пейзажа «превратилось в набор банальных слов. Все делают вид, будто понимают ее, и тщатся подражать вкусу и изяществу» Гилпина. Так в своем первом полновесном романе Джейн раскритиковала «чувствительность» и «живописность» – модные словечки 1790-х годов. «Элинор и Марианна» – плоть от плоти того времени, когда писался роман, и знание исторического фона делает его прочтение особенно увлекательным.
В 1794 году, вероятно в разгар работы над «Элинор и Марианной», в стивентонском пасторате произошло знаменательное событие. Оно показало, что писательство Джейн уже воспринималось как нечто гораздо более серьезное, чем просто «изыск». В декабре, на ее девятнадцатый день рождения, отец купил Джейн «маленькую настольную конторку красного дерева с длинным выдвижным ящиком и письменным прибором из стекла». В конторке было несколько отделений, запирающихся на ключ. Наклонная доска откидывалась, и под ней был устроен тайник. Это означало, что у Джейн появилось личное пространство, пусть небольшое, но принадлежавшее только ей, а не матери, не отцу и не сестре. Это был только первый шаг. Через год Джейн обрела отдельную комнату.
В «Чувстве и чувствительности» одним из величайших благ, которые Марианна ждет от брака с Уиллоби, является красивая комната:
«На втором этаже есть очаровательная гостиная, как раз такой величины, какая особенно удобна для постоянного пользования… Угловая комната, окна выходят на две стороны. За одними лужайка для игры в шары простирается до рощи на крутом склоне, за другими виднеются церковь, деревня…»
Это побуждает ее благоразумную сестру Элинор заметить, что, пока Марианна не помолвлена с Уиллоби и пока хозяин дома жив и не оставил ему наследство, ей не следует столь откровенно восхищаться его владениями. Поступая так, она слишком афиширует свои ожидания.
Джейн, выросшей в доме, полном мальчишек, было наверняка понятно желание обзавестись хорошенькой дамской гостиной. Мечта всех ее героинь – обрести счастье и «свое гнездышко», особенно свою гостиную, ту сцену, на которой по преимуществу протекает общественная жизнь. Например, Фанни Прайс в «Мэнсфилд-парке» робко жмется в мансарде, замирает на лестнице или в проеме окна, прежде чем набраться смелости и спуститься вниз, в гостиную, чтобы в конце концов даже пуститься там в пляс: «Едва ли хоть раз в жизни была она так близка к блаженству… она пошла по гостиной, выделывая разные па…» В истории Энн Эллиот из «Доводов рассудка» капитан Уэнтуорт впервые появляется в гостиной всего на несколько минут; с Энн он даже не заговаривает. Затем Энн видит его застывшим в молчании у окна. Только в финале романа он обозначает свое присутствие в комнате, когда пишет ей письмо, как будто в нем – вся его жизнь. И Энн, и Фанни постепенно приближаются к осуществлению своей мечты и в итоге становятся обладательницами собственных гостиных. Единственная героиня, не чувствующая необходимости прятаться по углам, – это великолепная Эмма Вудхаус, которая царит в своей гостиной и приглашает своего счастливого поклонника мистера Найтли разделить ее с ней.
В 1795 году в стивентонском существовании девятнадцатилетней Джейн произошло важное изменение к лучшему. Одна из спален над столовой была переделана в «своего рода гостиную» для «повзрослевших молодых леди». Эта комната, получившая название «гардеробной», сообщалась с «комнаткой поменьше», где Джейн с Кассандрой спали. Расширением своей территории они были обязаны отъезду братьев и отцовских учеников.
Ознакомиться с окружавшими Джейн предметами быта мы можем благодаря сохранившимся счетам, которые выставлял ее отцу мистер Джон Ринг, хозяин мебельного склада в ближайшем городке Бейзингстоке: его складские строения из красного кирпича стоят до сих пор. Перечень крупных и мелких вещей, составлявшийся конторщиком мистера Ринга и в течение длинной череды лет отправлявшийся в пасторат, кажется бесконечным – от «луженой жаровни» до «лаковой стойки для гренок» и «метелки красной кожи для ковров». Из той же амбарной книги мы узнаем об обстановке комнаты, в которой Джейн написала, по крайней мере начерно, три своих первых романа.
Счета мистера Ринга проливают свет на бытовую среду, в которой сестрам предстояло обитать до конца дней: простой, недорогой интерьер, украшенный маленькими, но высоко ценимыми изящными вещицами. Плативший за все мистер Остин экономил на чем только мог. Например, приобретая «большой уилтонский ковер» для одной из нижних комнат, он в придачу к нему купил «3 ковровых обрезка» для менее парадных помещений. У мистера Ринга имелись товары на самый взыскательный вкус, вроде роскошной мебели для аристократов, которых он охотно обслуживал в кредит. В то же время, когда Джеймс Остин стал в 1792 году обустраивать для молодой жены динский пасторат, мистер Ринг с радостью предоставил ему в пользование видавший виды диван.
«Я помню неброский ковер с шоколадным фоном, – впоследствии делилась воспоминаниями о новой комнате сестер их родственница, – большой крашеный шкаф с книжными полками наверху, стоявший у стены, смежной со спальней, и напротив камин; фортепиано тети Джейн». Шкаф мистер Остин заказал у мистера Ринга вместе с оконными шторами в голубую полоску (перешитыми из выстиранных старых), коричневой краской, голубыми обоями и светлым сосновым карнизом.
Но самые важные в комнате вещи («наиглавнейшие», по воспоминаниям племянницы Джейн) стояли «на столике между окон» под зеркалом. Это были «2 тонбриджские шкатулки для рукоделия овальной формы, оснащенные костяными бочонками, в которых хранились катушки с шелком, измерительные ленты и т. д.». Шкатулки для рукоделия говорят о том, что комната наверняка использовалась для шитья и украшения шляпок, о чем не раз упоминала в своих письмах Джейн.
В Винчестерском музее сегодня можно увидеть предмет, судя по всему хранившийся в шкатулке Джейн: изящный цилиндрический костяной футляр с буквами «JA» на крышке. Она держала в нем шелковые нитки. Рядом выставлен крошечный синий кошелек из бисера, который Джейн, по преданию, смастерила сама. Такие маленькие подарки ручной работы играли роль недорогих милых сувениров, предназначенных близким людям. Например, Джейн сшила и при расставании подарила своей подруге Мэри Ллойд маленький полотняный мешочек для иголок с запиской:
Коль скоро нас разлука ждет,
Послужит он вдвойне,
Как на мешочек взглянешь ты,
Так вспомнишь обо мне.
Я-рь 1792
Разлука подруг продлилась недолго – вскоре Мэри стала невесткой Джейн. Они продолжали тесно общаться до конца жизни Джейн.
Шкатулки для рукоделия, позволявшие дамам делать и дарить подарки, представлялись им полными сокровенного смысла. «Мне они казались восхитительными, – признается племянница сестер Остин Анна, – и именно такими они наверняка и были». Они также воплощали собой идеал приватности, как, впрочем, и комната для занятий рукоделием. Мужчин сюда не допускали; здесь женщины могли спокойно предаваться болтовне, не опасаясь быть подслушанными. «Очарование этой комнаты с ее скудной обстановкой и дешевыми обоями, – позже заметят историки, – скорее всего, заключалось… в возможности блеснуть друг перед другом остроумием, которое в семье высоко ценилось».
В соседней спальне стояли две кровати, купленные в предшествующем, 1794 году, отцом Кассандры и Джейн, опять-таки у мистера Ринга. До этого они, скорее всего, спали в одной постели, что в Георгианскую эпоху было обычным делом (особенно у слуг). Джейн, например, с удовольствием делила со своей подругой Мартой раскладную кровать, «вольготно расположившись на которой мы проболтали до двух и проспали всю оставшуюся ночь». Но больше всего Джейн любила ночевать с Кассандрой или в одиночестве. Однажды, находясь в гостях, Джейн в письме родным признавалась, что ей «приятно писать из собственной комнаты, к тому же такой удобной».
Мистер Ринг вел учет покупок в громадных, переплетенных в кожу гроссбухах с отдельным указателем, завернутым в кусок сизых узорчатых георгианских обоев. Вот откуда нам известно, что в 1794 году мистер Остин заказал для своих дочерей «2 кроватных каркаса на колесиках» с витыми стойками для навеса и «набалдашниками красного дерева». Каждая кровать обошлась ему в 1 фунт 4 шиллинга 0 пенсов – совсем недорого, хотя надо было еще докупить сорок два ярда хлопка в сине-белую клетку, шестьдесят девять ярдов сине-белой тесьмы и тик для наперников. С расходами на фурнитуру и шитье стоимость кроватей выросла до 21 фунта 1 шиллинга.
Историк Эдвард Копланд подчеркивает, что мистер Остин уложился в скромную сумму, соответствующую его положению. Если верить той же амбарной книге, более состоятельный покупатель, сэр Генри Полет Сент-Джон Майлдмей, приобрел похожую кровать, но «с наилучшим гусиным пером» и дорогими, посаженными на подкладку занавесями из белого канифаса за 25 фунтов 16 шиллингов и 10 пенсов. То есть кровать баронета стоила более 25 фунтов, в то время как кровати дочерей священника чуть больше 10 фунтов каждая. Примечательно, что мисс Мейнуорринг, школьная учительница, заплатила за свою кровать всего 1 фунт 5 шиллингов, и ей ни за что не пришлось доплачивать – ни за оборки, ни за полог, ни за любые другие аксессуары. Очевидно, что учительница могла себе позволить только подержанную мебель. Сам мистер Остин в целях экономии сдавал мистеру Рингу старую мебель в качестве частичной платы за новую. Например, за старую кровать ему скостили 1 фунт 18 шиллингов.
Подробным описанием гардеробной, этой святая святых сестер, мы обязаны их племяннице Анне, которая подолгу жила в Стивентоне и которую пора ввести в наше повествование. В мае 1795 года мать Анны, первая жена Джеймса Остина Энн, заболела в Дине. Джеймс вспоминал, как услышал странный стук во входную дверь, будто в дом просилась Смерть. Анна умерла, оставив Джеймса вдовцом с крохотной дочкой на руках. Маленькая Анна причиняла отцу такие невыносимые страдания, «постоянно спрашивая и беспокоясь о маме», что он отослал девочку в Стивентон, препоручив заботам тетушек Кассандры и Джейн.
Женившись вторым браком на Мэри Ллойд, подруге Джейн, Джеймс в каком-то смысле восстановил справедливость: когда-то Мэри с сестрой Мартой пришлось покинуть динский пасторат, где Джеймс поселился с первой женой. Вернувшись в свой старый дом полноправной хозяйкой, деятельная – порой чересчур деятельная – Мэри настояла на том, чтобы ее маленькое приданое пошло на уплату мужниных долгов. Она относилась к той категории женщин, которые искренне восторгаются, получив в подарок каток для глажки белья, – он доставлял ей не меньше радости, чем Джейн – розовые туфельки. Но с падчерицей Мэри при всех своих организаторских талантах поладить не сумела, и Анна продолжала подолгу жить в Стивентоне.
Анна была на семнадцать лет моложе Джейн, что не мешает ей оставаться важной свидетельницей повседневной жизни своей тетушки. В отличие от других членов семьи Анна в своих воспоминаниях не старалась ничего выдумывать или приукрашивать действительность. «Оглядываясь на те годы, – признавалась она позже, – я мало что вижу четко и ясно: все кажется теперь таким смутным!»
Итак, Анна была правдивой, но слишком юной, чтобы поведать нам, как создавался первый известный роман Джейн, написанный вскоре после того, как сестры перебрались в гардеробную. Но по счастью – и вопреки попыткам остальных Остинов сберечь семейную тайну, – сохранились источники, которые могут пролить на нее свет.
11
«Мой ирландский друг»
Она начала завивать волосы и подумывать о балах.
Нортенгерское аббатство
Мы можем только догадываться о том, что в 1795–1796 годах у Джейн был роман. Не в последнюю очередь в этом виноваты ее близкие, не желавшие, чтобы романтическая история их знаменитой родственницы стала достоянием гласности. «Полагаю, у меня нет нужды просить вас не ворошить эту старую историю», – пишет один из них.
Кроме того, нам трудно понять, что 200 лет назад люди многие вещи воспринимали совсем не так, как мы сегодня. У биографов Джейн обычно предстает современной женщиной, которая реагирует на события точно так же, как мы. Однако, пытаясь исследовать историю человеческих чувств – то, чем историки начали заниматься относительно недавно, – мы должны проявлять осторожность. Взять хотя бы любовь. Для Джейн влюбиться в мужчину было настоящим приключением – рискованным и требующим смелости. Несмотря на новаторские идеи Сэмюэла Ричардсона и других романистов, в окружении Джейн будущий брак оценивали прежде всего с прагматичной, в первую очередь финансовой точки зрения. О том, чтобы «прислушиваться к своему сердцу», как внушают нам сегодня, не могло идти и речи.
Тем не менее она влюбилась. О взглядах Джейн на ключевую роль любви в супружестве мы узнаем из ее позднейших наставлений юным племянницам. В 1814 году она писала своей племяннице Фанни, двадцати одного года, предостерегая ее от брака с первым попавшимся шалопаем. «Ты пока встречала слишком мало молодых людей, и следующие шесть-семь лет твоей жизни будут полны искушений», – писала она и делала вывод, что Фанни следует набраться терпения.
По ее мнению, именно в возрасте 21–28 лет «формируются сильнейшие привязанности». Ей самой как раз исполнился 21 год, когда в ее жизни появился человек, отношения с которым до сих пор интригуют ее читателей.
Насколько они были близки – Джейн и ее мимолетный возлюбленный? Многие биографы, горя желанием защитить ее от обвинений в холодности, утверждают, что она влюбилась в него без памяти и осталась с разбитым сердцем. Они приводят множество доказательств в пользу этой версии, но, к несчастью, не слишком убедительных. Дело в том, что Джейн, как всегда, шутила.
Рассказывая в этой главе историю Джейн и Тома, мы заодно попробуем понять, насколько глубоко нам дано проникнуть в душу Джейн.
В 1795 году Том Фаул был еще жив, и Кассандра собиралась за него замуж. Та же судьба должна была ожидать и Джейн – это разумелось само собой. Первым шагом к замужеству были балы. Впоследствии вымышленные меритонские дамы заявят на странице ее романа: «Кто интересуется танцами, тому ничего не стоит влюбиться». Джейн любила танцевать. На балах 1790-х хэмпширские дворяне, глядя на Джейн Остин, видели не серьезную писательницу, а «прелестнейшую дурочку, жеманную бабочку, приманивающую мужа».
В искусстве «приманки мужей» у «бабочки» была прекрасная наставница в лице кузины Элизы. «Пришли мне, – требовала Элиза, – полный и подробный отчет обо всех твоих ухажерах». О каждом поклоннике она желала знать, «высокий он или коротышка, белокурый или шатен, карие у него глаза или голубые?» Прочти эти строки сочинитель проповедей Джеймса Фордайса[31]31
Фордайс, Джеймс (1720–1796) – пресвитерианский священник, оставивший ряд трудов богословского и нравоучительного содержания. Особой известностью пользовались его «Наставления молодым девицам».
[Закрыть], с ним случился бы апоплексический удар. «Я знавал женщин чрезвычайно достойных, которые остались безмужними и прозябают в одиночестве по единственной причине, – сердито выговаривал он. – Они расточают свою обольстительность на всех знакомых мужчин без разбора». Джейн отнеслась к его сочинению без всякого пиетета, хоть и упомянула его в «Гордости и предубеждении» – правда, лишь для того, чтобы заставить Лидию Беннет отчаянно зевать над наставлениями богослова.
«Было двадцать танцев, – писала Джейн об одном бале, – и я танцевала все». По завершении бала каждый подвергался строгому анализу с точки зрения матримониальных перспектив: «Присутствовал 31 человек, из них – всего 11 дам, и только 5 незамужних». Хороший расклад. Джейн ухитрилась перетанцевать даже Элизу, которая в 1792 году жаловалась в письме из стивентонского пастората, что пропустила два бала, так как лежала в постели с «приступом лихорадки».
Этими двумя балами были «частный по соседству» со Стивентоном и «клубный в Бейзингстоке». Тон хэмпширскому танцевальному сезону задавали общественные балы в Бейзингстокской ратуше, которые проходили ежемесячно по четвергам. Семьи местных джентри преодолевали многие мили ради того, чтобы потанцевать, и иногда оставались у знакомых на ночь.
Бейзингстокские балы устраивала миссис Мартин, хозяйка гостиницы «Мейденхед». В газете «Рединг Меркьюри» печатались объявления примерно такого содержания: «Очередная ассамблея состоится в ратуше в четверг, января 22-го» (январский номер 1793 года). Балы «начинались ровно в девять часов» и были открыты как для подписчиков, так и для тех, кто желал заплатить более высокий разовый взнос. Это означало, что публика собиралась довольно разношерстная. Не зря одному амбициозному молодому человеку настоятельно советовали «не терять голову, танцуя с бейзингстокскими красавицами».
Праздничное возбуждение начиналось с одевания – «первых мгновений упоения балом». Как Джейн говорит в «Уотсонах», подъему куража очень способствовала женская солидарность. Незнакомые девушки, сведенные вместе дружбой семей или путешествием в одном экипаже, «прихорашивались бок о бок» и «неизбежно теснее знакомились». В книге рецептов семейства Остин есть инструкции по приготовлению туалетных средств, таких как лавандовая вода, коралловый зубной порошок и мыло для рук. Румяна считались вульгарными, поэтому их рекомендовали избегать, но Джейн была счастливой обладательницей естественного румянца. Участники бала, естественно, разряжались, как только могли: одна дама после бейзингстокского бала в 1773 году хватилась «БРИЛЛИАНТОВОЙ БРОШИ в форме розы, по-видимому оброненной в зале или на лестнице», и предлагала в награду вернувшему гинею.
Закончив приготовления, все обедали, а затем усаживались в экипаж и ехали к месту собрания – либо в ратушу, либо в частный дом, либо, как в «Уотсонах» и «Эмме», в гостиницу. В «Уотсонах» мы видим прибывающую на бал публику, опьяненную «суетой, гамом и сквозняками просторного коридора… первым чирканьем одного смычка», долетающим до них с верхней части «широкой лестницы».
В тех же «Уотсонах» Джейн раскрывает некоторые хитрости, к которым прибегали провинциальные посетители ассамблей, чтобы провести вечер с наибольшей пользой. Зрелая дама, одетая в «одно из двух атласных платьев, прослуживших весь зимний сезон», появлялась рано, «чтобы занять хорошее местечко у камина», а развязный молодой человек переминался в проходе, чтобы войти в залу вместе с единственным ожидавшимся аристократом, как будто они явились вместе.
Чтобы устроить бал, не требовалось очень много места; годилась просторная домашняя гостиная или общий зал в гостинице; любой обед легко переходил в импровизированные танцы, если кто-то из присутствующих умел играть на фортепиано. Длина комнаты была важнее ширины, яркий пример чему – бальная зала гостиницы «Дельфин», где Джейн танцевала в свой восемнадцатый день рождения. В четыре раза больше в длину, чем в ширину, зала прекрасно подходила для кантри-данса, в котором участники выстраивались в два длинных ряда друг напротив друга. Кантри-данс – вовсе не деревенский танец, как можно предположить, исходя из его названия: слово происходит от искаженного контрданс, или французский менуэт. Танцующие еще не обхватывали руками партнера, как в вальсе (который появится при Регентстве). Мужчина и женщина вышагивали навстречу друг другу, соприкасались ладонями и снова расходились. Все это выглядело как элегантная и величаво-сдержанная стилизация соблазнения.
Джейн «обожала танцевать, и делала это великолепно». Нет никаких свидетельств того, что она брала уроки у настоящего учителя танцев; скорее ее учили подруги – Мэри и Марта Ллойд, которых раз в неделю на целый день возили в танцевальную школу в Ньюбери. «Один урок проходил утром, второй – вечером, а после чая экипаж забирал их домой». Это была необходимая подготовка к той волнующей минуте, когда Мэри и Марта получат право «открывать ньюберийские ассамблеи менуэтом».
После танцев все садились за стол: бал был не бал без «присутствия джентльменов и изысканного ужина». Ужин часто начинался со знаменитого «белого супа» (мистер Бингли в «Гордости и предубеждении» считает его непременным атрибутом званого вечера). «Белый суп» ведет свое происхождение от французского блюда семнадцатого века «potage à la Reine»[32]32
Похлебка королевы (фр.).
[Закрыть] – земляных орехов, сваренных в бульоне. Проникнув в английскую кухню, в 1739 году он появился в поваренной книге Уильяма Веррола под названием «королевский суп». В конце века его главными ингредиентами по-прежнему оставались орехи и крепкий бульон, при желании – с добавлением сливок, яичного желтка, белого хлеба и анчоусов.
Джейн танцевала и в частных особняках, таких как Мэнидаун-парк или Дин-хаус, где балы устраивались в дни полнолуния, чтобы гости разъезжались не в темноте. «Был очаровательный вечер, – писала миссис Лефрой после одного раута в доме Остинов, – и, когда мы ехали через рощу, соловьи заливались во всю мочь». В тот вечер она была дома в одиннадцать, но из ее писем известно, что ей часто случалось задерживаться в гостях до двух, трех, а то и до шести часов утра.
В тот странный, тревожный период, когда Кассандра ждала свадьбы с Томом, Джейн на балу в Дин-хаусе познакомилась и танцевала с Томом. Затем они встретились на балу в Мэнидаун-парке и в эшском пасторате, и, судя по всему, она влюбилась в Томаса Ланглуа Лефроя.
Кем же был этот юноша, личность которого уже не первый век интригует исследователей творчества Джейн Остин? Ему, как и Джейн, едва исполнился двадцать один год (он был младше ее на три недели). Сохранился его портрет: крупный нос, выступающий вперед подбородок, доброе светлое лицо с темными глазами и бровями. Студент-правовед из Лимерика, он закончил Тринити-колледж в Дублине и приехал в Лондон продолжать учебу. Из-за Ирландского моря он привез с собой превосходную репутацию. «Ни один молодой человек не выходил из стен нашего колледжа с более высокой аттестацией, – писал его наставник в Тринити, – он для меня как сын или брат».
Все эти многочисленные достоинства были насущно необходимы Тому, понимавшему, что пробиваться в жизни ему будет непросто. Он был одним из одиннадцати отпрысков супружеской пары, вступившей в брак по легкомыслию. Его отец, Энтони Лефрой, потомок гугенотов, командовал в Ирландии драгунским полком. Там он влюбился в Энн, дочь ирландского сквайра, и тайно с ней обвенчался. Супруги мечтали о сыне, но первыми у них родились пять дочерей. Возможно, именно наличие у Тома пяти старших сестер натолкнуло Джейн на образ семейства Беннет в «Гордости и предубеждении».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?