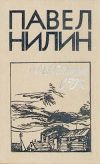Читать книгу "Жестокость в жизни и ужасы в искусстве"

Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Максимилиан Волошин
Жестокость в жизни и ужасы в искусстве
I
Из всех человеческих свойств – свойство самое таинственное и непонятное для людей впечатлительных и жалостливых – жестокость.
Сострадание не в состоянии принять самого факта существования жестокости, оно ничем не может объяснить себе ее возникновение в человеческом сердце.
Достоевский говорит устами Ивана Карамазова: «Выражаются иногда про „зверскую“ жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток. Тигр просто грызет, рвет и только это умеет. Ему и в голову не вошло бы прибивать людей за уши на ночь гвоздями (как делали турки с болгарами), если бы даже он и мог это сделать».
Ум совершенно другого склада и закала – Шопенгауэр, почти дословно повторяет Достоевского.
По поводу «Отчета Северо-Американского Противуневольнического Общества», представленного в 1840 году таковому же Британскому обществу в ответ на запрос об обращении с невольниками в рабовладельческих Штатах, он пишет:
«Эта книга представляет собою один из наиболее тяжелых обвинительных актов против человечества. Никто не выпустит ее из рук без ужаса и редко кто без слез. Книга эта, состоящая из сухих, но подлинных и документальных показаний, до такой степени возмущает всякое человеческое чувство, что возникает желание идти с нею в руках проповедовать крестовый поход для обуздания и наказания рабовладельцев. Ибо они позорное клеймо на всем человечестве… Свидетельства такого рода являются несомненно самыми черными страницами в уголовных актах человеческого рода».
Гобино назвал человека «Eanimal méchant par excellence» – самым злым из всех животных. И он был прав: ибо человек единственное животное, причиняющее другим страдания без всякой дальнейшей цели. Если тигра и обвиняют в том, что он губит больше, чем может съесть, то душит он с намерением все сожрать, а это объясняется тем, что «у него глаза больше желудка», как гласит своеобразный французский оборот.
«Ни одно животное никогда не мучит для того только, чтобы мучить, а человек это делает, чему и обязан своим дьявольским характером – злее зверского. Поэтому все животные инстинктивно боятся взора, даже следа человека – этого animal méchant par excellence».
Шопенгауэр обвиняет в иной плоскости, чем Достоевский, но их обвинения совпадают даже в формах выражения, даже в образах.
«Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя», – говорит Достоевский в одном месте.
Вы помните ту главу «Братьев Карамазовых», которая называется «Бунт»? Она начинается теми словами Ивана, что я привел вначале.
Поразительная, огромного смысла глава, в которой собраны все обиды жалости, уязвленной зрелищем человеческой жестокости.
«Я не Бога не принимаю, – говорит Иван, – я мира, им созданного, мира-то Божья не принимаю и не могу согласиться принять».
Он перечисляет Алеше все свои обиды против человека: грудных младенцев, замученных турками на глазах матерей, истязание маленьких детей своими родителями, когда отец для семилетней девочки готовит розги с сучками – «садче будет», а мать запирает ее на ночь в отхожее место, мальчика, затравленного собаками за то, что подбил ногу любимой генеральской гончей.
«Не стоит высшая гармония слезинки одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к „Боженьке“, – восклицает Иван, – не стоит, потому что слезки его остались неискупленными… Весь мир познания не стоит этих слезок… А если все страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет – пусть простит за себя, пусть простит мучительно материнское, безмерное страдание свое; но страдание своего растерзанного ребенка она не имеет права простить; не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил ему. А если так, если не смеют простить, где же гармония? Не хочу гармонии из-за любви к человечеству, не хочу. Хочу оставаться лучше со страданиями неотмщенными. Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему столько платить за вход. Не Бога я не принимаю, я только билет ему почтительнейше возвращаю».
Вот неприятие жестокости, доведенное до своих последних выводов. Речь Ивана звучит с неотвратимой и последовательной убедительностью. Если можно простить за себя, кто имеет право простить за мучение другого? Что можно противопоставить этому? Чем восполнить, чем удовлетворить эти обиды, причиненные самому священному из человеческих чувств – состраданию?
Чтобы найти ответ на эти вопросы, обратимся от следствий к причинам. Попробуем выяснить, из каких глубин человеческого сердца рождается это нечеловеческое, это дьявольское свойство – жестокость. Если нам удастся определить истоки и первопричины его, то, быть может, нам удастся понять и самый смысл жестокости в гармонии мира и в развитии человеческой души; быть может, нам удастся ответить на вопросы, поставленные Шопенгауэром и Иваном Карамазовым. Я не говорю – Достоевским, потому что Достоевский совершенно определенно отвечает на вопрос Ивана Карамазова устами старца Зосимы. Но об этом речь будет после.
Итак, нам необходимо разрешить вопрос: из каких движений человеческого сердца возникает жестокость?
Для того чтобы найти пути к разрешению его, обратимся к тому периоду жизни человека, когда все его чувства проявляются в формах наиболее чистых, интенсивных и космических – к детству.
В одной статье, озаглавленной «К психологии детских игр», напечатанной когда-то в педагогическом журнале «Русская школа» и принадлежащей перу известной теперь поэтессы Аделаиды Герцык, я нашел такую замечательную страницу:
«Долгое время мы любили игру в „пытки“. Как я уже говорила, всякое проявление жестокости неотразимо волнующе и привлекающе действовало на меня, несмотря на то, что я была мягкой, робкой по природе и чувствительной к малейшему страданию.
Я боялась пыток и переживала их с неиссякаемой фантазией. Толчком к этому послужила „Хижина дяди Тома“. Больше всего потрясло меня в этой книге описание истязаний, которым подвергали негров. Столб от „гигантских шагов“ превращался в нашем воображении в раскаленный железный шест; негров привязывали к веревкам и заносили высоко на воздух. Внизу земля была усеяна камнями, заостренными кверху, так что их ждала неминуемая гибель – или они сгорали, ударяясь о раскаленный столб, или, срываясь вниз, падали и разбивались об острые камни. Часами летали мы вокруг столба с висящей вниз головой, в самых мучительных, напряженных позах, искренно ударяясь о столб, падали на песок и лежали неподвижно, раскинувшись, окровавленные, пока воображаемые „истязатели“ не уносили нас и не приводили на смену новую партию негров. Напряженно замирали мы на одном впечатлении и не хотели легкой, быстрой сменой событий разряжать свое напряжение. Надо было успеть поверить, довести страдание до полной реальности».
Как вы видите, мы имеем дело с ребенком не совсем обыкновенным. Эта девочка одарена сильной и страстной фантазией, жадно хватающей явления реальности и мгновенно претворяющей их в игру. С другой стороны, она одарена преизбытком жалости; она мягка, робка по природе и чувствительна к малейшему страданию.
В ее руки попадает «Хижина дяди Тома», т. е. книга, облекшая в форму романа те же самые факты, что перечислены в «Отчете Северо-Американского Противуневольнического Общества», который Шопенгауэр называл, как мы видели, «одним из самых тяжелых обвинительных актов против человечества», и вызывавший в нем – в замкнутом, суровом, желчном, одиноком философе, желание идти с нею в руках «проповедовать крестовый поход».
В ребенке еще не родился тот Судия, который карает за нарушение морального закона. Он еще не знает, что такое возмездие. Жалость влечет его к описанию истязаний и заставляет мысленно обращать их против самого себя. В этой игре детей «в пытки» есть нечто безумно жестокое и надрывающее, но вместе с тем и глубоко чистое, еще незапятнанное. Палач и жертва слиты в одном лице.
Мы наблюдаем в этом рассказе, точно в чудесной реторте, те струи и токи, из которых, при первом же толчке жизни, возникнут определенные и четкие человеческие чувства и страсти. Какие?
Вернемся на минуту к «бунту» Ивана Карамазова. Иван кончает свой рассказ Алеше про мальчика, затравленного за то, что подбил камнем ногу любимой генеральской гончей.
«…Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть; ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть… „Гони его!“ – командует генерал; „беги! беги!“ – кричат ему псари; мальчик бежит… „Ату его!“ – вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил на глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!.. Генерала, кажется, в опеку взяли… Ну… что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка!
– Расстрелять! – тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкою, подняв взор на брата.
– Браво! – завопил Иван в каком-то восторге. – Уж коли ты сказал, значит… Ай да схимник!
– Я сказал нелепость, но…
– То-то и есть, что но… – кричал Иван. – Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит, и без них, быть может, в нем совсем ничего бы и не произошло».
Алеша Карамазов чистый мальчик, но уже не ребенок. Его чувства незапятнаны еще никакой страстью, но Меч Справедливости, делящий все сущее на добро и зло, уже выявил из хаоса ощущений и эмоций определенный ответ. Алеша потрясен глубочайшею жалостью.
И вот сострадание к замученному вырывает у него ответ: «Да, расстрелять, для удовлетворения нравственного чувства». Иван ждал этого ответа, он хотел его. Он знает, как жалость может внезапно превращаться в жестокость, как сострадание порождает жажду возмездия. Он хотел посмотреть, как в чистом, незлобивом Алеше произойдет эта подмена. Если уж и Алеша не удержался на лезвии, отделяющем жалость от жестокости, значит, нет возможности не переступить эту грань.
«На этой нелепости мир стоит», – восклицает Иван. Нелепость, потрясшая Ивана, в том, что жалость и жестокость – два лица одного и того же чувства. Кто сильнее пожалеет замученного, тот и пожелает более жестоко отмстить мучителю.
Вот где раскрывается тайна того, почему жалость не может понять, из каких тайников человеческого сердца возникает жестокость. Жалость просто-напросто не постигает собственной своей природы. Она видит собственное свое отражение в мире действенной справедливости и отшатывается в ужасе, как человек, увидавший своего двойника, не признавший его за себя, но почувствовавший прилив страха и отвращения.
Но вернемся к детской игре «в пытки». Она порождена переразвитием чувствительности, не выносящей малейшего страдания, соединенной с пылкой художественной фантазией. В данной игре вся жестокость обращена против самих себя. Игра жестока, но дети, в нее играющие, чисты, святы и невинны.
Но возьмите эти же самые элементы уже не в детском, а в отроческом возрасте. Как раз в таком моменте развития мы находим в «Братьях Карамазовых» Лизу Хохлакову. Она фантазерка и впечатлительна до истеричности. Она видит странные сны, которые сама называет смешными. Она видит себя ночью со свечкой, а во всех углах комнаты чертей, желающих ее схватить. И ей вдруг начинает ужасно хотеться бранить Бога. «Вот и начну бранить, а они-то вдруг всею толпою ко мне; так и обрадуются, вот уж и хватают меня, а я вдруг перекрещусь, – а они все назад. Ужасно весело, и дух замирает».
Этот сон близок по своему смыслу к игре в «пытки», хотя с примесью детского кощунства и жуткой проказливости. Глава называется «Бесенок».
Но дальше эта девочка рассказывает:
«Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене; прибил гвоздями и распял; а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро – через четыре часа. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть… Я про жида этого как прочла, так всю ночь тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет, а у меня все эта мысль про компот не отстает».
Вы замечаете, конечно, что и здесь идет развитие той же самой игры в «пытки»? И здесь – все от нестерпимой жалости к истязаемому. И ананасный компот придуман, чтобы еще жальче, еще нестерпимее было. И представляет себя Лиза не мертвой, не распятым ребеночком, а его истязателем только для того, чтобы было больнее, чтобы еще больше растравить ту рану, тот образ, от которого она тряслась в слезах всю ночь. Но лишь произошла перестановка истязаемого в истязателя, как лик жалости становится неуловимо ликом жестокости. Игра в пытки была безгрешная, а в фантазии Лизы уже есть преступность, грех, сладострастие жестокости. Недаром после этого рассказа она нарочно защемляет себе палец в двери и шепчет: «Подлая, подлая, подлая, подлая».
Перед нами выявлены уже все основные элементы того, что делает человека самым злым из всех зверей и придает его жестокости дьявольский характер – злее зверского. Перенесите такой характер, составленный из переразвитой чувствительности, жалости и фантазии, в суровую обстановку исторической действительности, дайте ему в руки власть над жизнью и смертью людей – и пред вами разгадка души большинства всемирно известных извергов, истязателей рода человеческого.
Душа Иоанна Грозного была составлена из этих самых элементов. Нервный и впечатлительный мальчик, в котором тяжелая кровь Рюриковичей была разбужена и окрыленена греческою кровью Палеологов и страстною литовскою кровью Глинских, прошел сквозь детство одинокое и мечтательное, изредка прерываемое кровавыми впечатлениями внешней жизни, врывавшейся в его детскую в виде бояр Шуйских, ищущих убить митрополита Иосифа. Одинокая мечтательность ребенка стала в жизни замкнутостью и подозрительностью. Горечь детских обид превратилась в идеологию царской власти. Болезненно повышенная впечатлительность привела к внезапным переходам от гордости к порывам страха и самоунижения. Детский ужас перед кровавыми сценами перешел в упоение жестокостью. Только исступленная чувствительности в соединении с романтической фантазией, может создавать такие характеры. Жизнь Иоанна, с ее дерзаниями дьявольской и кощунственной; жестокости, сменившейся покаянными молитвами, повторяет детский сон о чертях: начнет ли он кощунствовать – черти обрадуются и кинутся, неон перекрестится, и они отпрянут прочь. Ужасно заманчиво и дух замирает, как говорит Лиза Хохлакова. Он ведет эту игру и глубоко верит в нее. Признания, вырывающиеся у него, захватывают искренностью; тоски и своею задушевностью:
«Тело изнемогло. Болезнует дух, – пишет он в своей духовной. – Раны телесные и душевные умножились, и нет врача, который бы исцелил меня. Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого, утешающих? я не нашел, заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь».
Правдивости таких слов нельзя не верить. Чувствительность и жестокость – неразделимы.
Никто не может быть более жесток, чем люди сантиментальные. Прекрасным примером служит поколение, создавшее Великую французскую революцию. Ведь это было как раз поколение сантименталистов, это были те Вертеры, которые не застрелились от любви в 19 лет. А в 20 лет они стали членами Конвента. Вспомним, что Робеспьер, будучи коронным судьей в Аррасе, до Революции, подал в отставку, чтобы не подписать смертного приговора, что страшный Кутон был способен плакать над смертью канарейки, что Сен-Жюст писал чувствительные поэмы, что вся жизнь Марата была исступленным порывом жалости к народу, что Каррье, устраивавший Нантские Нуаяды, был охвачен судорожной любовью к народу, что даже сам Наполеон когда-то, в юности, помышлял о романтическом самоубийстве.
Жестокость Робеспьера и Марата принадлежит к иному роду жестокости, чем жестокость Иоанна Грозного. Если последняя для нас объясняется игрою «в пытки» и извращенными фантазиями Лизы Хохлаковой, то их жестокость всецело вытекает из того порыва, который заставил Алешу воскликнуть: «Да, расстрелять, для удовлетворения нравственного чувства».
Меч, которым казнят Робеспьер, Марат и Сен-Жюст, – это меч Справедливости.
Анатоль Франс в предисловии к своему роману «Les Opinions de M. Jérôme Coignard» дает такое прекрасное определение этому типу жестокости:
«Робеспьер был оптимистом, веровавшим в добродетель. Государственные люди, обладающие такого рода характером, приносят всевозможное зло. Те, кто берется управлять людьми, не должны никогда забывать, что имеют дело с выродившимися обезьянами. Только при этом условии политический деятель может стать человечным и снисходительным. Безумие Революции было в том, что она хотела установить добродетель на земле. Те, кто хочет сделать людей добрыми и мудрыми, свободными, умеренными и благородными, роковым образом приходят к желанию истребить всех. Робеспьер верил в добродетель: он создал террор. Марат верил в справедливость: он требовал двухсот тысяч голов».
Анатоль Франс совершенно прав: политический деятель, одаренный умом холодным, скептическим и чуждым чувству жалости, может и будет совершать жестокости и убийства, но они будут насилием чисто утилитарного характера, не выходящим за пределы психологии простого хищника, который убивает столько, сколько может съесть, но не больше. Дьявольский характер жестокость приобретает лишь с того момента, когда в дело замешивается, с одной стороны, чувствительность, с другой – справедливость, и оба эти чувства начинают разрастаться на почве романтического воображения.
Вне воображения, вне фантазии – не существует дьявольской жестокости. В своем простом и чистом виде, когда действие следует немедленно за чувством, возмездие может быть прекрасно и свято. Владимир Соловьев в «Трех разговорах» дает великолепный пример святости чистого действия. Рассказывает старый боевой генерал, который сам себя рекомендует в нравственном отношении человеком средним, об одном случае своей жизни, когда у него, он наверно это знает, не было никаких сомнительных побуждений, а владела только добрая сила.
«Единственный раз в жизни испытал я полное нравственное удовлетворение и даже в некотором роде экстаз, так что и действовал я тут без всяких размышлений и колебаний. И осталось это доброе дело самым чистым, самым лучшим моим воспоминанием. А было это мое единственное доброе дело – убийством, и убийством не малым, ибо убил я тогда в какие-нибудь четверть часа гораздо больше тысячи человек».
На вопрос собеседников генерал рассказывает, как он с разведочным отрядом, во время турецкой войны, наткнулся на «башибузукскую кухню» – вырезанное армянское село. «Уже всех подробностей рассказывать не стану. Женщина к тележной оси привязана, лежит не обожженная и не ободранная, а только с искривленным лицом – явно от ужаса померла, а перед нею шест в землю вбит, а на нем младенец голый привязан, сын наверно, с выкатившимися глазами, почерневший, а рядом решетка с потухшими углями валяется. Тут на меня сначала какая-то тоска смертельная нашла, на мир Божий смотреть противно. Действую машинально». Затем рассказ идет о том, как ему удалось нагнать башибузуков прежде, чем они успели вырезать другое село, и искрошить, как капусту. «Кончилось дело, а у меня в душе светлое Христово Воскресение… Тишина какая-то и легкость непостижимая, точно с меня вся нечистота житейская смыта, чувствую Бога, да и только. Так чиста моя совесть в этом деле, что я и теперь иногда от всей души жалею, что не умер после того, как скомандовал последний залп. И тут-то почувствовал я, что взаправду есть христолюбивое воинство и что война, как была, так и есть и будет до конца мира великим, честным и святым Делом».
Владимир Соловьев дает прекрасный пример, что получается, когда на место чувствительности ставится чувство и на место мечты – действие. В самом факте действия уже таятся очистительные силы. Действие не знает жалости. Человек безжалостный не может принести и сотой доли того зла, на которое способен человек, одаренный страшным даром жалости и воображения.
«Я несу не мир, а меч!» – сказало христианство. Этот меч справедливости, данный христианством в руки каждого человека, рисуется символически в виде того меча «Коллады», который принадлежал Сиду Кампеадору.[1]1
В оригинале ошибочно: Каликадору.
[Закрыть] На его клинке с одной стороны было высечено: Si! Si! а с другой: No! No! Да! Да! – Нет! Нет!
Вот осязательный образ того бесконечно важного морального процесса, которому была подвергнута душа человека в реторте исторического христианства.
Оно дало каждому человеку свободу, свободу страшную и неотвратимую, рассечь все сущее на да и нет, на добро и зло, выявить свет и тень, черное и белое, святость и грех. Идея Справедливости была самым страшным реактивом, действию которого была подвергнута душа человека на всем пространстве всемирной истории.
Если оглянуть единым взглядом историю человека, то состояние души дохристианского человечества напомнит смутные токи и невыявленность детской «игры в пытки», где лики сострадания и жестокости нераздельно слиты в довременном хаосе.
Христианство отделяет сушу от воды, кладет такую грань между жестокостью и жалостью, что оба эти чувства, единые в своем корне, отныне перестают узнавать друг друга.
Везде, где раньше было единство, христианство выявляет два конечных, два несовместимых противоречия. Оно проводит дух европейских народов сквозь горнило огненных антиномий.
Развитие исторического христианства представляет собою ряд вопиющих противоречий с основным духом христианской любви и кротости. Но именно в этих противоречиях и выражена с наибольшей полнотой тайная работа христианской идеи в глубине человеческой души.
Идея справедливости работает в сознании человечества как очень сильный яд, вызывающий страшные судороги, приводящий в исступление, убивающий, но в конце концов долженствующий окончательно переродить и чувство, и дух человека для новых форм жизни. В жестокостях инквизиции, в судах над ведьмами, в истреблениях еретиков, в террорах революций надо искать указаний на пути, которыми идет действие этого яда.
Но выяснение этих путей не входит в пределы моей беседы. Для нас теперь важнее ответить на вопрос:
К каким формам должно привести перерождение души человека и как примирятся да и нет, жестокость и жалость, когда процесс усвоения яда будет окончен?
Основное свойство антиномий, то есть таких двух взаимно противоположных истин, к которым приходит ум в последнем итоге, в том, что они логически непримиримы. Если одна говорит Да, то другая говорит Нет.
Поэтому они неволят человеческий дух подняться на высоту иного плана, иного сознания. То, что кажется взаимно непримиримым на плоскости, оказывается только двумя гранями, определяющими ее форму, когда мы поднимемся на высоту.
Антиномии невыносимостью своих противоречий заставляют человека стать выше самого себя, призывают к бытию те божественные свойства, о существовании которых он не подозревал в себе.
Поэтому все Евангельские истины даны в форме непримиримых противоречий.
Ежели на одной странице Евангелия сказано: «чти отца своего и матерь свою», то на соседней странице будет стоять: «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее».
Если сказано: «взявший меч от меча и погибнет», то рядом будет: «не мир пришел Я принести, а меч», и т. д. Все основные моральные требования разделены на два конечных противоречия. Евангелие открывает безграничную личную свободу и заставляет каждого идти своим путем собственным, который никогда не совпадает и не сможет совпасть с путем другого человека. Чтобы удовлетворить обоим противоположным требованиям, человек должен расширить и возвысить свое Я до такой высоты, чтобы вместить обе грани истины. Давая полную свободу выявлению индивидуальности, христианство в то же время неволит дух преодолеть ее и выйти из тюрьмы ее.
Кто захочет сохранить свою душу, тот погубит, кто не пожалеет ее, тот спасет.
Только там, где внутренние протяжения совести становятся безысходными, человек может быть уверен, что он стоит на верном пути.
Полный и ясный ответ на вопрос об антиномиях жалости и жестокости, справедливости и отмщения влагает Достоевский в уста старца Зосимы. Каждый должен расширить свое Я до пределов всего мира, каждый должен взять мир на свою личную ответственность, потому что:
«Каждый пред всеми за все и за всех виноват».
В этом чувстве личной своей вины без остатка сгорает голод возмездия.
«Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью необоримой, даже до желания отмщения злодеям, то более всего страшись сего чувства; тотчас же иди и ищи себе мук, как если бы сам был виновен в сем злодействе людей».
А вот завет Судии, в руках которого меч Справедливости теряет свое жало:
«Помни особенно, что не можешь ничьим судьею быть. Ибо не может быть на земле судия преступника, прежде чем сам сей судия не познает, что он такой же преступник, как и стоящий перед ним, и что он-то за преступление стоящего перед ним, может, прежде всех и виноват. Когда же постигнет сие, то может стать и судией».
Соблазнительные и диаболические свойства и последствия чувствительности, жалости, сострадания – выясняются.
Жалость не полное чувство, действенное и самосветящееся собственным светом. Она одно из человеческих получувств, непрозрачных по сей природе и потому отбрасывающее на земле тень, являющуюся противочувством – жестокостью.
Как только жалость будет просветлена до своей истинной сущности – Любви, так все земные негативные тени погасают в ней.
Негодованию Шопенгауэра и мировым обидам Ивана Карамазов не остается места в этом последнем завете старца Зосимы:
«Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои. Исстуления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий, да не многим дается, а избранным».