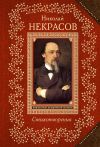Текст книги "Осколки голограммы"

Автор книги: Мария Данилевская
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Любовная лирика Н. А. Некрасова: черновые редакции, незавершенные и неопубликованные произведения
Предлагаемый анализ нескольких лирических произведений Некрасова, посвященных теме любви, продолжает исследование его индивидуальной поэтики. Сопоставительный анализ поэмы «Тишина» с «Панаевским циклом»[177]177
Подробнее см. выше: «Панаевский цикл» и поэма «Тишина» Н. А. Некрасова. С. 121–134.
[Закрыть] убеждает, что, наряду с глубоко личным переживанием трагедии Крымской войны, Некрасов пережил и трагедию интимного свойства, связанную с угрозой жизни, утратой близких людей и доброго имени. Эта трагедия сопоставима для него с национальной трагедией, и в результате катарсиса он встает на позицию смирения: «За личным счастьем не гонись ⁄ И Богу уступай – не споря…» (IV: 55–56).
С развитием любовной темы в творчестве Некрасова оказывается связанным лиро-эпическое произведение, в котором отсутствует лирическая героиня, но заявлена катастрофа. Этот вывод, наряду с традициями физиологического очерка, свидетельствует о наличии сюжетности и фабульности, хотя бы минимальной, в развитии темы интимного чувства. Само понятие цикла, достаточно распространенное для жанра рассказов и очерков (а также публицистических, критических и научно-популярных статей), указывает на жанровый контекст «Панаевского цикла».
Однако напрашивается уточнение: может быть, не столько ряда лирических стихотворений Некрасова, сколько литературоведческой интерпретации их как цикла. Шаткость и условность признаков, объединяющих группу лирических произведений в «Панаевский цикл»[178]178
Об условности цикла (в данном случае не авторского, а последующего литературоведческого объединения ряда текстов) и спорности принятых на сегодняшний день датировок входящих в него стихотворений см.: Софийская [Данилевская]М. Ю. Некрасововедческий семинар. Москва (МГУ, РГГУ) – Санкт-Петербург (Пушкинский Дом) // Русская литература. 2011. № 3. С. 238–239.
[Закрыть], дает возможность не сузить его состав, а напротив, расширить число произведений Некрасова, развивающих тему любви как личного чувства и опыта.
Вместе с тем обращение к незавершенным стихотворениям и к произведениям, которые Некрасов оставил неопубликованными, включая черновые наброски, позволило автору данной статьи проследить движение поэтической мысли, поиск формы, семантический отбор, совершаемый по мере написания стихотворения.
Сквозное прочтение лирики Некрасова (здесь ограничимся ею) и объединение текстов по тематическому признаку позволяют говорить о сорока или немногим более произведениях, в которых речь идет о любви как индивидуальном, пережитом в личном опыте чувстве. Избранная нами выборка существенно меньше. Анализ черновых редакций стихотворений, рукописи которых дошли до нас, незавершенных произведений и стихов, не опубликованных при жизни автора, – это осмысление отчасти характера развития темы любви в лирике Некрасова, но главным образом – индивидуальной его поэтики.
* * *
Следуя хронологии, рассмотрим первым стихотворение «Зачем насмешливо ревнуешь…» (1855). Оно было опубликовано в 1938 г. по беловому автографу, хранящемуся в РГБ[179]179
См. подробнее: I: 629.
[Закрыть]. Стихотворение начинается с обращения к возлюбленной:
Зачем насмешливо ревнуешь,
Зачем, быть может, негодуешь,
Что Музу темную мою
Я прославляю и пою?
(I: 157)
Далее поэт, также обращаясь к возлюбленной, повествует о ее трудной судьбе и противоречивом характере: после тяжелых жизненных испытаний она, способная глубоко чувствовать, желающая любить и прощать, презирает и ненавидит людей. Стихотворение завершает сравнение возлюбленной с Музой:
Не дикий гнев, не жажда мщенья
В душе скорбящей разлита —
Святое слово всепрощенья
Лепечут слабые уста.
Так, помню, истощив напрасно
Все буйство скорби и страстей,
Смирялась кротко и прекрасно
Вдруг Муза юности моей:
Слезой увлажнены ланиты,
Глаза поникнуты к земле,
И свежим тернием увитый
Венец страданья на челе…
(1:158)
В возлюбленной, к которой обращен лирический монолог, легко узнается А. Я. Панаева. Она как адресатка указана и в комментарии А. М. Гаркави, упоминающего в связи с рассказом о тяжелой жизни героини повесть Панаевой (Н. Станицкого) «Семейство Тальниковых» (I: 629).
Закономерен вопрос, почему стихотворение не вошло в знаменитый сборник 1856 г., а позднее – в прижизненные поэтические издания. В качестве рабочего предположения напрашивается то, что это произведение чересчур «прозрачно», жизнь и нрав лирической героини слишком слиты с биографической почвой. Данное предположение выглядит правдоподобным. Но правдоподобия биографических совпадений недостаточно.
Фрагментарно процитированное стихотворение ближайшим образом связывается с двумя другими, тоже написанными в 1855 г.: «Замолкни, муза мести и печали!» и «Праздник жизни – молодости годы…» Анализ их[180]180
Подробнее см. ниже: Поэтическая формула «любить и ненавидеть» у Некрасова. С. 172–194.
[Закрыть] показывает, как в ходе работы над стихотворением поэт, развивая тему любви, отходит от ее поэтической интерпретации как чувства интимного, мужского, обращенного к женщине, и сближает любовь с ее духовным, евангельским смыслом, своеобразно преломленным в образе поэта, который обретает контекстуальный параллелизм с Творцом. Не углубляясь в литературные традиции, остановимся на принципиальном акценте. Некрасов в обоих случаях наделяет Музу и Певца (Поэта, Стих) такими качествами, как любовь, прощение, смирение, бессмертие. Но одновременно разводит любовь смертного к смертной – и любовь человека, осознавшего близость смерти и категорию бессмертного. В этом отношении некрасовские стихи ближе всего отвечают христианским дефинициям: тело – душа – дух. Столь неожиданный для литературного окружения поворот темы вызвал неодобрение пристрастных читателей, принимавших живейшее участие в больном и переживавшем душевную трагедию поэте[181]181
В письме к И. С. Тургеневу Боткин пишет о стихотворении «Праздник жизни – молодости годы…» (1855): «Некрасов последнюю строфу своего прекрасного стихотворения “К своим стихам”, с которого я взял у тебя список – переменил. Вышла дидактика, к которой он стал так склоняться теперь. Я разумею последнюю строфу, начинающуюся: “Та любовь etc”… Или ему стало совестно перед Авдотьей? Не понимаю» (Переписка И. С. Тургенева. Т. 1. С. 360. Письмо В. П. Боткина от 5 (17) августа 1855 г.) Ср. в его же письме к Тургеневу от 10,14 (22, 26) июля 1855 г.: «Я не люблю дидактических стихотворений Некрасова» (Там же. С. 356).
[Закрыть]. Женское страдание останется одной из центральных тем в поэзии Некрасова (его знаковость очевидна даже из хрестоматийного: «И Музе я сказал: “Гляди! ⁄ Сестра твоя родная!“»; I: 69). Но в неопубликованном стихотворении явственна мысль о женской ревности возлюбленной к самодостаточности поэта, к другому источнику его вдохновения:
Не знаю я тесней союза,
Сходней желаний и страстей,
С тобой, моя вторая Муза,
У Музы юности моей!
(I: 157)
В последующем описании «Музы темной моей», «Музы юности моей», ее «страданья и борьбы», «кровавых слез», «суровых бурь», затем «венце страданья на челе» угадываются черты того женского мученичества, воплощением которого стал образ матери. Образ возлюбленной в неопубликованном стихотворении предстает дробным. Ее мученичество станет темой стихотворения «Тяжелый крест достался ей на долю…» (1855)[182]182
О споре по поводу датировки см.: I: 631. Отметим, что, как указывает А. М. Гаркави, «С. И. Пономарев считал, что в стихотворении речь идет о матери Некрасова», с чем был не согласен Н. Г. Чернышевский (Там же).
[Закрыть]. Мотив насмешки («насмешливо ревнуешь») вызывает в памяти первую строку стихотворения «Я не люблю иронии твоей…» (1850,1: 75). Мотив страдания, претворенного в любовь, понимание любви как работы духа и творчества, как представляется, и были той центральной мыслью поэтического произведения, которая воплотилась в «Замолкни, муза мести и печали!» и «Праздник жизни – молодости годы…»
Вернемся к простому для понимания объяснению: Некрасов оставил стихотворение неопубликованным, так как оно чересчур «прозрачно» для знавших его биографию. Возражать здесь нечему. Но объяснение кроется глубже – в поэтике произведения. Та мысль, которая просила поэтического развития, заключалась не в портретировании, не в характеристике близкой женщины, вызвавшей сильные чувства, не в художественном отражении чувства ревности, а в слитости не только душевной, но духовной работы творчества и «великого дела любви» (II: 138), как сформулирует Некрасов позднее[183]183
«Рыцарь на час» (1862).
[Закрыть].
Обратимся к другому не публиковавшемуся при жизни Некрасова тексту – «Ты меня отослала далеко…» (1855)[184]184
Впервые опубликовано: Современник, 1861, № 1. В «Стихотворениях Н. А. Некрасова» (посмертное изд.; СПб., 1879. Т. I–IV) датировано «1855» («видимо, по указанию автора», как утверждает автор комментария; I: 639).
[Закрыть]:
Ты меня отослала далеко
От себя – говорила мне ты,
Что я буду спокоен глубоко,
Убежав городской суеты.
Это, друг мой, пустая химера —
И как поздно я понял ее.
Друг, во мне поколеблена вера
В благородное сердце твое
(1:173)
Произведение увидело свет в Полном собрании стихотворений 1934–1937 гг., где было опубликовано по автографу РГБ; это был карандашный набросок, зачеркнутый поэтом (I: 634).
По всей видимости, стихотворение было написано по впечатлениям от очередной попытки разрыва Некрасова и А. Я. Панаевой, когда больной поэт уехал на дачу к В. П. Боткину. Первое рабочее предположение – что это стихотворение, как и предыдущее, осталось неопубликованным потому, что для непосредственного восприятия оно выглядит слишком «слепленным» с событием, о котором легко догадаться. Оно почти фотографично, почти хроникально.
Однако у Некрасова есть целый ряд автобиографических произведений: «Поражена потерей невозвратной…» (1847, 1:68), «Я не люблю иронии твоей…» (1850,1:75), «Мы с тобой бестолковые люди…» (1851,1: 94) и др. Все эти произведения были опубликованы – и побуждение пощадить чье бы то ни было самолюбие автора не остановило. Более того, «Где твое личико смуглое…» (1855) было опубликовано в 1861 г., когда «любовный треугольник» еще существовал, отношения с Панаевой уже стали холоднее и отчужденнее[185]185
Некрасов писал Н. А. Добролюбову 18 июля 1860 г.: «Я очень чувствителен. Она не жалела меня любящего и умирающего, а мне ее жаль <…>
Я уж четвертый год все решаюсь, а сознание, что не должно нам вместе жить, когда тянет меня к другим женщинам, во мне постоянно говорило» (XIV: 139).
[Закрыть], а попытки разрыва, известные в литературных и окололитературных кругах, имели другую окраску[186]186
Н. Г. Чернышевский 2 августа 1860 г. писал Н. А. Добролюбову о Некрасове: «Хотя виноват скорее он, нежели кто другой, но все-таки отчасти жаль и его. Впрочем, бывают минуты, когда <…> думаешь: прилично ли человеку в его лета возбуждать в женщине, которая была ему некогда дорога, чувство ревности шалостями и связишками, приличными какому-нибудь конно-гвардейскому корнету?» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 16 т. М., 1953. Т. 16. С. 401–402).
[Закрыть]. Поэтому, повторим, гипотетическая реконструкция ситуации вокруг написания текста и его публикации до некоторой степени объясняет перипетии личных отношений, но не поэтику любовной лирики. Текст сам по себе гораздо показательнее.
Ритмически, фонетически, психологически стихотворение завершено. Основным художественным приемом в нем, на наш взгляд, является обновление метафоры. «Ты меня отослала далеко от себя», «убежав городской суеты» – несмотря на архаичную форму, это выражение точно по смыслу. «Это, друг мой, пустая химера», «Друг, во мне поколеблена вера…» – каждая из фраз апеллирует к буквальному пониманию прямого значения слов, и именно совокупность этих прямых значений в их развитии и приводит к переживанию высокой степени трагизма. Влюбленный в разлуке осознает неискренность своей возлюбленной и ее неблагородные мотивы. Не проговоренной вслух остается его близость к смерти. Снимая метафорику, обнажая прямой смысл общедоступных понятий, Некрасов добивается, на первый взгляд, предельной прозаизации текста, в то же время – концентрации смысла, который ассоциируется именно с высокой трагедией: в стихотворении актуализированы такие понятия, как благородство и вера. Но в этой минималистской простоте, в доминанте приема обновления метафоры, апелляции к прямому смыслу слова нет того движения смыслов, заложенных в тропе, какой мы видим в других произведениях Некрасова, например в оппозиции «любить и ненавидеть», в образе смерти, в пейзаже, контекстуально синонимичном душевному состоянию лирического героя.
Ближайшим к этому стихотворению представляется «Где твое личико смуглое…»:
Помнишь, тебе особливо
Нравились зубы мои;
Как любовалась ты ими,
Как цаловала, любя!
Но и зубами моими
Не удержал я тебя…
(I: 183)
В заключительных строках этого стихотворения также обновлена метафора «держать зубами», выражающая последнюю степень усилия. «Где твое личико смуглое…» – лирическое стихотворение, обращенное к возлюбленной, развивающее тему утраты. «Ты меня отослала далеко…» – стихотворение, внешне обращенное к возлюбленной, но развивающее мысль, характерную для трагедии. Однако если в «Тишине» лирический герой, пережив трагедию, в результате катарсиса приходит к смирению и благодарности как гармонии с Богом и родиной (вспомним первые строки: «Спасибо, сторона родная…»; IV: 51), то в «Ты меня отослала далеко…» собственная утрата веры звучит как обвинительное обращение к смертной, не претворяясь ни в иное душевное качество, ни в творческую мысль. И, возвращаясь к причинам, почему стихотворение долго ожидало публикации, в качестве рабочего предположения выдвинем следующее: возможно, этот результат творческого поиска не вполне удовлетворял автора, порождал в нем некие сомнения.
Еще одно стихотворение, оставшееся неопубликованным при жизни Некрасова, было написано предположительно в 1855–1856 гг. (II: 339):
Не гордись, что в цветущие лета,
В пору лучшей своей красоты
Обольщения модного света
И оковы отринула ты,
Что, лишь наглостью жалкой богаты,
В то кипучее время страстей
Не добились бездушные фаты
Даже доброй улыбки твоей, —
В этом больше судьба виновата,
Чем твоя неприступность, поверь,
И на шею повеситься рада
Ты <нрзб> будешь теперь
(II: 17)
Рукопись этого стихотворения хранится в РГБ[187]187
ОР РГБ. Ф. 195. Оп. 3 Д. 14. Л. 14.
[Закрыть]. Стихотворение записано посередине страницы и зачеркнуто крест-накрест наподобие буквы «X» с петлеобразным соединением в верхней части. Катрены следуют с отбивкой. Авторская правка незначительна и указана в ПСС. Нас, однако, более интересует неразобранное слово, обозначенное так и в публикуемом тексте, и в «Редакциях и вариантах».
Второй катрен, вторая строка:
В то кипучее время страстей
а) В тот период кипучих страстей
Третий катрен, последняя строка:
Ты I – будешь теперь
а) Ты I – станешь теперь.
Символ напоминает заглавную букву I или L латинского алфавита.
В этом стихотворении автобиографическая подоплека тоже очевидна. Латинская буква замещает четырехсложное имя или фамилию, стоящую в дательном падеже. Первой напрашивается фамилия Панаева («Ты Панаеву будешь теперь»). По количеству слогов подходит и фамилия Некрасова, но для поэта нехарактерно употребление своего имени в третьем лице[188]188
Декларативное ведение поэтической речи от первого лица видим в стихотворении «Чуть-чуть не говоря: “Ты сущая ничтожность!”…» (I: 156).
[Закрыть]. Далее такого предположения идти мы не можем за неимением фактов, но это представляется достаточно весомым. «Оскорбленная» жена после разрыва с гражданским мужем возвращается к роли супруги в единобрачии. И в этом случае более информативен анализ поэтики, нежели реалий. Мы видим, как минимальна правка. Эпитеты в этом стихотворении есть, и они достаточно экспрессивны («кипучее время», «наглостью жалкой», «бездушные фаты»). Но они риторичны, поскольку оценочны и не подразумевают никакого переосмысления определяемого ими предмета. Основной смысл заключен не в эпитетах (прилагательных и причастиях), а в предмете и действии, существительных и глаголах, грамматических основах побудительных и повествовательных предложений: «не гордись», «поверь», «ты отринула», «они не добились», «судьба виновата», не «твоя неприступность»; «ты будешь рада повеситься на шею» некому человеку. Сравним с художественными приемами в неопубликованном стихотворении, впервые напечатанном в Собрании 1934–1937 гг. (II: 340):
Кто долго так способен был
Прощать, не понимать, не видеть,
Тот, верно, глубоко любил,
Но глубже будет ненавидеть…
(11:20)
– а также в стихотворении «Слезы и нервы», написанном в 1861 г. и опубликованном в «Новом времени» 25 апреля 1876 г.:
…Боже мой!
Зачем не мог я прежде видеть?
Ее не стоило любить,
Ее не стоит ненавидеть…
О ней не стоит говорить…
(II: 129)
В качестве исключения можно привести слова рассыльного Миная: «Все ношу к Николай Алексеичу, – ⁄ На Литейной живет» (II: 181), но это – слова персонажа, а не лирического героя.
Из художественных средств здесь вводятся фигуры усиления: «долго так» (обстоятельство меры и степени), «прощать, не понимать, не видеть» (градация силы слепой любви).
Оценочность, заложенная в эпитетах, придает прямому смыслу смысл прямолинейный, почти резонерский. В «Кто долго так способен был…» мысль движется от «любить» к «ненавидеть», являя переход к противоположности; аналогично – в «Слезах и нервах». Чувство изживает себя, переходя то в противоположность любви (ненависть), то в противоположность чувству («В лице своем читает скуку…» (II: 130). И это изживание предстает финалом. А между тем именно диалектичность любви и ненависти для поэта выразится позднее в знаменитом финале его знаменитых «Трех элегий»:
Зачем же ты в душе неистребима,
Мечта любви, не знающей конца..
Усни… умри!..
(III: 130)
Возможно, для поэта была немаловажной прозрачность намека на зашифрованное лицо; но основной причиной, как представляется, был результат творческого поиска в области воплощения мысли. В этих случаях он мог не удовлетворить поэта.
* * *
Проанализируем стихотворение 1877 г., опубликованное в 1923 г. (III: 499):
Так умереть? – ты мне сказала.
Я отвечал надменно: да!
Не знал я той, что мне внимала,
Не знал души твоей тогда
(1877; 111:226)
В этом стихотворении внятно выражен драматизм: вопрос о смерти к возлюбленному; его утвердительный ответ; его надменность по отношению к той, которая желает смерти; ее зависимость (она ему «внимала»); его позднее прозрение, усиленное повтором с градацией: он не знал ее, он не знал ее души: в нем совершился переход от надменности к узнаванию ее души.
Это стихотворение, как и предыдущее из проанализированных, замкнуто. Мысль, изложенная в нем, могла бы быть расширена за счет пояснения, но она может удовлетворить в существующем резюмирующем виде. Правомерно предполагать, что и в этом случае мысль, не тяготеющая к расширению, стала причиной, почему стихотворение не было отдано в печать.
Заметим при этом, что адресаткой и рассматриваемого стихотворения 1877 г, несомненно, выступает Авдотья Панаева. И это обстоятельство дополнительно выявляет условность литературоведческого объединения в «Панаевский цикл» по принципу единства адресации группы стихотворений 1850-х гг.
То же можно сказать и об одном из последних текстов Некрасова, опубликованном после его смерти. Стихотворение содержится в дневниковой записи поэта, сделанной 14 июня 1877 г.:
Он не был злобен и коварен,
Но был мучительно ревнив,
Но был в любви неблагодарен
И к дружбе нерадив
(III: 207)
Это стихотворение, к слову сказать, развивающее темы любви и ревности, неблагодарности и коварства, столь же «свернуто» по мысли. Поэтическая автоэпитафия Некрасова (в том числе мужчины, знавшего любовь) – резюме, которое, при формальном наличии антитезы, не подразумевает раскрытия мысли через антитезис.
Анализ ряда стихотворений Некрасова, не предназначенных им для публикации, и обращение к рукописям этих произведений, как представляется, дают основание усматривать основную причину нежелания их печатать не в излишнем автобиографизме, и не в их «недоделанности», и даже не в их неудачном исполнении, а в той системе отбора, которая опиралась на поиск художественной формы, в данном случае – обманчиво простой.
Образы воды в любовной лирике Н. А. Некрасова
Есть несколько закрепившихся общих мест о поэзии Н. А. Некрасова и образной системе его лирики.
Первое из них – о сугубо реалистическом, иногда «дагеротипном», «натуральном» изображении действительности. Следовательно, говоря об образах воды, читатель и исследователь вправе предполагать, что в поэзии Некрасова запечатлены реальные водоемы его реального и почти конгруэнтного ему поэтического мира. В первую очередь – Волга, образ которой сразу вызывает в памяти хрестоматийную поэтическую формулу: «О Волга! колыбель моя…» (II: 89). А поскольку Некрасов преимущественно жил и писал в Петербурге, то не менее ожидаем в его поэзии образ Невы.
Другое общее место – что в любовной лирике Некрасова (в первую очередь подразумевается так называемый «Панаевский цикл» – стихотворения преимущественно 1850–1851 и 1855–1856 гг.) новаторство и оригинальность проявились в том, что Некрасов изобразил «прозу жизни» и «правду жизни» – ссоры, иронию, «слезы и нервы», сложные характеры и обстоятельства. Установка на относительную объяснимость событий и мотиваций и установка на «правду» «прозы жизни» как бы упраздняет специфические отношения объективной реальности и художественного мира.
Анализируя образы воды в лирике Некрасова, легко убедиться, как зыбки эти схематичные, предвзятые представления и как они сужают восприятие одного из крупнейших русских лириков.
Биография поэта связана с водным пространством. Некрасов вырос на Волге и всю жизнь ее любил. Сорок лет он жил в центре Петербурга, неподалеку от Невы. Он путешествовал за границу, был в Германии, Франции, Италии; большое впечатление на него оказали морские купанья в Дьеппе.
В лирике Некрасова мы находим упоминания о Волге и узнаваемые, реалистические описания Волги. Эта река синонимична жизни: она вмещает воспоминания о детстве, опыт зрелого человека, прозрение поэта, когда он видит тяготы чужой судьбы («Ив первый раз ее назвал ⁄ Рекою рабства и тоски» (11:91)), любовь и судьбы любящих тоже связаны с Волгой. Неявное и едва ли в полной мере биографически точное признание повествователя о своей холостяцкой жизни, лишенной любви, появляется в стихотворении «Горе старого Наума (Волжская быль)» (II: 144–145). Несмотря на принятый в «Летописи жизни и творчества Н. А. Некрасова» за фактическую основу рассказ Е. Я. Колбасина, как Некрасов добился расположения А. Я. Панаевой, бросившись по ее слову в Волгу (и якобы не умея плавать, что странно предполагать в волжанине, который, к слову, на охоте в октябре поплыл за упавшей в озеро уткой, поскольку собака испугалась холодной воды) (Летопись I: 226; Некрасов ВС: 386[189]189
Из воспоминаний А. А. Буткевич.
[Закрыть]), – именно в любовной лирике отсутствуют какие-либо волжские реалии.
За исключением Волги, в поэзии Некрасова, по сути, нет образа конкретной реки или моря. Некрасов упоминает Дунай, Каспий, Ледовитый океан (I: 238, 154; II: 223); это – единичные упоминания, не несущие самостоятельной нагрузки. В лирике Некрасова (в том числе крупных сатирических циклах) мы находим упоминания Невы и невских берегов. Нева – как определенный знак места, как петербургская река, реалия петербургского мира – в стихах о его любовном чувстве отсутствует. Стихи, обращенные к женщине, могут содержать развертывающуюся картину современного Петербурга («Ты грустна, ты страдаешь душою…»). Но стихи, развивающие любовное чувство, не содержат привязки к топосу, что и демонстрируют гидронимы. Это обстоятельство подводит к объяснению, почему мы говорим об образах воды, рек и морей, а не конкретной реки или моря (за исключением Волги).
Рассмотрим упоминания о реках и морях.
«Ты всегда хороша несравненно…»:
Что с тобой настоящее горе
Я разумно и кротко сношу
И вперед – в это темное море —
Без обычного страха гляжу…
(I: 64)
«Я не люблю иронии твоей…»:
Не торопи развязки неизбежной!
И без того она недалека: <…>
Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны…
(I: 75)
«Последние элегии»:
Я рано встал, недолги были сборы,
Я вышел в путь, чуть занялась заря;
Переходил я пропасти и горы,
Переплывал я реки и моря;
Боролся я, один и безоружен,
С толпой врагов…
(I: 166)
В стихах представлен поэтический образ некого единого водного пространства. Реки и моря, волны – стихия, синонимичная одновременно жизни и смерти. В первом примере темное (море) – эпитет, применимый к ночи, которая символически обозначает смерть, тот свет (оксюморон – это словосочетание). Во втором примере открыто говорится о развязке, об осени как времени, завершающем в фольклоре жизненный цикл; мотив холода также соответствует символике смерти. В то же время сравнительная форма «бурливее» и эпитет «бушующие» обозначают движение, силу, жизнь. Отметим антитетичность этих образов. Жизнь лирического героя напоминает о смерти, ведет к смерти, преодолевает приближение смерти; эта неотвратимая близость смерти и преодоление ее и есть жизнь героя, и чем ближе смерть, тем интенсивнее жизнь.
Такое прочтение может быть соотнесено с фактами биографии поэта: в середине 1850-х гг. он страдал от изнурительной болезни, которую доктора долго затруднялись определить. К этому же времени относится первое известное нам завещание Некрасова (XIII-2: 311, 646). Его состояние обсуждалось кругом ближайших друзей как опасное и близкое к смерти, и в то же время на эти годы приходится его плодотворная творческая деятельность, замысел написать автобиографию, подготовка и выход поэтического сборника «Стихотворения Н. Некрасова» (1856), принесшего ему небывалую славу.
Но приведенные цитаты не содержат ничего, что прямо указывало бы на биографическую подоплеку. Так же как нет ничего конкретного, что подходило бы под определение «проза жизни». Более того: «Ты всегда хороша несравненно…» написано в 1848 г., «Я не люблю иронии твоей…» – в 1850 г. Углубленное изучение фактов биографии Некрасова и, в частности, истории его болезни, едва не получившей трагический исход в середине 1850-х гг., закономерно, однако уводит в сторону от анализа поэтического текста. Очевидно, что для поэзии Некрасова органично сопряжение мотивов любви, жизни и смерти, и оно выражается в символических образах волн, рек и морей.
Символичность – а не фактографичность – этих образов явственна в «Последних элегиях». В приведенной выше цитате герой говорит о пути — жизненном пути, и это монолог, в котором подводятся итоги. Реки и моря — часть этого жизненного пути; несовершенная форма глагола «переплывал» говорит о многократности действия, но намекает и на неоднократно познанную конечность действия: лирический герой переплыл сколько-то рек и морей. А значит, какая-то река может стать последней на его жизненном пути.
Продолжим цитату из «Последних элегий»:
Переплывал я реки и моря <…>
Очнулся я на рубеже могилы…
И некому и нечем помянуть!
Настанет утро – солнышко осветит
Бездушный труп; всё будет решено!
И в целом мире сердце лишь одно —
И то едва ли – смерть мою заметит…»
(I: 166)
Некрасову не свойственно уснащать поэтическую речь мифологизмами. Лета – река забвения, река загробного царства – упоминается у него лишь дважды (I: 137, 171). Но сопряжение в «Последних элегиях» мотивов преодолеваемой водной преграды, смерти и забвения актуализирует мировой поэтический символ, не названный в тексте, но данный полно и явно.
Словосочетание «реки и моря» тоже требует комментария. На первый взгляд, оно представляется обобщением, пренебрегающим конкретикой, что кажется странным для поэта, создавшего множество вполне реалистичных поэтических пейзажей. Но в контексте культуры XIX в. это словосочетание вызывало – по крайней мере у начитанных людей, к которым относился Некрасов, – иные ассоциации. В «Библейской энциклопедии» содержатся статьи «Море» и «Вода», частично цитируемые здесь. («Море»): «Море (Быт. I: 10) – это слово прилагается священными писателями к озерам, рекам и вообще ко всякому большому собранию вод, равно как и собственно так называемым морям»; «в еврейском тексте Нил и Евфрат называются морями»[190]190
Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия ⁄ труд и издание архимандрита Никифора. М., 1891. Репринтное издание: М.: Терра, 1990. С. 485–486.
[Закрыть]; («Вода»): «Столь необходимая и благодетельная в жарких странах вода становится иногда опасною <…> потому-то выражение быть во глубине вод значит страдать»[191]191
Там же. С. 128.
[Закрыть].
Символичность выражения углубляет образ в некрасовской лирике. Жить, любить, испытывать полноту жизни (антитезу смерти) означает быть во глубине вод, страдать. Такое прочтение указывает на литературную традицию – «Элегию» («Безумных лет угасшее веселье…») А. С. Пушкина (1830). Из соображений лаконизма опускаем подробный сопоставительный анализ.
Разговор о библеизмах у Некрасова может показаться притянутым в свете концепции XX в. о социально-ориентированном поэте, находящемся в достаточно сложных отношениях с церковью (а именно: его продолжительные близкие отношения с чужой женой, пропаганда общественно-политических идей и т. д.). Но к этому источнику побуждают обратиться стихи, в частности – анализ образов воды.
Вновь обратимся к выражению «быть во глубине вод». Водное пространство у Некрасова обозначается не только через реки и моря, воды и волны, но через частые упоминания дождя (синонимы: буря, гроза). А также – через картину человеческих слез. Приведем для примера несколько цитат:
Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!..
(III: 64)
Стихи мои! Свидетели живые
За мир пролитых слез!
Родитесь вы в минуты роковые
Душевных гроз
И бьетесь о сердца людские,
Как волны об утес.
(I: 44)
Какая влага в «чаше вселенского горя»? Какое море имеется в виду? Поэт не ищет бытовой конкретики, поэтическая мысль яснее всего предстает читателю и исследователю при обращении к библеизму быть во глубине вод. Гиперболизированная картина человеческих слез уподобляет их не просто потоку, но потоку с неба (как дождь в грозу) и волнам моря; слезы и в человеке (он проливает их), и вовне, и сверху, и снизу. Страдающий человек пребывает во глубине вод.
В любовной лирике хрестоматийное
– может быть продолжено большим числом примеров.
«Поражена потерей невозвратной…» (1848). Стихотворение содержит примечание Некрасова: «Умер первый мой сын – младенцем – в 1848 году» (I: 597). Лирический герой переживает состояние моральной смерти, как и его подруга:
Как будто смерть сковала ей уста!
Лицо без мысли, полное смятенья,
Сухие, напряженные глаза —
И, кажется, зарею обновленья
В них никогда не заблестит слеза.
(1:68)
Слезы и страдание, которое они выражают, – антитеза смерти, и физической (совершилась «потеря невозвратная», мертвые не плачут), и метафорической; слезы и страдание ожидаются как признаки жизни. Ср.: «Но даже плакать нету силы» («Прощанье», 1856; II: 24).
«Возвращение» (1864). Стихотворение написано после разлуки с Селиной Лефрен, с которой поэт уехал во Францию, где она хотела остаться[193]193
Подробней об этом см. выше: Н. А. Некрасов и Селина Лефрен-Потчер: Комментарии к реконструкции эпизода биографии. С. 7–55.
[Закрыть]:
Сентябрь шумел, земля моя родная
Вся под дождем рыдала без конца,
И черных птиц за мной летела стая,
Как будто бы почуяв мертвеца!
(II: 167)
Лирический герой и мир находятся в отношениях поэтического параллелизма: герой тоскует, а окружающий мир напоминает рыдающего человека. Отметим: герой не сообщает о своих слезах; его оплакивает окружающий мир, как мертвеца. Человеческие слезы и дождь (ливень, буря) контекстуально отождествляются.
В этом отношении бытовое выражение «реки слез» или «море слез», не обнаруживаемое у Некрасова, парадоксальным образом обновилось бы в контексте его метафор и гипербол. И, поскольку слезы в индивидуальной поэтике Некрасова выступают как значительная часть водного пространства, сближение с библеизмом «быть во глубине вод» (оплакивать и быть оплакиваемым) разводит метафору с другим ее бытовым значением: «слезы – вода».
Как явствует из проделанного анализа поэтических текстов на примере образов воды, факты биографии Некрасова содержали определенный материал для стихов интимного содержания, посвященных любви, жизни и смерти. Но отбор и художественных средств, и даже жизненного материала совершался не по принципу реалистически точного изображения окружающего мира.
Это наблюдение подтверждает и обращение к тем стихотворениям Некрасова, которые обнаруживают достаточную близость к литературным источникам. Выше указано на поэтическую преемственность «Последних элегий» по отношению к «Элегии» А. С. Пушкина. Укажем еще два примера. Так, в стихотворении «Давно – отвергнутый тобою…» (1:145) мотив волн и глубины связан с мотивами любви, надежды на счастье, безнадежностью, смертельной опасностью, смертью. Такое сопряжение мотивов, как представляется, позволяет предполагать, что одним из источников этого стихотворения была баллада В. А. Жуковского «Кубок» ([1825] – [март] 1831). Обратимся к первой из «Трех элегий» (1874):
Один, один!.. А ту, кем полны
Мои ревнивые мечты,
Умчали роковые волны
Пустой и милой суеты. <…>
У берегов чужого моря
Вблизи, вдали он ей блеснет
В минуту сиротства и горя,
И – верю я! – она придет!
(1:128)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?