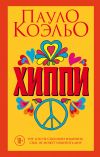Текст книги "Записки одной курёхи"

Автор книги: Мария Ряховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
При виде ее мы подняли восторженный визг. Экскурсоводша на нас шикала, дескать, мы мешаем японцам, но мы ни на кого не обращали внимания – на свете есть только я, Саня и Борисов!
Как вдруг вошла какая-то тетка и сказала:
– В стране переворот. Ельцин только что объявил это официально. У Белого дома бронетехника Рязанского полка, Таманская дивизия. Создаются отряды народных ополченцев! Ельцин направляет эмиссаров в Свердловск и Париж!
– Свердловск – и Париж! – захохотали мы.
– А что вы смеетесь, собственно? – спросила у нас дама. Очевидно, она была директором музея. – Перестройка кончилась. Возвращаются сталинские времена!
– Да нет! – заорали мы. – Продолжается все то же – Время Монплезиров!
И выбежали вон.
На улице мы скакали вокруг клумб с тюльпанами, запрыгивали на пустые постаменты для статуй, искупались в фонтане.
– Прекрасно! – кричали мы. – Война! А мы – солдаты! Лейтенанты полной луны! И мы солдаты любви!
Рядом – море. Стратегически безукоризненное место. Мы будем здесь втроем защищаться от подступающих к нам танков.
– Теперь я поняла, Машка, почему молодогвардейцам было не страшно умирать – у них тоже было Время Монплезиров! – завопила Санька.
Выбежавшие из дворца Монплезир японцы тыкали в какие-то пикающие коробочки, Саня заглянула одному через плечо: в коробочках мелькали тексты на японском.
– Что это за устройства? Вы инопланетяне? – заорали мы и погрозили японцам кулаком.
Японцы нахмурились и прибавили шагу. Потом забалакали по-своему и наняли машину.
Возвращаясь из Петергофа на «икарусе» в совершенном одиночестве, мы сочиняли текст послания Борисову.
«…Борисов! Мы посланы к вам Космическим разумом. Он против того, чтоб вы разваливали группу, а тем более спивались и занимались развратом. Мы, а также множество других людей в наше военное время… вы слышали про какой-то переворот?.. нуждается в радости и волшебстве и уже не верит в них. Мы призваны быть вашими охранительницами и спутницами навсегда! И даже через тридцать лет, когда вы будете ездить по Ницце в своей иностранной и крутой, но тем не менее все-таки инвалидной коляске с выдвижным баром, – мы будем доставать из этого бара для вас манную кашу, тертую морковку и детское пюре. Мы – и только мы – будем нежно снимать эту морковку с вашей поредевшей эспаньолки. Не отвергайте нас! Согласно „Популярной астрологии“, у вас скоро откажет печень и начнется жесточайшее люмбаго…»
Вернулись мы уже не домой, а в осажденный Зимний.
Едва мы вошли, Санина тетя дрожащими руками втолкнула в Санину ладонь телефонную трубку.
Мне было хорошо слышно, как Санины мама, тетя и бабушка орали на нее и как бабушка сказала, что нас ищут по моргам, а мама – что все дело в моем дурном влиянии.
Взяв из рук Сани телефон, тетя с размаху брякнула его на тумбочку и больше не обращала на нас внимания.
Ее квартира была похожа на военный штаб. Радио было включено на полную громкость. Тетя и кошка бессмысленно бегали взад и вперед по квартире. То и дело звонил телефон: хозяйка квартиры и ее подруги пересказывали друг другу то, что пять секунд назад сообщил диктор. Выкрикнув нечеловеческим голосом: «У Янаева тряслись руки!» – Санина тетка с размаху бросала телефонную трубку. Через секунду раздавался звонок подруги и дама с болезненным стоном поднимала ее: «Янаев сказал: Горбачев заслуживает уважения!» Звонки раздавались каждые тридцать секунд.
Кошка тоже вопила: ее второй день не кормили.
А нам с Саней танки были даже по кайфу! Мы были рады общему восторгу и страху, потому что сами трепетали, восторгались и ждали перемен.
На следующий день Санина тетка никуда нас не пускала, но, когда к ней пришли подруги и студенты, забыла о нас. Мы схватили горячих сырников и выбежали. В рок-клубе у нас была стрелка с Пудингом. Там все мы встретили и Типу, который сидел у стены с рваной шерстяной шапкой в руках и аскал деньги на билет.
Жалуясь каждый на свою судьбу – мы на отсутствие Борисова, Типа – на жадность прохожих и на ГКЧП, Пудинг – на мужиков, – мы дошли до чьей-то огромной квартиры с лоскутами обоев и больничным линолеумом. Там Саня старательно пыталась дозвониться Бо, чтобы предложить нашу помощь и в первую очередь молитву святому Бонифатию, которому должны молиться алкоголики. Текст молитвы мы купили в Александро-Невской лавре. (Я объясняла подруге, что Борисов должен молиться Господствам, чтоб стать господином своих страстей, – но она не слушала.) Набирая номер Бо около часа и ежеминутно отвоевывая телефон у людей, желавших обсудить со знакомыми переворот, Саня со спокойной душой легла спать на широкой кровати рядом со мной.
В кровати нас было пятеро, лежали мы поперек. Двое обсуждали Янаева и Горбачева, третий что-то пел по-английски, стараясь переорать разговаривающих, а Саня спокойно спала. Как могут спать только люди, выполнившие свой долг перед собой и человечеством. И перед Левой.
Время от времени в комнату заходил сильно пьяный бывший подводник с зажатым в зубах вонючим косяком и вскрикивал:
– Спят они! Сопляки! Что вы знаете о жизни?! Вы когда-нибудь тонули на глубине двести пятьдесят метров? – Или: – Дурачье! В стране идет война – а они поют песенки! Что будет со страной, их не волнует! А ну, встать! Встать по моей команде!
Но Саня только переворачивалась во сне, хиппарь продолжал петь, – а двое, встав по команде подводника, все так же взволнованно говорили и так же, разговаривая, ложились обратно.
Одна я лежала со сведенными от непрерывной улыбки щеками: мне казалось, я сливаюсь со всем миром, и нет ни одного святого на небе или короля рок-н-ролла на земле, который бы не стал моим другом, – мне только надо протянуть руку.
На следующий день мы узнали, что помимо нас Борисова искал весь Питер: была назначена акция «Рок против танков» на Дворцовой, все рокеры вернулись из турне, – только Борисова не могли отыскать. Он пропал где-то в Сибири. В каком он городе, было никому не известно. Мы с Саней думали, что он ушел жить в скит и больше не вернется.
22 августа мы, печальные, уехали в Москву.
КОНЕЦ АВГУСТА В ЖЕРДЯЯХ
В Жердяях было невесело.
В самом начале лета Степан с Серым пасли коров целый месяц за тысячу двести на двоих, а когда пришли за получкой, оказалось, что им выписано по триста. Годы пьянства и жалкого существования примирили Серого с жизнью, а в Степке бушевала молдавско-цыганская кровь: он пошел к директору совхоза, плюнул ему под ноги и сказал: «Сам за такие деньги паси», после чего был уволен по очень плохой статье – невыход на работу.
Остался один Серый, и ему нашли в подпаски двенадцатилетнего мальчика, с которым они ходили поутру в лес за грибами. Однажды ушли – а коровы объелись клевера и почти все подохли. По утрам клевер для коров особенно вреден. Серый брал шило и протыкал вздутые коровьи животы – но было поздно. Остатки стада были переведены в сентябре в Студниково.
Произошла еще и другая трагедия. Степка плотничал веранду у одной старухи в Подсвешникове, а остальное время, выпросив у Евдокии Степанны пол-литру, скакал по деревне на Урагане взад и вперед в белой широкополой панаме. Он чувствовал себя д’Артаньяном и катал всех подряд. Спина Урагана была покрыта одеялом. Седло с него сняли, когда он бегал в гости к своей подруге за Ленинградское шоссе в дом отдыха подводников. Однажды Серый со Степкой поехали возвращать Урагана от полюбовницы. Обратно Степка ехал на машине своего друга, а Серый добирался верхом на Урагане. Когда они переходили шоссе, на них налетел грузовик. Серый перелетел через Урагана и упал в кювет. Когда шофер его откачал, Серый встал и куда-то побрел. К вечеру дошел домой. Бедного Урагана забрал зоотехник – на мясо. Следующей ночью Серого избили до полусмерти. Деревня не слышала фырканья подъезжавшей машины: стало быть, кто-то из своих.
Жердяи погрустнели. Дни стояли дождливые. Тетя Капа просила меня съездить с ней помолиться:
– С прошлого лета не ездила, а обещала. О тебе сестры спрашивают и проповедник наш. Нелегко найти Господа, а потерять легко.
Мои приятели, с которыми я иногда ходила ночью в лес на костры, и в Студниково на тусовки, воровали у нас яблоки и драли морковь. Безнравственные люди, что с них взять? Любители «Сектора Газа»!..
Житье было тоскливое, лишенное романтизма, и я, что ни вечер, писала Сане письма.
«…Меня обуревает навязчивая идея. Я хочу, чтоб с Атлантики подул соленый ветер с пылью. Чтоб дул несколько дней подряд. В первые три дня он выдерет все травы в округе, потом все деревья, а на седьмой день закружится вокруг нашей виллы „Большой дурак“ и спиралеобразно поднимет ее ввысь. О, кайф полета! (Все-таки зарядил меня Питер…) Я увижу в окно удаляющиеся Жердяи, – и вот подо мной океан. Ка-ак рухнет вилла „Большой дурак“ в Атлантический океан, то-то будет радость! Надоела предсказанность здешней жизни на „десять тысяч лет“ (опять цитирую, вот пропасть!), от этой рутины и рок-н-роллом не спасешься»…
Бабка Дуня принесла молоко. Пересказывает свой разговор с Захватчицей, такое прозвище прилепили сестре Крёстной.
– Говорю ей: зачем вторую веранду пристраиваешь? Не жить вам здесь, Крёстная и с того света лягнет! Не тебе силу оставил – ей передал!.. Отмахнулась! Вот-а… Купи, говорит, себе цветной телевизор. Хочет показать свою культуру! Свое богатство. Тьфу! – Евдокия перешла на шепот: – Мне мой дедушка рассказывал… он в извозчиках подрабатывал в Москве… вот-а… возвращался в Жердяи, на дороге встретил Мусюна, деда Крёстной. Тот говорит: подвези. Поехали, говорит, старой дорогой. К озеру спускаются, дуга съехала, конь расщепорился. Дед что, погоняет, вот-а… Глянул под берег, – а там черно от чертей! Кричат Мусюну: что долго вез, заждались!.. Дедушка оглянулся, а Мусюн стоит на задке телеги – вытянулся в три человечьих роста и хохочет. Дедушка ну поднимать правую руку – чугунная! Из последних сил поднял руку и начертил крест. Вот-а… Мусюна как сдуло – и берег пустой. Ну что, – перепряг коня и домой.
Батюшки! Сижу тоскую, а Крёстную навестить не догадалась!
Вхожу, Крёстная возлежит на своих подушках, приветствует меня. Дворяночка наша, под портретом… помещика Зверева, дяди своего или деда? Нет, кажись, это Наполеон? Обмираю – Борисов.
– Откуда это у вас? – возопила я.
– Сын мой блудный, – жалостливо проговорила она. – Уехал от меня в Москву, а в Москве известно, народ честный, – где не вор, там мошенник. Москвитяне – египтяне, людоеды, кошкодавы! Говорят же, Москва царство, а деревня – рай. Хоть бы народную мудрость послушал!..
Я оторопела. С детства привыкла верить во всем Крёстной. Но как понять это?
– Да вы и замужем не были, – придя в себя, возражаю я. – От кого он, ваш Борисов, от Лемешева или Козловского? Или, может быть, от Толстого, который на крестьянке женился?
– Крапивный он.
– Что?
– Ну, или капустный. В капусте нашла! – И завыла: – Я многоскорбящая мать! Сколько я его люлюкала, пела ему: «Спи, кикимора пряжу прядет…»
– Мы вашего Борисова по всему Питеру искали… – заныла я. – Но разве мы найдем? Мы – курёхи.
– А! – откликнулась Крёстная. – Понимаю. Метко попадаете – ногой в лужу.
«Вот она, лаконичность народного ума», – подумала я.
– Знаешь, чего я ему пела? Спи, пока темно, завтра вновь утро случи-ится. Я закрыла окно – видишь, спят звери и пти-ицы. Будет день, когда ты мне, старой и уса-атой, звезда моя, колыбельную споешь, лохма-атый. Знаю, так уж водится – на горизонте рельсы сходятся!. Москва – Пекин – идут, идут, идут народы…
«А вдруг он действительно ее сын? – подумала я. – Они оба непредсказуемы, оба украшают жизнь своими выдумками, у обоих напрочь отсутствуют логические связи! В самом деле, зачем они, эти связи? Утверждают установленный и надоевший порядок вещей, нет места для мифотворчества, волшебства, чувства, полета…»
– Напиши ему эти строки и отошли, – смиренно и грустно попросила Крёстная, – ты же знаешь, я не умею писать.
Я вздрогнула: какие? Слова ее колыбельной?.. Или Крёстная услышала мои мысли?
Глянула в окно. Сквозь дождливую серость едва виднелся выступ леса, возле канала. «Дурацкое лето, ни одного солнечного дня».
Будто угадав мою мысль, Крёстная сказала:
– Кто в Жердяях не бывал, тот болота не видал. Я русский, на манер французский, только немного по гишпанистее, – и расхохоталась. – Русский молодец – французскому бусурману конец. Я тогда еще маленькая была, когда французы из Москвы возвращались. На печи сидела. Помню, идут обозы. Как попало напиханы – еда, актрисы московского театра, чернобурки, соболя… Лихоимники эти одеты кто во что – иной в мужицком кафтане, другой в атласной женской шубе. А как мерзли! Даже пословица есть – замерз, как француз. По дорогам – лошади с выпущенною внутренностью, распоротыми животами. Неприятели влезали туда согреться, той же кониной утоляли голод.
Вскоре после того приезжал в Жердяи Доцент. Его вызвала Галя, Степкина жена. Степка продавал ему старинные документы на желтой ломкой бумаге. Доцент при мне показывал бумаги отцу. Подписаны императором Николаем I. «Ввод в наследство генерала Зверева на владение деревнями Большие Жердяи и Малые Жердяи». Доцент не дал денег Степке, а поставил две бутылки самогона. Пили у нас: мама была в Москве.
Степка был недоволен гонораром и одновременно Доцентом. Этот наливал стакан с верхом, будто пил свое, да еще подругивал самогон: слабый, отдает одеколоном.
Евдокия гнала из вишневого сиропа, теперь сахар по талонам.
Степка, намекая на добавку: вторая бутылка пустела, повторял рассказ о своей находке. Бумаги лежали в холщовой сумке, на чердаке, зарытые в слой листвы. Нынче для тепла потолок засыпают керамзитом, в старое время листом. По осени навозят мешками из леса, засыплют и замазывают жидкой глиной.
Тут же охмелевший Степка проговорился, что наткнулся на холщовую сумку, когда устраивал новый лаз. Теперь хренушки менты поймают!.. Входная дверь всегда заперта. Крёстной во двор не надо, ходит в свое тронное кресло с дырой. Менты станут ломиться – Степка вмиг по лестнице и на чердак! Оттуда через новый лаз спустится на половину ненавистных Крёстниных «захватчиков» – и задами в лес. Захватчики разрешили сделать лаз в обмен на печку.
– Печь им сложил даром. Ограду им поставил – ни рубля не дали. Муж точно в лагерной охране служил. Протокольная морда. Я таких чую. В зоне насмотрелся.
Степка ждал, – а Доцент в ответ не ставил. Тогда Степка стал предлагать за литр подарок Крёстной – «Вызывную книгу» для кладоискателей – молитвы, заклинания.
– Чего мелешь? – говорил ему Доцент. – Черная книга оказалась лечебником для сифилитиков? Думаешь, мы тут все дураки? Забыли?
– Простак ты! – отвечал ему Степка. – Думаешь, старуха настоящую книгу позволила б из дома вынести? Та поддельная была…
Степкой тяготились, он напился вдрабадан и уверял, будто Крёстная ему открылась. Мусюн положил в генеральскую могилу трубчатый замок и ключ от него. Чтобы уберечь от расхищения.
– Заперт клад. Поняли? А Крёстная говорит: «Выполнишь мою волю, после моей смерти возьмешь триста золотых монет», – едва выговаривал он. – Я сразу на поезд – и в Сочи!.. Не дочери, не внукам – мне.
От картин своей будущей сочинской жизни Степка перешел к обличениям своих собутыльников:
– То вы и умостырили перестройку, чтобы наш брат рабочий перестал ходить в шляпе. Чтобы мы обнищали. Чтобы с вами не сравнялись. Почему нашего «Чапая» по телевизору не крутите?
– Выйдем, – оборвал Доцент Степку. – У нашего хозяина найдется полиэтиленовый мешок?
– Есть вроде, – ответил отец. – Из-под цемента. Сойдет?
Из окна сеней я видела, как отец и Доцент вошли в сарай.
Степка не медлил, только брякнула калитка.
Мы отправились провожать Доцента. Присоединились Юрий Дмитриевич и Капа, прежде сидевшие на скамейке у своих ворот. По пути Юрий Дмитриевич кипятился:
– Мочи нет, как Степка и Серый надоели со своей выпивкой! Начальство не ездит. Серый сгубил семнадцать телок, и что думаешь? Начет ему тысячу триста. Мясо сдали в магазин, в свой совхозный ларек. Пяток телок списал ветеринар как больных. Нашему начальству отдать Серого под суд – значит самим подставиться. Разве может сто пятьдесят голов пасти один человек – да пьяница?.. Петр Первый до тех пор снижал цену на водку, пока пьяницы поголовно не сгорели от спиртного.
Капа с Юрием Дмитриевичем вернулись набросить дождевики. Мы стояли с Доцентом на дороге. По дороге Доцент говорил про свое:
– Наш НИИ разваливается. Квартиры идут по миллиону. Гуляй, рванина, полное освобождение от социальных пут! У меня единственно осталось право собственности на самого себя. Запродать скелет в анатомичку!
Прощались на лавах. Доцент поглядел на речку, синевшее вдали пятно озера. Разговор возвратился к кладу, Крёстной:
– Передурила она нас.
– Приметы изменились или вовсе исчезли с земли, – сказал отец. – Осталось предание.
– Не так. – Доцент не хотел утешаться. – Генеральская могила давно выбрана. Степка вон проговорился про монеты… Выбрали, перепрятали. Под полом где или под печкой. Крёстная хитра, а Степка – цыган. Дня не может прожить, чтоб не обдурить.
На обратном пути Капа жалела Доцента:
– Ведь ученый человек… Звала его в летошный год с собой в Калинин. Проповедник наш Василий Николаич что говорит? Не скрывайте сокровища в воде и в земле, украдут. Скрывайте в небесах – туда не дотянутся.
По возвращении домой мы с отцом записали в дерматиновую тетрадь услышанное or Юрия Дмитрича: «Никогда не унывай, никого не осуждай, никому не досаждай, и каждому мое почтение». Тетрадь лежала на письменном столе в куче не отправленных Сане писем.
МОСКВА. ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ПЕРЕПИСКА ДВУХ КУРЁХ
Сколько мы с Саней бумаги извели, ух!
Каждую неделю обменивались письмами, – это не считая бесчисленных телефонных разговоров – по пять раз в день. Немудрено, что теперь, три года спустя, мы почти расстались. Но до этого еще далеко.
Бедняжки, мы писали мучительные, длинные объяснения в любви Борисову – и отсылали это друг другу! С каждым таким письмом Время Монплезиров истекало. Письма все реже приходили с пометкой на конверте «Монплезир», по которому друг мог заключить, что другому радостно, еще не распечатывая письмо. Они приходили с пометкой «Антимонплезир» или даже «Антимонплезирище». Под конец вообще без всего, даже без точки над «а» в имени, только с написанным слабеющей рукой неразборчивым адресом.
Саньк!
Еще день, и отдам концы. Сегодня включила Б. (испытывала себя трехдневным постом) и просто подпрыгнула от шибанувшего электричества. Эти три дня не находила себе места – во мне проснулся вечно голодный карлик, как при Цое было, и он не может без дозы. Признаюсь: ее состав со времен Цоя изменился: карлик превратился из людоеда в сладкоежку. Теперь он употребляет астральные прогулки – «ящериц подсознанья», – изысканные до извращения борисовские шедевры – «Он может в полный рост» – и, конечно, мои ответные эмоции на божественную сексуальность Борисова в неограниченных количествах. Курёшество – делаешь не то, говоришь не то, на лице вечное страдание и растерянность. Если любовь – так обязательно выдуманная!
…Да, «любовь – как метод вернуться к себе» – гениальнейшее у Борисова. Не ныть! Мы, должно быть, самые счастливые на земле – под предводительством нашего учителя и Возлюбленного движемся в направлении любви. Всего трое из всех, из всех!
Кстати, я не получила твоей седьмой главы. Ты остановилась на том, что ты, Бо и другие его любовницы мчались по улице, а вслед за вами скакал Лева во гневе, желая одним ударом виолончели прекратить эдакое вселенское совращение!..
Эх, где тот дирижабль в небе, который следит за тем, чтоб каждый был любим? Неужели улетел? Все равно поставь свою подпись здесь, где слова: «Я люблю!»
* * *
Привет, дорогая курёха!
Страсть хавает меня, как и тебя, со страшной силой, но я знаю, что дао растекается повсюду. Оно не считает себя властелином, но оно великое.
Дао рождает инь и янь. Все существа носят в себе инь и янь. Они наполнены ци (появившиеся в результате дао) и образуют гармонию, а гармония, как поведал нам наш Бо-дхисатва, не знает границ, она безначальна и бесконечна. Следовательно, последователям дао не страшны злые духи. Наберись терпения.
Пока, птица.
Р.S. Стремление получить многое ведет к потере, мы должны следовать во всем Леве и его маме.
P. P. S. He забудь послать Борисову наше письмо и молитвы для алкоголиков.
Ну и слава богу, Сань, что тебя не пустили на этот концерт – идет редкостная ломка.
Я надела рубашку, сшитую из павловопосадских платков с рукавами «три четверти», из которых тоскливо висели бледные худые руки, как и положено замученной жизнью курёхе. Нанизала серебряные браслеты, брызнула духами и вдумчиво красила ресницы. Под конец сделала два жидких, но очень сексуальных хвостика на разном уровне. В душе горел страх провала – «последний шанс с ним поговорить», манило сладостное болото безнадежности.
Вышла, накинув на поеденные молью кроличьи меха бирюзовый павловопосадский платок в оранжевых розах. На ветру мотались хвостики, звенел кольцами на бархотке ягдташ – мама купила мне его в охотничьем магазине вместо сумки, – ломило ветром гвоздики с бантами.
И вот ДК Горбунова. Горбуха.
Тусовка в волнении. Без билета почти не прорваться. Иной разрабатывает «запатентованный» план, как пробраться через окно туалета, другой печалится о том, что плохой вышла «копия» аккредитации («Плохо отксерили, козлы!»). Ребята и девочки смиренно стоят возле входа, твердят монотонно: «Билетика лишнего нет?» Кто-то хватает за руки входящих – и вот слышны мольбы, мятые сотни падают в грязь. Беспрерывная врубаловка с ментами. Квадратные морды непроницаемы для просьб. Герлы в платках, повязанных по-староверчески, сурово, до бровей, нервно затягиваются дешевыми сигаретами.
Много знакомых по тусовке лиц, но сегодня, видно, не одной мне все влом. Особенно девочек ломает, тех, кто без друга, – а значит, пришел тет-а-тет с Ним повидаться.
Вот какой-то длинноволосый раскачивается и поет маха-мантру: «Харе Кри-ишна, Харе Ра-ама!..» Кстати, Б. пел на этом концерте «Харе Кришна». Он пел с придыханием, своим нежнейшим дрожащим голосом. Теперь мне казалось, это был голос бесполого существа, которые будут населять нашу землю после Суда. Это будем мы, облачившиеся в новую плоть – без всяких там романтически-половых волнений, как у нас с тобой.
Мальчик лет десяти стоит возле главного входа: меняет «Избранное» Хлебникова на билет. Раскрыла, полистала. Вот оно, любимое, вновь: «сейте очи». Нет, не отдам свой билет за все истины мира. Брожу в фойе, змееобразно огибая группки.
Подхожу к столику с плакатами и фотками. Вдруг вижу: Борисов где-то в буддистском храме, медитирует, лицо к небу поднято, глаза закрыты, руки на согнутых коленях. А вот он в Оптиной. Таскать за собой личного фотографа по храмам!..
И вот зал. Давя друг друга, толпа ринулась вперед. Толпа ходит волнами. Кто-то в конце зала продирается сквозь людей, и мне уж все ноги отдавили.
И вот длительные увещевания операторов и гопников: «Отойдите от сцены, не видно за вами. Мы же не сможем снимать». Прошло полчаса. Естественно, все как стояли на бархатных стульях и сидели на плечах у друзей и любовников, так и остались.
Входит Он. Дикие вопли. Снисходительная улыбка. Кожаная куртка на голое тело, волосатое пузо, почему-то уже потное, и что-то звенящее вокруг Него. Глаза заплаканные, как потом утверждали фанатки, шедшие буквально по головам и плечам на сцену.
Я наблюдала, как он сидел на корточках перед одной из фанаток, лежащих на сцене, объясняет: нельзя заслонять собой динамики. «Ну что это за варварство?» – говорил мягко и тихо. Но фанатка не уходила – от счастья, что он говорит с ней, ее парализовало. Тогда он взял ее за шиворот и оттащил в глубь сцены. У нее просто что-то лопнуло внутри от счастья, и она умерла, – будет жить теперь мертвая. И мы с тобой из таких.
Его новые песни столь же красивы, сколь и лживы. Кришнаитство он оставил, теперь православие проповедует. Пел что-то про бродяжничество с веригами, про Грозного и его шута, про Петра, Февронию и Китеж…
Я вспомнила Крёстную и ее простосердечные рассказы, вспомнила свои детские молитвы и – веришь ли? – зарыдала. Но ты не подумай, не Б. меня расстроил. Завтра он нам дао будет в песенном виде проповедовать.
И тут я поняла: он вечно будет прельстителен и всегда трудно будет определить – поддельное или нет. Знаешь, мы в гимназии на спецкурсе «история религии» проходили зороастризм. Так вот в древнейших текстах их священной книги, Авесты, злой дух Ангро-Майнью, противник Ахурамазды, еще не имел имени собственного и звался просто: Отец Лжи. Вообще-то у лжи сто имен: поиски истины, мнимая жалость к тому, кому врешь, желание показаться лучше… Кстати, психологи университета штата Вирджиния выяснили: чем образованней человек – тем больше он врет. Как думаешь, почему?
Я уверена, у Левы мы сможем это спросить. Ты говоришь, что написала ему тогда, после звонка. Он ответит, раз обещал.
Кстати, за Борисовым теперь по концертам таскается любовница в зеленом беретике и таком же шарфе. Они садились в «икарус», он искал ее своими близорукими глазами в толпе музыкантов, озирался: «Ты где, Ольга?» Это Ольга Спартаковна, у которой он сейчас живет. Она посадила его в автобус ближе к середине, а сама села к окну и долго махала нам ручкой и отвечала на улыбки, посланные не ей – дуре, – а Борисову. Я не выдержала и показала ей кулак. Она захохотала и скрылась, будто и не было, – только в воздухе запах выхлопных газов.
Пока, Сань. «Люби меня, потому что мы остались одни». Его больше нет с нами.
P. S. А цветы я бросила на сцену, когда он ушел.
Мань, не ломайся, кто тебе разрешил так убиваться? Бытие и небытие рождают друг друга, высокое и низкое друг к другу склоняются, предыдущее и последующее следуют друг за другом, – таким образом мы приходим к гармонии. То, что не удалось сегодня, удастся завтра.
Что же касается вранья, я думаю так: высшее образование дает людям необходимый запас слов и уверенность в себе, поэтому им лгать легче, а окружающим ложь кажется правдоподобной.
И наконец, то, что я тебе обещала написать, когда нам будет совсем плохо. Лева мне сказал по телефону: «Саня, не надо его так близко к сердцу принимать. Он этого не стоит. Не знаете вы еще настоящих несчастий». – «Да и радостей, верно», – ответила я ему.
…А эта мерзость в зеленом берете? Лягушка. Давай про нее стихи сочиним.
Спартак, Спартак!
Ты был фракиец!
Ты Древний Рим потряс!
Кого ты породил?
Ужасное отродье,
Рубашек не стирает,
И от него воняет…
(Борисовских, я имею в виду, свои стирает, наверное, чтоб он от нее не убежал.)
P. S. Ты не думай, что я не просекла случившегося. Просто кто-то должен тебя утешить. Ничего не говорю до трансляции по телевидению. И самое главное: Бутыл ку Бо – нашу реликвию, к которой он прикасался губами, – отдаю тебе вне очереди: тебе она сейчас нужнее!
Слушай, Саня, какая бутылка? И при чем тут Спартаковна? Почему она – а не мы? Он любит меня в моих снах!
Я уже год и день и ночь о нем думаю. Сейчас январь, а ты меня повела на его концерт первый раз в феврале. Я потратила на него год своей жизни! Другой человек никогда не позволил бы себе заменить все одним, и у него есть жизненные задачи. Такой уважает себя и ценит, а я не знаю про себя, я не ценю себя, – я знаю про него, я ценю его. Одно слово – курёха!
Мы сами создали уродливый обман, и я чувствую: он еще не до конца раскрылся… Спрашиваешь, сестра ли ты мне? Вот ответ: нас только двое – курёх. Но оставь свое дао: оно не помогает унять душу!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.