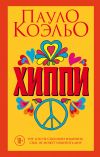Текст книги "Записки одной курёхи"

Автор книги: Мария Ряховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
О, ЭТОТ ЮГ! О, ЭТА НЕГА!
Лето вышло дождливое, меня привезли из Жердяев и положили в больницу с гайморитом. Делали проколы. Холодная, грязная Морозовская больница. Полчища тараканов. В разгар лета – осень за окном. Чтобы прогреть изгибы внутри моей головы под названием «гайморовы полости», родители решились наконец на путешествие.
Мы в Одессе. О, этот юг, о, эта нега! В шестистах километрах севернее пылил Чернобыль. На выходные приезжали киевляне, чтобы вымыть из себя радиацию морской водой.
Пансионат «Сиреневая роща» находился между пляжем и духовной семинарией мужского Свято-Успенского монастыря. За оградой дача патриарха Пимена, с фуникулером, спускавшим железную кабинку к морю, дальше туберкулезный диспансер. Вечерами чахоточники бродили парочками. Они были настроены на любовь, пели песенки под гитару, по утрам звон колоколов смешивался с громкими звуками любовной лирики из магнитофонов и транзисторов больных и здоровых купальщиков.
Я дивилась этой публике, такой оптимистичной и спортивной – упитанным хохотушкам в кепках, играющим в мяч, вместе с которыми при каждом прыжке подпрыгивали их шарообразные груди, и их ухажерам-культуристам. На юге все такие радостные – не то что у нас в Жердяях!..
Мы ходили в семинарию глазеть на красивые лица юных семинаристов, они были веселы и смотрели вокруг жадными, грешными глазами. На толстенных архимандритов, блестевших на солнце напузными крестами. Мама называла их «архимордитами». У черниц, приходивших из далекого женского монастыря к обедне, были простонародные лица, потные от жары.
Проходя вечером мимо окон семинарского общежития, мы непременно видели наполовину пролезшую в окно задастую блондинку в черной юбке с разрезами и ажурных колготках. Из окон слышались частушки и тягучий голос баяна, под который семинаристы должны были учить свои акафисты. Временами это веселье прерывалось странным образом: семинаристы обрывали свой гогот и пение и начинали монотонно бубнить молитву, и также внезапно ее обрывали. Опять слышались звуки баяна. Оказалось, что этот вынужденный перерыв совершался для проходившего мимо наставника.
Но недолго пришлось нам наслаждаться жизнью в Одессе. В городе трое умерло от холеры. Родители были в сильном страхе.
К тому же у меня начались неполадки с желудком, и матери пришло на ум, что у меня холера. Однажды мне даже приснилось, что холерные вибрионы кишат у меня в животе, как головастики в болоте за нашей жердяйской речкой Истрой. В утешение родители купили мне розовые штаны-бананы с карманами по швам. Я их надела и съехала с травянистой горы на заду: пожалуйста, зеленые пятна.
Город затих в страхе перед холерным вибрионом. Житель колыбы – треугольного сооружения на две койки, – дед в железных очках, хвастливо рассказывал моим родителям:
– В Гражданскую против холеры у нас было два средства: калоши и перцовка.
– Как калоши? – спросил отец.
– Заходишь в холерный барак, все заблевано, ну как же тут без калош? В городе холера. А вокруг – белые. Подходишь к бараку, а там толпа родственников. Плачут, а в холерный барак войти боятся. Какие же из них бойцы революции? А надо вдохновить! Делаешь рукой взмах – «Внимание!», берешь двух свидетелей и входишь в барак.
– В калошах? – не успокаивался отец.
– Натурально. Пожимаешь руки умирающим, поддерживаешь словом. После этого выходишь из барака, достаешь из кармана воблу и спокойно ее ешь. На виду у всех. Так сегодня побеждается страх перед холерой, а завтра эти родственники с винтовками побеждают врага!
– Погодите, но так же Наполеон ходил в барак к своим холерным солдатам? Как же, в Египетскую кампанию?.. – удивлялся отец.
– Не знаю, не знаю. – Дед заширкал тапками по дорожке.
– Жалко дедушку. Еще одно поражение, – сказала я. – Он-то надеялся, что проберет нас своими разговорами. И мы переедем жить в его двухместную колыбу, а он в наш номер с унитазом.
Вскоре мы бежали в Евпаторию на теплоходе «Киргизстан». Ночью нас трясло штормом. В Евпатории холерный вибрион сидел уже в бутылках с кефиром, а в довершение мы узнали, что в ту штормовую ночь следом за нами шел большой теплоход навстречу своей беде. Он столкнулся возле Новороссийска с грузовым судном, перетонули сотни людей.
Накануне отъезда из Евпатории мы получили бабушкино письмо. Дед читал репортаж о катастрофе и рыдал, впервые на ее глазах. Ведь мы ему телеграфировали день нашего отплытия!.. Число совпадало с днем отправки потерпевшего бедствие теплохода. Бабушка также писала о дедовой болезни. Сейчас ему хуже. Далее, по своему обыкновению, бабушка жаловалась: жертвует собой и плохо питается. Мама ходила и причитала:
– Гоняется за нами холерный вибрион… Чернобыль нас травит. Маша, угадай, какое место нас любит?
– Жердяи, – улыбалась я.
– Туда и вернемся.
ПОЖАР
Между тем возвращаться было некуда.
Дом в Жердяях сгорел.
По рассказам, всю ночь стоял шестиметровый столб огня. Еще бы! Три террасы, павильон, сараи. Дважды пытались вызвать пожарных. Не ехали служивые – по таким-то дорогам!..
Мы с мамой плакали, обнявшись. Давно ли, давно ли мы выходили на крыльцо чистить зубы и белеющая в ночи пена зубной пасты падала на устроенную возле крыльца душистую клумбу флоксов?.. К неудовольствию бабушки. Над березами, к которым дед привязал гамак, ярко горела голубая звезда, в темени августовской ночи ходили золотые урчащие луны комбайновых фар… Мы были счастливы.
Первой из жердяйских сообщила о пожаре молочница Евдокия Степановна. Звонить она поехала в город. Рассказать непременно все разом! Огненный столб в шесть метров, ей брови спалило! Всю ночь простояли на дороге. С фермы по радио вызывали совхозную контору. Пожарные не поехали, паразиты, – а ведь молоковоз бегает каждый день.
Черепенина грелась на своей лавке, думала, немцы палят деревню. Своего сына признавала за зенитчика. Он поливал сарай, прилегающий к нашему участку, – там крыша рубероидная.
Как ни сбивала моя бабушка звонившую ей Евдокию: умирающий дед лежал тут же в комнате, – он почуял беду. Бабушка расплакалась, называла Евдокию по имени, в умопомрачении спрашивала невпопад. После разговора с Евдокией бабушка укрылась в ванной, там рыдала под шум воды.
Понимала, что выдала себя, и по возвращении к деду рассказала об ограблении чердака. Брали с разбором, – украли ее шляпы, – а старые пальто оставили. Отдельно висящие в мешках воротники, правда, выгребли из кофра.
Дед вроде успокоился. Знал: бабушка всю жизнь видела в вещах заступников и дружков, единственно неспособных оставить в трудный час. О своих серьгах, сумках и отрезах – сколько заплатила, когда и где – она все помнила. А если перекладывала вещи – свежела лицом.
– Нехитрое дело забраться на наш чердак, – говорил дед. – Возьми лестницу за сараем и приставь к веранде. Там по крыше к будке. И зачем мы эту будку на крыше выстроили?.. Двери у нее изнутри на проволочном крючке. Поддеть хоть стамеской, и крючок разогнешь. А там на чердак. Эта наша будка – кукиш здравому смыслу. Лестницу надо было ставить внутри. Ладно, проживем без воротников… Какие наши годы, Ксенок. Главное, дом цел. Дом – большое дело. Раньше плотник не мог купить станка… доску протесать – время, отфуговать вовсе запаришься. Тес брали не обрезной. Дома ставили по три года. Дом в деревне – это вещь, Ксенок.
По бабушкиному недомыслию в пересказе ее телефонного разговора с Евдокией явился некто Степка. Прежде неизвестный человек в Жердяях и зятек Крёстной. Вот что сказала о нем бабушка.
Видом цыган. Всех зимовщиков в Жердяях дед знал. В разорении чердака старуху Черепенину не заподозришь, ее пакостливости доставало лишь на опорожнение помойного ведра под нашим забором. Пастух Серый – пьянь – может украсть с фермы мешок комбикорма на опохмелку, но к соседу на чердак не полезет: дед столько раз выручал его бутылками.
Приблудный вороватый Степка с его намерением проболтаться в Жердяях до весны и смыться постоянно занимал мысли деда.
Ведь Степка мог в другой раз, через ту же будку и по внутренней лестнице, пробраться на заднюю веранду, там при умении открыть врезной замок – очутиться в доме. Окна затянуты снаружи рубероидом, стало быть, в доме тьма. Степка захочет вкрутить пробки и не найдет, дед припрятал. Тогда Степка начнет скручивать из газеты жгуты и поджигать – дело кончится пожаром.
Мы не могли унять деда в его домыслах, бабушка вовсе помалкивала в страхе разоблачения. Евдокия упомянула Степку по случаю, он заодно с Серым выламывал окна веранды – спасал от огня бабушкино трюмо и одежду. И Степка попал бабушке на язык. Дед от болей не спал ночами, и вот припомнил, как в начале октября накануне отъезда из Жердяев повстречал на дороге Серого с человеком цыганистого обличья, оба пьяненьких, – перебирали у Евдокии печку.
К тому времени отцу позвонил Тира, сын Капы и Юрия Дмитриевича, он ездил за картошкой в Жердяи и насмотрелся из родительских окон на нашу закоптелую печь с трубой. Отец спросил о Степке, вправду ли такой есть? Оказалось, есть. Сам из Малых Жердяев, сидел два раза за драки, вот подженился на Крёстниной дочери, в городской квартире у нее тесно, – взрослые дети, – они против. Потому зимует у Крёстной, «тещеньки».
Из желания облагородить образ Степки и успокоить деда мой отец насочинял про жердяйского новосела. Будто бы тот давно и безответно любил Галю, провожал из школы, их свидания проходили в лесу между Большими и Малыми Жердяями. Дескать, известие о Галином замужестве сокрушило Степку, – он стал запивать, драться и сел раз и другой.
Отец своими россказнями еще больше навредил, теперь Степка виделся деду еще более опасным, наглел день ото дня. Единственный в зимних Жердяях мужик Юрий Дмитриевич был немолод, – воевал. К тому же уходил на сутки дежурить в Стрелино на ферму.
Мама плакала, невольная в себе, ведь дед худел и слабел на глазах. Обличала моего отца в намерении поиздеваться над дедушкой:
– Ты всегда его не любил!.. Степка дважды сидел, такое брякнуть! На строительстве Волго-Донского канала папу едва зэки не засыпали. Заживо, понимаешь?
При моих наездах дед заговаривал о доме:
– Нет у нас валенок, что за беда? Мы с тобой печку истопим. Придвинем кушетку к щиту и сядем греться.
– К щиту?
– Самый широкий бок печи называется щит. Так печь выкладывается, чтобы дым по ходам нагревал щит. – Дед чертил в воздухе худой рукой.
Обручальное кольцо в одном месте обмотано ниткой, чтобы держалось на пальце. После болеутоляющего укола дед уснул крепко и надолго. Мы шептались в кухонке. Как видно, бабушка при звонке Евдокии непоправимо выдала себя плачем и невразумительными вопросами. Дед стал особенно проницателен и скоро почти угадал правду.
По телефону он наказал отцу забить изнутри дверь будки. И мы поехали в Жердяи. Мне поручалось побывать у Крёстной и по возвращении рассказывать о Степке приятное.
Ныне, спустя семь лет после той зимней поездки в Жердяи, догадываюсь, что отец вымолил меня у мамы. Он ехал с унынием. Дом в Жердяях не любил, хозяином здесь не был, хотя вторая изба и веранда пристраивались на его деньги. Отцу шел пятидесятый. Надо заново строиться, а на какие шиши?.. И где? Здешние места отец называл «большой болотиной». Север, поздняя весна, льет неделями, темные хвойные леса.
Автобус оставил нас на шоссе. Тропу замело, мы брели по вешкам – натыканным прутикам.
Стоим на пепелище. Из снега лезли черные камни фундамента, дверцу печи поводило ветром. На месте сарая скрученное железо.
Но вот пишу сейчас о том давнем дне в Жердяях, в первой своей половине тоскливом: изжить бы скорее, – а во второй половине прожитом в тепле домов, в застольях, в словах понимания, – и знаю наверняка, что в тот день помогла отцу разомкнуть его новый жизненный круг.
Если б не я, не моя любовь к деревне, – отец отступился бы от Жердяев.
Начало весны прошло для моих родителей в тоскливой суете, давшей мало результатов: они искали каких-то профессоров для дедушки, которому было все хуже. Потом суета сама собой прекратилась и наступила тишина. За окном блеклая снеговая каша, уже с утра сумрачно. Настроение такое, будто живем с занавешенными окнами.
Однажды я поехала к бабушке с дедушкой, удивляясь заранее своей новой роли для них. Обычно я ехала есть жирные бабушкины борщи и пироги, взбитые дедушкой сливки и мороженое с вареньем, ходить с дедом в кино, смотреть все подряд по телевизору и наряжаться в бабушкин жемчуг – все это было для меня запретным плодом дома. А сейчас я с удивлением замечала, что мне надо порадовать дедушку и забыть про себя.
Когда я вошла, дед сидел в кресле с бесстрастным выражением лица. Хоть он и спросил, есть ли у меня зимние сапоги, но уже не отреагировал на отрицательный ответ. Дед всегда покупал мне обувь, а для этой зимы не успел. Его голос звучал слабо, как будто издалека – хотя он сидел напротив меня. Мне казалось, что я звоню деду из Евпатории и он едва может расслышать меня из-за треска в проводах.
Бабушка впала в нервное возбуждение и все время бегала из угла в угол, то заново укрывая деду ноги, то вытирая со стола, то перекладывая салфетки на серванте. Потом дед перелег на диван и я видела его прямой нос с горбинкой, абсолютно черные волосы в восемьдесят лет. Он родился в шестом году, успел еще поучиться в гимназии… Над диваном висела его гимназическая грамота, полученная «за отличныя успехи» в Варшаве в 1913 году, юбилейном для Российской империи. В центре грамоты было изображено венчание на царство Михаила Феодоровича, с левой и правой стороны картинку обнимало царское генеалогическое древо.
Бабушка подала деду кусок хлеба с черной икрой. Она обычно хранилась только для меня. А сегодня мне даже не предложили. Я поняла: что-то кончилось.
Я смотрела, как двигались его высокие казачьи скулы: прабабка-то была казачкой. «Насколько он красивей, чем Рейган и даже Штирлиц, в которых влюблена бабушка, – думала я. – Только глаза мертвые».
– Не переживайте. Все идет как надо. Глупо сопротивляться законам природы, – только и произнес он за весь день. А потом добавил: – У Маши приданое теперь есть, значит, все в порядке.
Под приданым он разумел деревенский дом.
Спустя несколько дней ему стали колоть морфий, и он уже не приходил в сознание. Но однажды, когда около него сидела мама и гладила его по голове, дед открыл глаза и разозлился: зачем она здесь сидит?! Приказал ей уходить и больше не являться.
Отец и дочь всегда любили друг друга. Между ними всю жизнь были красивые отношения. Подарки к каждому празднику, цветы. Часами ходили по старой Москве. Обошли все возможные музеи. Как влюбленные. Дед не хотел, чтобы мама видела его мучения, таскала его на себе в туалет. Эти обязанности он оставлял бабушке – хотя и ее, давно нелюбимую, пожалел: просил ее отвезти его в больницу, знал, что она боится мертвых все-таки больше грозы, мышей и электричества.
В больницу деда не повезли, и возле лежащего в забытьи отца оставалась моя мама. Однажды она позвонила и спросила, ем ли я яблоки, а потом сказала, что дедушка умер.
Смерть дедушки и пожар в Жердяях стали гранью детства.
Мама была надорвана, наша маленькая семья стала еще слабее. Она теперь не хотела помнить о сидящих под снегом луковицах цветов и выстланных плитками дорожках, еще больше невзлюбила жердяев: «Дом кто-то поджег…» Не хотела туда возвращаться.
НОВОЕ СВИДАНИЕ С ЖЕРДЯЯМИ
Прошло три года. Как это возможно? Я не была в деревне три лета!..
Шел восемьдесят девятый год. Купить лес или кирпич можно было по большому блату. Надо было строить новый дом – но в магазинах не было даже гвоздей. Денег тоже не водилось. Отец понимал, что нам нужен дом, однако тянул со стройкой.
Мне было тринадцать, и я обнаружила новый источник знаний о мире. Им оказалась тусовка на Гоголях, – там собирались хиппи. Захаживали и панки, и анархисты в красно-черных феньках. В восемьдесят восьмом я принесла с тусовки песни Цоя, Борисова и Моррисона, анекдоты. Двое панков видели, как девушка на водных лыжах исчезла в волнах. Нырнули, вытащили, она зеленая и воняет. Переговариваются: «Та ведь была на лыжах, эта на коньках». Или другой: панк возит коляску с ребенком. Старуха: «Чего ребенок-то зеленый?» – «Стало быть, сдох».
Мама возмущалась, когда я пересказывала ей такое, сникала в отчаянии:
– Зачем вы это рассказываете?
Отец, утешая ее и одновременно сердясь на жену за слабость, стал говорить, что подобные анекдоты, тексты и голоса, как и рок-музыка, сообщают мне, их дочери, знания о современном мире, истолковывают его, приучают к нему. Вырабатывают привыкание.
– Какое привыкание, чего говоришь? – вскрикивала мама. – Подобные знания – вредоносны! И жизнь в них предстает безобразной.
…Прекрасна в своей простоте была жизнь в деревне в минувшие годы. Была!.. За то время, что нас там не видали, изменились и Жердяи. Через два года в Питере, походя, в суетливых поисках встречи со своим кумиром Борисовым, я услышу строчки неизвестного поэта. «Не будьте дураками, запасайтесь сумерками». Дескать, завтра будет сплошная ночь.
В деревню поехали вдвоем с отцом. Он наконец решился строиться. У меня были каникулы. Стоял на редкость холодный, промозглый март. Ноги тонули в снеговой каше.
По приезде я тут же побежала к Нюре.
Нюра уехала к очередной знахарке. Возле Тани сидела Капа и кормила племянницу с ложечки. Я расстроилась, что не застала Нюру. Сколько упорства, сколько в ней силы! Два года, что мы не виделись, она ездила по кладбищам и писала мне письма. Рассказывала, как пыталась вырвать у кошки глаза по рецепту ведьмы Маргариты Семеновны и засунула животное в валенок – чтобы не билась, но кошка вылезла, поцарапала Нюре руки, укусила и убежала!
Капа рассказывала, как приезжала Зинаида, обнадежила и пропала. Как однажды Нюра почти напала на след; сердце заколотилось возле одной могилы, но не тут-то было: из кустов вылетел какой-то мужик, весь в перьях по черному пальто, кинулся к ней с криком «Убью!». Бежала от него, а возвратясь, не могла найти то место.
Мы обедали у Евдокии, пили чай с вареньем у Капы, день закончили у Крёстной.
Там отец напился с плотником Степкой, черноголовым говорливым мужичком, чье имя, названное по телефону бабушкой в день после пожара, так напугало покойного деда.
Степка этот жил у Крёстной, набивался в мужья к ее разведенной дочери и называл «тещу» «моя рыбка». То и дело к своему дружку являлся Серый.
Кроме того, жил у Крёстной и некий постоялец, получивший в Жердяях прозвище Доцент. Его звание следует писать с заглавной буквы. В Жердяях оно заменило ему и имя, и фамилию. Этот здоровяк, доцент архитектуры, совсем не походил на тощих сутулых ученых, имел простонародную внешность и нестриженую бородищу.
Степка втравил его и отца в выпивку и «выставлял». Потом отец дважды ходил к Капе занимать денег и оттуда к Евдокии за самогонкой, – потом бегал по тем же адресам и Доцент. Допивали бутылку, шли к нашему пепелищу, там Степка, плотник по профессии, лез на фундамент, взмахом руки указывал перенести печь и учил, учил отца. Как погорельцам, нам выпишут лес в сельсовете, по заявлению в лесхоз – дешево! Дескать, Степка поможет выбрать деревья, повалить; был сучкорубом в зоне! Срубит нам новый дом. Вход будет здесь, окна глядят на поле и на балок!
«Балком» Степка называл вагончик, где я играла в младенчестве, – он уцелел в пожаре, – стоял далеко и был обит белым металлом.
Отец открыл мне его, я сидела в его тесном нутре. Устроилась на плюшевом немецком трофейном диване, на котором мама провела детство, ночами мучаясь бессонницей. Глядела в разбитое оконце, за которым синели ранние мартовские сумерки. На сколоченную дедом тумбочку с моей детской кукольной посудой я положила свой «Беларусь-302», откуда раздавались тексты Цоя – резко, безапелляционно и просто объясняющие сложный мир. «Между землей и небом война», или, как сказала бы Капа, «есть Бог – а есть тот, другой, а поле битвы – мы с тобой, Маша». Песни погружали меня в необъяснимый транс: еще на Гоголях мне было невдомек, зачем парни и девки употребляют наркотики, когда есть Цой? От его песен я кайфовала, и принимать скуку и грубость жизни казалось делом простым.
Позвала отца закрыть вагончик. Отец тряс связкой ключей от дедовой усадьбы, искал нужный. Ключей было десятка два, с картонными бирками, навешенными дедом. «Сени». «Веранда первая». «Большая изба». «Малая изба». «Сарай». «Кладовка». «Уборная». «Павильон». Отец в который раз перебирал связку, терял терпение и опять спорил со Степкой:
– Окна должны быть здесь! Чтобы солнце в избе круглый день!
– Тебе что, окна по всем сторонам? Зимой холодно будет, – настаивал Степка.
– Зимой нам здесь не жить!
По пустынной улице, шумной кучей, вернулись к Крёстной.
Отец хотел проститься, нам давно пора на автобус – но отвязаться от пьяных мужиков, набивавшихся к нам в строители, было нелегко.
На крыльце Крёстниного дома Доцента качнуло, и под его плечом разломился резной столб.
– Изъеденный!.. – объявил Степка. – Поставлю новое крыльцо.
При электрическом свете нутро дома Крёстной казалось еще беднее и грязнее.
Занимавшая середину стола пустая черная сковородища с обгорелой ручкой напоминала наше пепелище. Серый прибежал от Евдокии с новой бутылкой. Распивали и ругали Евдокию: на глазах разводит!.. Первые бутылки были крепче.
Степка требовал уважения к своей тещеньке, обещал прорубить окна здесь и здесь поставить новое крыльцо. И долгую веранду вдоль дома.
Я с трудом сидела, хотела спать.
«Группа крови на рукаве-е, – неслось из моего магнитофона. – Мой порядковый номер на рукаве-е. Пожелай мне удачи в бою-у, пожела-ай мне не остаться в этой траве-е…»
– Во-во, это про нас! – восклицал Степка. – А ну-ка, поставь вдругорядь! В самом деле, сколько нам еще осталось, а, моя рыбка? – обращался он к «тещеньке». – Кому клад достанется, когда нас не будет?
Вместо ответа, Крёстная покосилась на козленка, что жил в клетке за рукомойником, и, вновь проявляя свой провидческий дар, угадала его желания: просунула в клетку алюминиевую кружку, и тот напрудил в нее весело, с верхом. Старуха сходила и вылила в помойное ведро, кружку поставила на место. Мой пьяный отец отнекивался, ему набухали полный стакан. Отлил в ту самую алюминиевую кружку, после чего отлитое им Доцент разделил между прочими.
О нашей будущей стройке забыли, говорили о главном для Доцента: о том, ради чего он и поселился у Крёстной, о кладе. Было очевидно, что скоро он вынет новую десятку и Серый со Степкой бросятся к Евдокии с пустой бутылкой.
По рукам ходила серебряная коробочка с выпуклым цветком на крышке. Коробочку вынул из клада отец Крёстной, когда брал пять золотых монет для вручения своему сыну.
Было заведено: брали пять монет, и не больше, если сын уходил из дома на войну или отделялся. Из выданных Крёстной пяти монет две она прожила после войны, три получила ее дочь Галя, когда собирала деньги на кооперативную квартиру.
– Тещенька знает место и не скажет! – слышала я сквозь сон Степкин прокуренный голос. – Она и Гале не говорит. С тебя отец присягу брал? Правильно говорю, моя рыбка?.. Не так возьмешься за клад, смерть. Правильно говорю, моя птичка?
Крёстная ушла на свою кровать за перегородкой.
Я оделась и отправилась к Капе. Там меня уложили на супружескую кровать. Хозяева устраивались на разложенном диване, переговаривались на карельском языке. Слова были коротки, будто состояли из одного слога.
Юрий Дмитриевич заснул скоро, Капа перешла ко мне.
Говорила, как смеялась над рассказами сестры Нюры, приезжавшей из молельного дома в Твери. Шесть лет назад это было. Как, выйдя на пенсию, пошла в общину за Нюрой, тогда уже сомневавшейся в силе Господа, как наконец уверовала – «будто сама себе открылась». Рассказывала, что бывший у них за старшого Василий Николаевич «много перетерпела», потому что с твердостью шел за Христом. И детей у него отнимали, и на лесоповал ссылали, где еще хуже ему приходилось, чем на фронте. Что братья и сестры по общине уже не один раз приезжали к Нюре, убеждали: «Очнись, возвратись к Богу. Он тебя ждет, Он поможет. Себя и дочь погубишь».
Тихонько, чтобы не разбудить Юрия Дмитриевича, Капа учила меня молитве:
– Господь Иисус Христос!.. Прости меня, грешную человека. Я не могу без Тебя… мне нужна вера в Тебя.
Ее молитвы с младенческими ошибками в неродном для нее русском языке казались еще трогательней. Засыпая, теряя слова, я повторяла за Капой:
– Возьми мою жизнь в свои руки… сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть.
Уж вовсе я было заснула, под шепот Капы, как вдруг она произнесла слово «клад»:
– …мой клад меня ждет.
– Где твой клад?
– Мой клад на небесах… – Капа, умиляясь своим словам, перешла на полушепот. Прежде она не знала, для чего она и к чему ее дела и мысли, теперь знает.
И клад ее верный и чистый, а клад Крёстной – от дьявола.
– Почему же от дьявола? – С меня слетела дрема.
Капа отвечала, что, если бы положенное за речкой богатство было от Бога, разве бы Он допустил ненужные беды при укоренении здесь в Жердяях их семьи в пятьдесят шестом году? Дом перевезли разобранным, бревна кучей и денег всего-то двадцать пять рублей. Сперва жили на квартире у молочницы Евдокии. Придешь с фермы, бухнуться бы и уснуть, так стройка и ребята маленькие. Случилось тогда чудо, Юрий Дмитриевич наткнулся на брошенную в болото связку хороших смолистых бревен и срубил из них первые венцы. К тому же, по всему видать, Крёстная – дочь или внучка Мусюна.
Утром после завтрака у Капы я, в шубке и платке, томилась в доме Крёстной, где хозяйка, в фуфайке и простоволосая, впихивала обломки досок в дверцу печи, из угла в угол перебегал козленок, а за столом опохмелялись. Отец дважды посылал меня к Капе брать взаймы. Он заметно заискивал перед собутыльниками.
Доцент уступал отцу за две тысячи дом, разобранный и сложенный где-то за Подольском, и за три-четыре тысячи брался перевезти и поставить на нашем пепелище.
– Ты топор в руках держал? – зло допрашивал Степка Доцента.
Я боязливо глядела на вредного чернявого человека.
– Бревна помечены. Соберем. Еще студентом мотался по шабашкам. – Доцент возвышался над столом, русоголовый, с простонародным лицом, еще более громоздкий в своем тулупе. Он вовсе не был расторможен Евдокииной самогонкой, ведь весил втрое против недомерка Степки.
Отец уговаривал Степку:
– Кончай тянуть на дружка.
Доцент благодушно буркал. Было непонятно, снисходит ли он к Степке или поощряет отца. Степка схватил в углу топор – и на улицу. Мы безвольно потащились за ним, я чуяла его силу, его дар навязывать свою волю. Еще тогда в зимних Жердяях угадала, что моя неприязнь к Степке перейдет во враждебность.
Во дворе Степка разбросал ногами снег. Обнажились накиданные в беспорядке доски. Степка выволок к крыльцу горбатую толстенную доску и протесал ее легкими касаниями топора, так что длинная кучерявая щепа осталась лежать вдоль белого гладкого края.
Доцент в ответ на его вызов взялся протесывать свой край. Он также надсекал вначале доску, топор увязал в дереве, щепки, толстые и короткие, не хотели отделяться. Степка подскочил, отнял топор у Доцента. Тот вдруг повалился, да лицом в снег, выставив огромные гладкие подошвы самодельных калош.
Поднявшись, Доцент не стал отнимать топор у Степки и не смахнул снег с усов и бороды. Он вытянул за угол из снега полиэтиленовый мешок из-под удобрений, такие валяются в окрестных полях по осени, натянул его на руках. Подошел к Степке, тот не смотрел, тюкал, – и одним движением надел на него.
Степка завертелся в могучих руках, Доцент обхватил его поперек живота, прижимал мешок. Сквозь толстый мутный полиэтилен я видела, как под съехавшей шапкой дергается Степкин рот.
Со страхом мы глядели, как Степка стих и был опущен на снег. Отец опомнился, подскочил и сдернул мешок обеими руками – как наволочку с подушки. После Степка говорил, будто он экономил кислород, потому перестал брыкаться. На самом деле он с перепугу впал в оцепенение, телом стал будто меньше. Смуглое лицо – с кулачок. Жалко было глядеть, как он, стоя на четвереньках в грязном мартовском снегу, запускает руку в мешок и достает шапку.
Отец сходил к молочнице и самогонщице Евдокии. Мировую пили на нашем пепелище. Степка набивался в бригаду к Доценту. Дом перевозить – жуткое дело! Вон на Ленинградке с трейлера посыпались бревна – везли разобранный дом. Двенадцать машин разбилось. Встречные и задние!.. Семь трупов, двадцать покалеченных. После шоферюга и хозяин дома сидели в зоне со Степкой, по десять лет дали, понял?.. Закати бревна на трейлер, увяжи!.. Не хухры-мухры!
Отец рядился с Доцентом: шутка ли сказать – четыре тысячи! Да и гнилой, поди… Доцент дружески предупредил: гляди, упустишь, продам за шесть, как дороги подсохнут. Отец наконец нашел в связке ключ, открыл вагончик. Вполне могут здесь ночевать втроем, вполне. Картошку соседки сварят.
Мы шумно толклись на истоптанном пространстве между вагончиком и черным квадратом фундамента, здесь летом густо поднимутся пионы, своей роскошной пышностью соответствующие бабушкиному представлению о красоте. Доцент опять говорил о покупке дома – разобранного, размеченного, накрытого полиэтиленом. Отец подхватывал: во-во, с лохмотьями обоев – и если покинутого тараканами, то уж непременно с высохшими клопами в щелях бревен и под нечистыми обойными остатками.
Впоследствии, когда Доцент с его бригадой из кандидатов наук поставят дом, по ночам мне будут сниться клопы. Будто они наползают на меня, как наползали на маму в детстве, и после скапливаются под по душкой, разбухшие, неподвижные от крови.
– Если не врешь, Доцент, дом будет шесть на шесть, – громко объявлял Степка. Он шагами обмерял наш закоптелый фундамент, который оказывался пять на пять метров.
Наш бывший пастух Серый, за версту чуявший самогонку, тоже явился и отрабатывал ее, откидывая лезущие на выступ фундамента многометровые головни, черные и остроносые.
На шум голосов, попрощаться с нами, сошлись молочница Евдокия в фуфайке и своих вечных кальсонах, Капа с Юрием Дмитриевичем и Крёстная с собачонками.
Прибрела, ставя свои маленькие ноги в галошиках в ямки-следы, ветхая старушка Черепенина. Разбросанные угольно-черные острорылые головни и Доцент с его тулупом и заросшим лицом вызвали в угасающей памяти старушки давние образы. Она приняла Доцента за партизана, тихонько посоветовала поостеречься, а то гляди – немцы вернутся. Общий смех ее смутил, она повинилась и поправилась, дескать, не сразу признала уполномоченного.
С недавних пор у меня появилась потребность в уединении вдвоем с Цоем. Я опять пошла в свой детский вагончик, балок, как его называл Степка, включила «магниток». Отпирать его было не надо: стоило сунуть в битое оконце руку, нащупать задвижку – и отпереть. Сесть на дедов диван – и ты уже вне досягаемости взрослых.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.