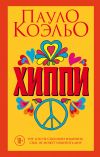Текст книги "Записки одной курёхи"

Автор книги: Мария Ряховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
ВЕСТИ ИЗ ЖЕРДЯЕВ
Зима, шла вторая четверть. Которая уж по счету контрольная по химии. Выпускной класс… Я даже не двоечница – я в разряде дебилов. Моя голова не держит даже формулу кислоты! – в ней еще Серый будто бы растворился! Тьфу, ну как ее! Исчез без остатка! С шипением превратился в газ, в пузыри – вместе с железными зубами и кирзачами!
В моих снах теплая трава под босыми ногами, солнце греет голову, костер в ночном лесу. Просыпаешься с тяжестью фуфайки на плечах, в ушах глупые слова, «Ласковый май», мерзкая попса.
Как-то в метро отец наткнулся на мужичонку, наезжавшего летом к жердяйской родне, тот сказал:
– В Жердяях дом сгорел!
У отца случился сердечный приступ тут же, в метро.
– Неужели наш?.. – наверно, бормотал отец. – Пробки я вывернул. Разве что бомжи какие повадились?.. Господи, мне шестой десяток! Опять строиться?
Когда отец вернулся, мать с вызовом сказала:
– А чей еще дом мог сгореть? – Очередной пожар утверждал маму в нашей избранности. – Мы приговорены быть жертвой! Мы отмечены высшими силами. В этом году правит стихия очищающего огня, – а мой знак – Овен! Его курирует Марс!
Отец поехал в Жердяи.
Дожидались его с кашей под одеялом.
Отец стал рассказывать с порога:
– Крёстнин сгорел! Она померла, отгуляли сороковины – Степка и сжег. Помните, она слово взяла с него? На книге? Сжечь?
Степка на второй день после поминок Крёстной разложил костер на своей половине. Горело всю ночь, огненный хвост висел над оврагом и осыпал головешками дом тети Тони, хозяйки клевачих петухов. Та потом отмывала закопченные окна. Степка дожидался конца пожара, прятался в елках на задах. Его облаяла собственная собачонка, загодя спущенная им с привязи. На рассвете пришел в Солнечногорск, у жены Гали попросил чистое белье и рубашку – и сдался в милицию. Надоело, мол, в подполе и на чердаке сидеть! Степку день продержали в КПЗ и отпустили, дескать, заявления на тебя нет, – сами разбирайтесь с женой. Теперь живет у племянника в Малых Жердяях.
Наша семья свиделась со Степкой нынче в марте, прежде чем ему исчезнуть в просторах СНГ.
Я вернулась домой в девятом часу. В прихожей – не ступить, плотно наставлены раскрытые зонты. В мамину комнату дверь распахнута, видны ряд голов и бородатое строгое лицо человека, соединявшего в одном лице экстрасенса и проповедника, наставника, утешителя и прозорливца. У нас заседает группа «сдвинутых-продвинутых», как выражается папа, «Передовой Акрополь».
Отец неизменно встречал «учителя» издевательской фразой:
– Гляжу, поднимается медленно гуру!..
Симпатичных и живых участников семинара папа именовал «передоакропольцами», тупых и не в меру наивных – «заднеакропольцами».
Закончили говорить о Шамбале и Блаватской, читали из книжицы возвращенного на русскую землю богоискателя начала века. Теперь разбирали поведение ревнивого мужа – и жена тут же сидит. Говорят о возрастных проблемах своих детей. Гуру помогает обходить ловушки жизни. Все тут из ловушки в ловушку, как говорит отец.
Молодожены, каждый с приданым в два ребенка от первого брака. Или одинокая жизнь: развелась, коммуналка, дочь неделями не является.
Наставнику задавали вопросы о своих семьях. Одна пожилая дама спросила:
– Муж пьет. Дочь разводиться собирается. У меня радикулит. Скажите, это от кармы?
– Нет, все просто. У вас в квартире поселился представитель восьмой цивилизации.
– А какой он? – с тревогой спрашивает дама.
– Щас посмотрю. – Учитель водит рукой вниз-вверх и отвечает: – Зеленый, с красным шаром вокруг головы.
– Ах! – всплеснула руками дама. – Так и знала!
– Зина, – обращается гуру к своей ассистентке, сидящей рядом на низенькой табуретке, – объясни доходчиво.
«Ба! – удивляюсь я. – Да это же наша ведьма Зинаида, впоследствии кладоискательница, а теперь экстрасенс!»
– Да-да, сейчас объясню, – отозвалась она, – в стабильно-трансцендентном слое находится восьмая цивилизация. Она занимается восприятием мыслеформ других галактик и космических токов, а также регистрацией уровня локального излучения и скоплений Манвантары.
– Так, Зина, говори, что там еще у нас новенького? – повелевает прозорливец.
– Теперь наш пентакль и тетраграммон – святой Александр Свирский, – важно отвечает Зина.
– Ага! – радуется кто-то. – Другие так, не очень святые. А этот – очень! Его мощи после революции в Институте военной медицины исследовали. Не можем объяснить, говорят…
– Да. Теперь он наш поводырь в тонком мире. Деву Марию отчислили. Она теперь нас не курирует, – объясняет Зина.
– Как могут отчислить Деву Марию? – ужасается Валентина, сидящая рядом со своим конкурентом.
Формально дама-градобойца из Нальчика еще сохраняла пост главного духовного просветителя нашей семьи. Но, увы, только формально!
– И что такое тетраграммон? – воскликнула она, еще недавно проповедовавшая нам «Розу мира» с ее эгрегорами и хоххами. – Это вообще не русский язык!
Она шумно встает, двинув стулом, и уходит на кухню.
Я разделяю ее возмущение: лысый скучный инженер не может сравниться с ней, ее поэзией и всяческим изяществом – внутренним и внешним. Даже несмотря на некоторый прагматизм в виде тощего тюфячка на нашей кухне.
Да и маме этот новый «учитель» нужен единственно для того, чтоб отправить Валентину в ее прекрасный Загорск «с особенным небом». Чуть не год прекрасная жительница Кабардино-Балкарии обитала у нас на кухонной лавке – с перерывом на лето. И все время проповедовала нам – однако рок я слушать не перестала, к ужасу мамы. Может, новый гуру поможет? Он не лирик, как Валентина, у него все точно подсчитано: на сколько процентов я испорчена и сколько процентов данной космосом энергии надо приложить, чтоб освободить меня от моих пагубных увлечений.
Я пошла в кухню, где сиротливо лежал на лавке Валентинин свернутый матрасик с торчащей из него простыней. Рядом с ним сидела наша жиличка и экс-наставник, свесив голову.
За столом я увидела черноголового человека.
Глядела в оторопи: человек мне известный, а кто он? Узнала по темной грубой руке, державшей ложку. Степан, жердяйский Степка, пьяница, плотник, печник, любимец Крёстной и ее попечитель!.. Теперь вдобавок поджигатель. Зарос смоляными волосами – не узнать. Борода седая, топорщится во все стороны.
Я подсела со своей тарелкой. Они с отцом допивали портвейн, вспоминали позднюю осень в Жердяях.
Отец тогда жил из последних сил в наспех проконопаченной избе: достраивали веранду.
– Ты меня помучил, холера, – посмеивался отец, – помнишь, колотился за полночь, разбудил… плачешь. Порвало ленту конвейера, ты руку по плечо в навоз, камень нашаривал… Унижен, жалко тебя. Я не устоял, отдал тебе бутылку. Утром перед плотниками оправдывался: снег с дождем, а где я им возьму?
– Обманул я вас с Евдокией тогда, – повинился Степка, – не запускал руку в навоз. Поскользнулся и вывозился. Говорю Серому: пойдем, выставлю Петровича, жалостлив он, охоч да сантиментов.
– Отработаешь, – сказал отец.
Он обиделся:
– С тебя камин. В мае навезу глины.
– Проехало, Петрович… – Степка померк.
– Ты деревню мог спалить, – сказал отец.
– Твой дом далеко. Я был поддатый, конечно. Но голову не терял. Огонь тянуло на овраг. К тому же у Крёстненькой крыша была железная. Осела и накрыла огонь, не сыпало больше. Да и я до утра в елях простоял…
– Посадят, посылку пошлем, – сказал отец.
– Нельзя мне в зону, не выживу. Я старый. Два года лежит заявление соседа по Малым Жердяям. Он живет в Москве, к матери наезжает. Сука мордастая, родился для собачьей службы. Мало быть охранником, пошел в исполнители. В Бутырках был исполнителем, палачом. До пенсии. Толкнул меня на станции. Ух, у нас ненависть! Здоровый, – я ему по плечо. Упал ему в ноги, дернул, он навзничь. Я ему врезал по печенке! Поддатый был, – накатило. Быковат, за драку с дружинником сел первый раз. После первая жена, бухгалтер, посадила. Довела зудежом: мало денег! Так я выгреб ее тряпье из шкафа, изрубил топором… Летом вон в электричке встретил капитана райотдела. Знаем, ты спрятался в Жердяях, говорит. Сиди, пока не до тебя. Теперь второе заявление – поджигатель! Нынче заведут дело.
– Выживешь, Степа, – сказал отец. – Помнишь, рассказывал, как в карцере ночевал? Мороз под сорок, звезды видать сквозь щели. Спасался силой воображения. Будто лето и ты идешь по Свиной поляне.
– Не так, вдоль речки. За омутком было местечко, сходились с Галей. Мне семнадцать, ей шестнадцать. Тогда Крёстная подталкивала Галю: поди за Степу. У меня бы жизнь вышла другая, дети Галины наши б были… Эх, Крёстненька меня с того света бережет. Как сдался милиции, захотел отпроситься из кепезухи.
Отпускали, как же, тещу проводить в могилу. Слышу ее голос: сиди, не рыпайся. После Серый рассказал. Захватчики вызвали сына из Мурманска, оформлять полдома Крёстной на его имя. А дом сгорел и дыма нет! Сын захватчиков прикандехал на похороны с молотком за голенищем. Серого случаем не убил, – дружки перехватили руку. – Степка опять заговорил о Крёстной, прослезился: – Мой ангел, моя рыбка! Моей бабке сдула бельмо. Травы знала! Глядела свысока на жердяйских – и боялась. Я ночью газету читаю, просит: выключи свет, подумают ведь, будто ворожить собралась. А премудрая была. У нас корова сбежала, пять дней искали. Крёстной сказали, она посидела, глаза закрыла: там-то ищите, отелилась… Серый сходил, привел корову с теленком…
На прощание Степка повеселил общество и маленько обобрал. Он поставил кружку в нашей большой комнате, перешел в прихожую и отсюда метнул монету, так что она угодила в кружку. Предложил десятку тому, кто повторит его удар. За попытку требовал рубль.
Блаватская и наставник с его инопланетными цивилизациями были забыты. Ревнивый муж отдал Степке пятерку под возгласы разгоряченных игроков. Потом еще и еще. Рублей сто набрал Степка и отправился на вокзал.
Вслед за ним ушла и Валентина, наскоро попихав свои немногочисленные пожитки в рюкзачок:
– А еще духовные ученики! Устроили казино! – Сказала, оберегая свою гордость: – Мне здесь оставаться нельзя – а то дар потеряю.
В дверях я спросила ее, куда она идет. Сказала, уходит к подруге-астрофизику во Фрязино, теперь астрологу. Я поблагодарила ее. За то, что привносит в мир поэзию.
Мама наша с трудом переносит чужих, а уж при виде скопища готова забиться за шкаф. Жалуется, что не знает, о чем говорить, когда приходят новые люди, как их развлекать. Брезглива. Не пойму, как она все это время терпела Валентину?.. Только из великой любви ко мне: думала перевоспитать меня ее силами. Но Валентинин срок вышел – и маме подвернулся новый гуру, не последним достоинством которого было наличие собственного жилья в Москве. Однако это была крошечная квартирка в Бирюлеве по соседству с Иваном Кататоником. Туда бы никто из передакропольцев ездить не стал. А у нас трехкомнатная квартира, да еще в центре! Прихожая с комнату! Есть куда ставить кроссовки, ботинки и сапоги учеников, их зонты, сумки, пакеты и авоськи со страшными синими курами, железные сетки с яйцами, коробки с сухим иностранным соевым мясом и молоком – спасением для хозяек.
Я подслушала в коридоре: дескать, новый наставник посылал невидимые сигналы маме, настраивал ее на долговременное присутствие в доме новых людей. Но видно, не добрал, так что мама наша народ-то пустила, а вот под предлогом ремонта на унитаз доску положила – и ведро сверху. Вроде как не работает туалет. Побоялась заразы. Я, уплетая в кухне свежеиспеченный пирог и раздражая его запахом передакропольцев, видела, как Зинаида провела учителя в туалет и стояла на стреме в коридоре.
Наутро маме позвонил наставник и сообщил, что, судя по характеристике биополя, Степка типичный вампир и тянет у моего отца энергию. Отец на такое сообщение отмахнулся: «Степка не худшая из ловушек жизни». Вслед за главным экстрасенсом позвонила Зинаида и сказала, что квартира слишком загрязнена и занятия будут проводиться в другом месте.
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ (ЛЕВЫ)
На дворе стоял февраль. Целыми днями я думала о Борисове, ночами мне снился только он. Подобное уже было, когда меня мучил Цой.
Я ищу встречи с Бо, иду на его концерт, в зал меня не пускают, и я стою на пороге здания, где он поет. Меня прогоняют, я все равно стою и жду. Наконец выходит он. Я к нему бросаюсь, а он оказывается Ольгой Спартаковной. Она кричит на меня и бьет гитарой. Ее ассистентка объясняет мне, что Б. ее ценит, потому что она недавно прилетела из космоса, а Борисов очень занят и не приедет.
Решительно все сны начинались тем, что я его искала, и кончались тем, что я его не находила.
Однажды Саня позвонила часов в десять вечера. Сказала «Машка», а потом долго молчала.
– Слушай, давай встретимся у меня на «Курской», – наконец выговорила Саня, – прости меня, – боюсь, не пустят к тебе на «Беговую».
– Да что случилось-то хоть? Уже десять часов, на «Курскую» зачем-то…
– Выходи сейчас же! – И зарыдала.
– Мама, я на «Курскую», к Сане. Ей очень плохо, – бросила я на ходу, накидывая куртку.
– Что-о? Да ты знаешь, сколько сейчас времени?
– Мама, мне нужно!
– С ума сошла! Не умеет ничего, не учится, из школы собираются выгонять! Почему мы не наняли ей учителя английского в четыре года, как сделали это родители Маши Рыбниковой и Наташи Синельниковой?.. Ты, Ряховский, – обратилась она к отцу, – что с ней сделал? Ты ее не воспитываешь. Таскаешься по богадельням…
– По Домам творчества!.. Да я скоро совсем от вас сбегу. Надоели, две истерички! – выпалил папа обычный свой текст.
– …и по телефону трепешься. Больше ни к чему не способен! А ты – неграмотная! Ни Феллини не видела, ни Достоевского не читала, только этот сальный пьяница, матерщинник. Ходишь как в бреду и повторяешь: любовь как метод чего-то там…
– Вернуться домой, – тупо произнесла я и тут же забыла, где нахожусь.
У меня иногда бывает такое от переутомления, и взгляд прилепляется к одной точке, и время останавливается.
– Знаешь, что для твоего бобика любовь? Секс!
Это слово мама произносит через «е», а не через «э» – стесняется.
– Бобик! Шариков!
И, считая, что это самый веский аргумент в ее пользу, она замолкла. Она была совершенно уверена, что я никуда не поеду, и ушла в свою комнату.
Папа воспользовался паузой и начал мне рассказывать о Дмитрии Донском, но я сказала, что мне надо срочно позвонить и я приду к нему потом.
Так… куртка… сапоги… шарф… Через три ступеньки по лестнице.
Сзади слышен мамин топот и истерический вопль: «Маша!»
За угол!
Метро «Курская», Яковоапостольский переулок.
Саня стояла бледная, взлохмаченная. Она и обычно выглядела курёхой – будто что-то потеряла или кого-то ищет, – но сегодня ее потерянность отдавала безумием.
В одной руке подруга держала какую-то книжку, другой – прижимала к себе священную пивную бутылку, что мы получили от Бо. До синевы в пальцах прижимала.
– Куда? – спросила я.
– Куда-нибудь, – едва выговорила Саня. Вышли и побрели. На ходу курёха намба ту ударяла себя по лбу бутылкой Борисова, упорно и ритмично, на каждом втором шагу. Я глядела на нее со страхом.
– Смотри, мне дали книжку, – наконец заговорила Саня, отняв проклятущую бутылку от головы. – «Аква 1972–1992» называется. И… Ну, в общем, там написано, что Левы нет.
– Что? Умер? Санька…
– Нет. Хуже. Его вообще никогда не существовало. В природе. Вымысел.
– Как это?
– Мы пропали. Бога нет. Человек произошел из обезьяны, если единственным, что доказывало его, мира, надмирность был…
– Тьфу ты, что ты городишь! Мира надмирность, человек из обезьяны… Левы нет? Да это бред!
Саня внезапно кинулась вперед, добежала до фонаря, прислонилась к нему и тоном раздраженной учительницы начала:
– Лев Такель: явление мифа. Сейчас речь пойдет об одном из важнейших явлений, которые необходимо правильно понять и оценить. В процессе изучения истории «Аквы» мы вначале оказались безоружными перед этой загадкой…
– Ну, правильно, загадкой святости Левы. Что ты прям сразу…
– Молчи. – Зубы Сани стучали. – «Та реальность, которую ты создал, оказывается более реальной, чем та, из которой ты пришел. …И мы поняли: надо оставить этих людей при своем. Пусть веруют…»
– Я ничего не понимаю. Кого? Кого оставить? – в растерянности спрашивала я и тоже начинала стучать зубами. – Зачем ты меня позвала?
– «…ведь объединенной энергии этих людей хватило на то, чтобы создать этот источник внутреннего равновесия, материализовать его и дать ему имя: Лев Та-кель…»
Молчим. Замерли. Слов нет. Потом Саня опять, торопливо:
– «В восемьдесят шестом году Такель был объявлен бросившим курить и пить, в восемьдесят восьмом он якобы вовсе ушел из группы. Чудо гостеприимства… Мандариновый сок – любимый напиток…» Гы-ы… – Саня ревела, – интеллигентный и тихий, иисусоподобный… А-а-а…
До меня доносились отрывки слов.
– Да ну тебя! Что, ты в самом деле этому поверила? – вскричала я. – Мистификация о мистификации! Журналисты любят скандал. Цель – разжечь угасающий интерес таких вот, как мы. Да замолкнешь ты когда-нибудь, а?
– «…На запрос „Ленгорсправка“ ответила… – Саня не щадила меня и читала дальше: – В Ленинграде проживает одиннадцать Такелей…» А-а! – выла Саня. – А-а! Пять двойников для концертов…
– Ты заткнешься или нет? – Я не выдерживала.
Дома истерики, здесь истерики.
– …Нанята благородного вида седовласая «мама Левы», проживающая в старинном доме по адресу…
Тут я вцепилась в книгу, но Саня ее крепко дер жала.
Я поцарапала ей руки и все же вырвала ее. Бросила в сугроб.
– Это не моя книга, теперь сама ищи… плати! И все-таки ты дура! – кричала на меня курёха намба ту, и в ее голосе звучала злоба. – Это все из-за тебя! Это ты вовлекла меня в эту болезнь, дура! Я просто любила его песни – и все! И ничего больше мне не надо было!
Саня двинула священной бутылкой о столб. Брызнул фонтан стекла. В руке Сани теперь торчала «розочка». Я испугалась, что она порежет себя или меня. Дар добра и любви превратился в оружие мести.
– Зачем ты меня позвала, а? – вскричала я. – Бутылкой этой борисовской трясешь! И орала бы все это своим родственникам! Тетке, матери, бабке! Я ее вовлекла!.. А кто позвал меня на первый в моей жизни концерт «Аквы»?.. Сама ищи, плати! Вот твой меркантилизм, твой страх перед миром, твоя любовь к единственной подруге!..
– Это называется шантаж! Я сказала в порыве – а ты употребила! Не нужна ты мне, шизанутая!
Тут из арки стало появляться Санино семейство, один за другим: тетя пенсионного возраста – одна штука, бабушка – одна штука, мама – одна штука, маленький брат с садистскими наклонностями – одна штука. Все юристы, – кроме брата, он – будущий. И кроме отца, переводчика с французского, – тот в очередной поездке. Тетка заорала:
– Мы ее ищем! В милицию уже звоним, а она здесь бе-се-ду-ет!.. В семье вроде все нормальные, все в университете учились, работали, а она дурой родилась.
– Сидит целыми днями на диване и слушает этого урода! – вопила мать.
– Где ты теперь, поручик Кабанов? Ты на балкон выходишь без штанов! – пропел пятилетний брат.
– Слушает-слушает, а потом ночью по темному коридору до туалета пройти боится! – добивала бабушка, бывший прокурор. – Вчера сказала, что юриспруденция – это операция на мозгах и припарка для отупления и что все мы давно умерли, а она одна жива!..
– Один день вообще голая по квартире таскалась! – прокричала Санина мать. – Говорит, я так ощущаю себя человеком! А одетой она кем себя ощущает? Тьфу! В ее комнате убиралась. Пустую бутылку хотела выбросить – она как крикнет: выбросишь – убью!
Один Санин маленький брат молчал, ковырял в носу и вытирал пальчик о Санину куртку.
– Если хочешь убедиться сама – езжай завтра на концерт, – очень грустно сказала наконец Саня. Она даже не слышала того, что говорили о ней ее родственники. – Борисов ездит по волжским городам, поет. Завтра он будет в Калинине.
Она повернулась и зашагала домой вместе с семейством, бросив по дороге остатки нашей реликвии в мусорку, – а я вдруг крикнула:
– Подождите! Дайте мне денег! Сколько есть? Ищите по карманам!
Мне было выдано рублей сто пятьдесят с полнейшим недоумением: «А вот эта еще хуже. Совсем конченая».
Домой возвращаться нельзя, – не пустят в Калинин. А мне надо узнать правду!
ВСТРЕЧА С БОРИСОВЫМ
Ночь. Я в Калинине. Вокзал новый отстроили. Белеет в темноте.
Пошла в зал ожидания – куда мне еще? Забилась в угол и проспала в пластмассовом кресле часов до девяти. Разбудил шум.
Пошла искать улицу Октябрьскую, там, кажется, этот ДК.
Калинин – наполовину город, наполовину деревня. Деревянные дома, между ними – «коровьи тропы», как писал маркиз де Кюстин о русских дорогах. Неприветливые лица редких прохожих. Видно, что всем фигово жить и дома есть нечего, а они хотят ходить исключительно в белых носках, как Князь, наш питерский приятель-панк.
ДК. С колоннами. Черно-белые афиши. Рыжая борода – знаю – держит голову на локте, смотрит на пустые граненые стаканы.
«Нет, ты мне все же объяснишь, зачем это все, и Лева…»
Вот длинноволосый. Спрошу.
– Слуш, ты не знаешь, сегодня будет Бо?
– Завтра. В семь вечера. Гостиница «Волга», номер 27, люкс.
«Ага, получила в два раза больше информации, чем просила. Это знак, как сказала бы Валентина! Что надо идти к нему».
Гостиница. Красная с зеленым дорожка, протертая до дыр.
Вахтерше:
– Вы не знаете, Борисов уже приехал?
– Что я, все фамилии, что ли, запоминаю?
– Ладно, я сама посмотрю. Можно?
Навстречу мне выглянула молодая заспанная грузинка. Распахнула дверь, стоит, а позади куча детей.
– Простите. Я ошиблась.
Потащилась куда-то. Искать кафе. Парадокс жизни – жить не хочется, а есть хочется.
«Все мои надежды были в Нем. Когда плохо – школа, дом, друзей нет, – говорю себе: Борисов – и счастлива. Просто оттого, что он есть. Да, не буду отрицать, были надежды у нас с Санькой на встречу… Да, сначала мы „остались одни“, без него, две тоскливые курёхи, – а теперь только я… верна этому имени. Да нет, не верна, просто я хочу до конца выяснить: кто он такой и существует ли Лева».
Съела какую-то жесткую котлету, видом напоминающую стиральное мыло. Макароны все слиплись, перепутались, как и мои мысли. Бродила дотемна.
Что было на следующий день – совершенно не помню. Помню – чуть не заболела, дожидаясь вечера. Зачем-то искала цветы для него, по старой привычке и чтоб чем-то занять себя.
Наконец вечер. ДК. Знобит – нет, все-таки это нервное, а не простуда.
Ох! Как я не подумала! Это же провинция, это не скандальная Москва, где менты сравнительно цивилизованные и часто пускают халявщиков почти без драки и капризов! И впрямь: один-единственный хиппаренок прыгает возле двери в ожидании милости. Все остальные – по билетам. Я судорожно копаюсь в сумке и, подняв взгляд на ментов, драматически произношу:
– Вы знаете… Такая ситуация… Я билет дома забыла. Я из Москвы приехала…
– Забыла – езжай обратно. Может, еще успеешь! – захихикал один и взглянул на другого.
Торчала до тех пор, пока ДК не стали запирать. Ничего себе новшество! Теперь двери на время концерта запирают?!
– Слушайте, если я не попаду туда, – показала я на фойе, – я умру. Понимаете, умру.
– Вот бессовестная, иди, откуда пришла, – схамил мне дядька в красной повязке. – Убирайся, говорят тебе!
Я обратила свой взор к еще нестарому менту, что с виду подобрее:
– У вас что, сердце каменное? Пустите! Я та-ак хочу его видеть, я ехала из Москвы… – Пошлой фразой про каменное сердце я всегда заканчивала свои просьбы, когда в Москве шла вот так, на халяву, – и пускали.
Еще пять минут рукопашной: я влезала – меня отпихивали грубые руки, – и я в фойе. Как это гадко все! Кидаю пальто тетке и слышу:
– …Святой Кристофер нес Христа. Они перешли реку и стали пить смесь…
…Ну как описать его голос? Я бы пошла за этим голосом, если бы он раздавался из газовой камеры! И поет эту дрянь, эти басни, и мотает чубом… Зарос! Прошла и села в первый ряд – немного, однако, в Калинине народу-то! Где-то в левом углу сцены из-за кулисы выглядывали высоченные каблучищи. Головы не было видно, а зачем мне голова, я и так знаю, что у нее клыки и рога! Спартакодонт зубастый!
Допел про святых Германа и Петра и замолк. Немного перебирал по струнам и вдруг начал:
– Россию-то спасать надо. Русь спасать. Русь, понимаете? Святым надо молиться о спасении Руси, да недалеким, те нас не слышат, библейские-то, гиганты, а тем, что ближе к нам… Пустыньским старцам, дожившим до смуты, – Феодосию, Анатолию, можно Нектарию. – Помолчал. – Тем, что нас, грешных, больше понимают, потому что сами они не в меду и ладане плавали… – И хихикнул, и вот опять хихикнул, потом стих, театрально загрустил. – Объединяться надо русским, и никакие нам казахи не нужны.
Столицу сюда, в Калинин, то есть в Тверь, перенесем. Водку отменим. И обретем святых друзей, если каждый будет над собой работать. – Почесался, повернув голову набок, как кот, улыбнулся. – Ну и любовь, конечно, любовь. Сострадание, милосердие, такие русские качества…
Полуназидание-полухохма. Забыл еще про церковнославянский язык, на котором мы все станем говорить. Этакое нам Валентина предрекала.
Потом, через год, вслед за публикой, он увлечется и даосизмом, и буддизмом. А потом – ни-че-го.
…Он пел о любви:
– Ты нужна мне – вечер накануне волшебств!.. Это вырезано на наших ладонях, это сказано у Пифагора…
И я опять трепетала. Правы, что ли, были некогда мама с бабушкой, испуганные моей страстью к группенфюреру Штирлицу и к французскому генералу, портреты которого я тиражировала в немыслимых количествах?.. «Быть ей рабой мужчин!» – сказала тогда бабушка маме, – а она-то знала, о чем говорила.
Несколько хиппов со свечами встало, потом весь зал. Пели хором.
– …И царица сказала: подбрось в печку дров и отвори окно!
Стихли последние ноты – и я бегом, скачками, с горсткой самых яростных – за сцену. Лабиринты коридоров и множество запертых служебных комнат. Куда бежать? Одни наверх, другие вниз. Я, следуя своему подсознательному желанию летать, понеслась вверх, ближе к крыше и небу. Там оказался тупик. Откуда ни возьмись – мент:
– Куда-а-а? – и хохочет, хватает, тащит, я бьюсь, ору. – Концерт кончился. Вы не знаете, где выход? – И опять хохочет, усы шевелятся.
«Вот мерзость. Таракан!» Бегу от него, он за мной. «Проводил» в фойе.
Там я от него в туалете спряталась. Просидела минут пять, пока публика чуть-чуть рассеялась, и села на подзеркальник в ожидании сошествия из гримерной. Ко мне девочки подкатили, кричат:
– Что ж ты наверх побежала! Надо было вниз! А нам автографы дали! Пьян до ужаса и еще сидит лакает. И подруга в углу, морда красная.
Убежали. Две старухи в повязках выгнали меня на улицу. Стояла минут пятьдесят, и вот шепоток среди поклонников: «Идет, идет» – сменяется всхлипами и воплями.
Шествие возглавляет какой-то культурист в коже, за ним еще два таких же, потом музыканты, потом Ольга в длинном красном пальто на своих козьих каблуках, в сиреневом берете и таком же шарфике, потом…
Потом я срываюсь с места, пробиваю грудью ряды впереди идущих, подбегаю к нему и с придыханием – в горле спазмы:
– Дорогой мой, а как же любовь как метод вернуться к себе? Неужели обманывал всех? И Левы нет? Скажи, только ответь… Одно слово – наврали! Мистификация! Лева есть! И все! Ответь! – твердила я одно и то же, а он не поднял глаз, повернулся спиной и пошел к машине.
Я кричу ему и вижу его коричневую спину. Он слышит, я знаю.
И я знаю, что значит это молчание.
– Вы раскаетесь, вы еще раскаетесь, но будет поздно! – ору я изо всех сил. – Колокол прозвонит, и вы окажетесь за чертой. Он навсегда отделит одно от другого!
И откуда вдруг взялись эти слова маминой приятельницы Валентины, работницы обсерватории, хранительницы чистого неба, которая некогда заставила меня снять портреты Цоя со стен?! Да что там – и Капа говорила всегда то же самое! Да, да, это были именно Капины слова!
Дверца «Волги» – хлоп. Как сейчас помню – белая «Волга» на белом снегу. Красные фары. Если б не они, совсем бы не отличить белой «Волги» от белого снега. Фантом?..
Ну и шатает же! Куда ветер, туда и я. Брожу по черным улицам, ноги еле идут.
Посмотрела расписание. До последней электрички – она идет в 0:45 – два часа. Чужой ночной город. Бреду по пустой улице. Кроме меня по ней шла еще одна кривобокая собака, да и та, все-таки обретя какую-то цель, перешла на иноходь и свернула в подворотню.
Все какие-то дворы, дворы, собаки, собаки. Вот старуха вышла набрать воды из колонки. Спрашиваю у нее:
– Где у вас почта? – Почему почта – не знаю, но мне кажется, что там и есть спасение, ведь по почте можно послать письма и рассказать в них о своем горе, к тому же там светло и тепло.
– Дочка, как ты поздно, – ответила старуха и начала объяснять, как туда идти.
Но я уже кричу ей на бегу:
– Поняла я, бабушка, все поняла! – Вдруг меня охватила веселая огромная ненависть. – А я его ненавижу! А я его прокляну! А я перестану молиться за него, и он разобьется на машине или утонет – и смерть его будет так же внезапна, как и мое сегодняшнее прозрение!
Вокзал. Почта. Писчей бумаги нет, пишу на телеграфных бланках.
Измазалась чернилами. Пишу Типе, Пудингу, Князю, Ивану Кататонику, Валентине – и Сане, сама не зная зачем, ведь скоро позвоню и сто раз все перескажу, а письмо придет через неделю.
Пишу всем один текст. Начинается как-то так: «Сегодня День Имени Конца. Конца Света. Дьявол Ангро-Майнью в Авесте называется Отцом Лжи, потому что ложь – отец зла. Кто-нибудь, откликнитесь! Я вам пишу из будущей столицы нашего государства, ведь мы отменим водку и никакие нам казахи не нужны. Ответьте мне, пожалуйста…»
«Господи, а их адреса? С Князем все просто – номер его абонентского ящика в Свердловске – 120017. Мне будет семнадцать. Адрес Типы во Львове: улица Гагарина 12, 18. Встретились в Питере, Питер – летучий город, Башлачев летел вниз, Цой – вперед. Это было легко запомнить. Адреса Пудинга я не знаю, но напишу ей, например, на улицу Летчика Комарова, 75, 24. В семьдесят пятом году я родилась, 24 мая это случилось. В Питере, без сомнения, есть улица Комарова… Иван Кататоник живет на улице Бирюлевской, дом 32. Уль вписывается на Петровке, там мы его голым видели. Елена Прекрасная купила дом в Оптиной. Валентина приходила к нам забирать вещи, сунула мне открытку с адресом, мол, приезжай ко мне в Загорск, купила квартиру. Вот эта открытка, в кармане. Написать той герле, к которой мы с Саней в гости ходили! Она еще в дурдоме лежала! Адреса Кати я не знаю, но помню телефон».
Звоню, сонный мужской голос поднимает трубку, передает Кате.
– Какой Лева? Как не существует? Да ну тебя, дурочка бедная… – И, спокойно, ласково, по-взрослому, по-женски: – Бросай ты эти глупости и заведи себе мальчика. Я вот замуж выхожу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.