Текст книги "Чертов мост"
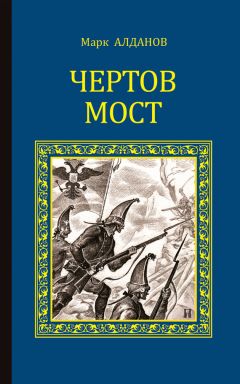
Автор книги: Марк Алданов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
11
«Тогда молодой человек начал говорить – не языком романов, но языком истинной чувствительности: “Наталья, прекрасная Наталья! Любишь ли ты меня? Твой ответ решит судьбу мою: я могу быть счастливейшим человеком на свете, или шумящая Москва-река будет гробом моим”. – “Ты мил сердцу моему, – прошептала Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его. – Дай Бог, – промолвила она, подняв глаза на небо и обратив их снова на восхищенного незнакомца, – дай Бог, чтобы я была столь же мила тебе!”»
У Штааля выступили слезы: так нравилось ему это место повести.
– Настенька, какой прекрасный сочинитель господин Карамзин! – сказал он дрожащим голосом.
Каждое поколение любит по какому-нибудь писателю. Штааль любил по Карамзину.
Не получив ответа, он оглянулся на Настеньку и увидел, что она спала на боку, прикрыв глаза платочком от солнца, близкого к закату. Настенька уснула под его чтение.
В Милан они переехали из Венеции уже довольно давно. Как всегда без объяснений, Баратаев, вечером после возвращения из Дворца дожей, сообщил им, что они покидают Венецию на следующий день. Образ жизни их почти не изменился на новом месте. Баратаев работал в библиотеке, а они развлекались, как могли. Часто совершали вместе большие прогулки за город. В этот день они гуляли очень долго, Милан был в пяти верстах. Уже за обедом в траттории Настенька чувствовала себя усталой и даже заметила – не напрасно ли они выпили целую бутылку пахучего Vino nero, которое подавалось в таких милых, уютных летних корзинках (это вино зимою, без солнца, казалось, и пить было бы невозможно).
Штааль положил книгу, радостно полюбовался спящей Настенькой и сам с наслаждением откинулся на траву, расправив кафтан так, чтобы его не смять. Правда, Настенька говорила, что на настоящем мужчине костюм должен быть немного помят, но Штааль не разделял ее мнения; он всегда чувствовал себя гораздо лучше и самоувереннее, когда был безукоризненно одет, – не знал, что почти такое же приятное чувство дают нищему лохмотья (только платье среднего качества неприятно). «Не позеленел бы кафтан от сырой травы! Глупо будет гулять с зеленым пятном сзади…» Штаалю вообще не нравился его штатский костюм, он успел привыкнуть к военному мундиру. Особенно досадно было отсутствие оружия. В траттории, где они обедали, за соседним столом расположилось много французских солдат… Они могли задеть, оскорбить Настеньку – что бы он стал делать безоружный? И хотя французские солдаты вели себя, грех сказать, очень прилично, уважая, согласно своим обычаям, права кавалера, с которым находилась дама, Штааль все-таки торопился кончить обед и тотчас после десерта увел Настеньку в садик над большой Миланской дорогой. Траттория была шагах в тридцати, и окна ее выходили на другую сторону. Оттуда доносились голоса и взрывы веселого смеха.
Штааль лег на грудь, повернув голову так, чтобы видеть Настеньку. Глаза ее были закрыты платком, рот, чуть открытый, слегка улыбался. Подумал, что, быть может, Настенька притворяется спящей: разве люди могут спать улыбаясь? Она привыкла к театру, значит, вдвойне притворщица: как женщина и как актриса. Это замечание показалось ему тонким, и, как всегда, он почувствовал удовольствие от сознания своего ума. Но, вглядевшись ближе, Штааль заметил, что Настенька действительно спит. Самая лучшая актриса не сумела бы так верно изобразить ровное дыхание сна… А вот муравей, обогнув быстро сырой просвет, переполз с травы к ней на шею: если б Настенька не спала, она непременно вскрикнула бы и затем, сбросив муравья, еще долго бы ахала и ужасалась, – значит, спит. Наблюдение это было тоже очень проницательно и опять засвидетельствовало Штаалю тонкость его ума. Одну минуту он взвешивал: не лечь ли ему удобнее и не поспать ли самому полчасика, если все равно Настенька спит; с удовольствием чувствовал, что может заснуть в любую минуту – стоит только повернуться немного на бок и прикрыть от солнца глаза. Штааль чрезвычайно любил спать. Но и так лежать было очень хорошо. «Ведь не всегда я буду вдвоем с Настенькой, далеко от Баратаева, далеко от всего знакомого мира и на таком прекрасном ландшафте натуры? Вдруг эта минута больше не повторится?» Что-то на мгновение его кольнуло, потом прошло. Штааль лениво повел глазами, не кругом – нельзя было, потому что лежал он на груди, – а столько, сколько позволяла шея: увидел обвитую плющом стену траттории, лицо и шею Настеньки, зеленые и желтые неравные непараллельные былинки сырой пахучей травы, серые просветы земли между ними, серебряную бумажку («она как сюда попала?»), двух муравьев и книгу, которая лежала на траве корешком вверх, так что часть страниц неровно загнулась («не поправить ли? нет, Бог с ней, лень протягивать руку»). И вдруг опять его укололо то самое. Он еще полежал с минуту, бессознательно стараясь ускользнуть от этого, затем принужден был дать волю сознанию: конечно, нехорошее – то, что все это уже когда-то было. Это всем известное ощущение, знакомое Штаалю и по опыту, и по книгам, было ему очень неприятно.
«Когда же, где и что было? И почему неприятно (нет, хуже чем неприятно), если даже было?» – тревожно спросил он себя.
«Да, было. Все было. И Настенька, и книга… Только где и когда?»
Он подумал, что Настенька была не Настенька, а кёнигсбергская немочка Гертруда («где она теперь?»), и читали они не «Наталью, боярскую дочь», а «Страданья молодого Вертера», и не он читал, а она… Она читала по-немецки, он плохо понимал… И весна тогда была, а не лето, и вообще тогда было совсем другое… Но кажется, задолго до того было что-то гораздо более похожее на это, но где и когда – и с ним ли, или с другим – он решительно не мог вспомнить: не только не мог вспомнить, но не мог и вспоминать: на этом трудно, невозможно было сосредоточиться – мысль тут точно обрывалась перед краем, будто не ее это было дело. «А может быть, не было, а будет?.. Что за вздор!» Штааль вдруг почувствовал тревогу. Ему захотелось разбудить Настеньку.
– Настенька, – нерешительно сказал он негромким голосом, предоставляя Провидению решить, проснуться ли ей или нет. Настенька не проснулась. Но звук собственного голоса тотчас успокоил Штааля. Он пожал плечами, взял книгу и, чуть подняв повернутую голову на правом локте, стал читать на том месте, где открылось. Левая страница была много дальше от его скошенных глаз, чем правая, и лежать на груди было очень удобно.
«Молодой супруг возвратился к своей любезной – помог ей раздеться – сердца их бились – взял ее за белую руку… Но скромная Муза моя закрывает белым платке лицо свое – ни слова!.. Священный занавес опускается, священный и не проницаемый для глаз любопытных».
«А вы, счастливые супруги, блаженствуйте в священных восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте целомудренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей! Невинная стыдливость да живет с вами неразлучно – и нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем!»
«Уже солнце взошло высоко на небе и рассыпало на снегу миллионы блестящих диамантов; но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание».
… – сказал Штааль.
Ему стало очень стыдно: оставшись наедине с женщиной, которую он любил, он сначала хотел уснуть, а потом занялся чтением!
А тут еще такая попалась страница… Штааль захлопнул книгу, поднял голову, лежа на груди, и приблизил лицо к Настеньке.
«Наконец-то эта женщина в моей власти», – сказал он про себя, бледнея, и зачем-то повторил вслух, правда негромко, эту фразу.
У него не было, однако, уверенности в том, что Настенька действительно теперь больше в его власти, чем прежде. Он злым сосредоточенным взглядом оглянулся по сторонам: никого не видно, но траттория, в которой шумели люди, расположена слишком близко…
– Настенька, – опять негромко позвал Штааль, раздевая ее взглядом.
* * *
Прежде насчет веснушек Настеньки могли быть сомнения. Но теперь, всматриваясь в ее лицо на необычно близком расстоянии, при ярком свете летнего итальянского дня, он видел ясно: «Да, конечно, на носу и под глазами ее заметные веснушки. Но они милые. И вообще это ничего, веснушки… они сойдут зимой в Петербурге. А то еще была в “Английском магазине” помада против веснушек… Или это было в “Нюренбергских лавках”? Нет, в “Английском магазине”, у приказчика с острой бороденкой, что слева от входа, красивая такая длинная баночка, стоила три рубля… От Houbigant… Как они, однако, теперь выписывают из Парижа товары? Государь ведь запретил… Очень хороши зубы у Настеньки…» Штааль считал себя знатоком женской красоты и часто, кривя душою, уверял товарищей, что больше всего ценит в женщине зубы и конечности. Зубы у Настеньки были точно хороши. Как будущий писатель (он все возил с собою дневник), Штааль задумался, с чем можно было бы их сравнить, и сразу нашел несколько хороших образов: снег, кораллы, слоновая кость, жемчуг («впрочем, вовсе он не белый, жемчуг, и вообще совсем не похож на зубы»). На губах у Настеньки играла теперь улыбка, которая казалась Штаалю насмешливой и немного его раздражала («чем же я виноват?»). Вглядываясь внимательно, он заметил у нее между зубами у десен следы итальянского сыра с луком, который в траттории подавали вместо десерта. И тотчас ему представился запах этого сыра (он его не ел, хоть и хотелось: закончил обед рюмкой марсалы). Штаалю показалось, что он почувствовал отвращение. «Неужели разлюбил?» – спросил он себя – и неожиданно при этой мысли на него на мгновение нахлынула непонятная тщеславная и злая радость. Он тотчас, однако, опомнился: «Да нет, быть не может… Нет, конечно, я влюблен по-прежнему, больше прежнего… Зачем, однако, она так улыбается? Сердится?.. О чем она думает?..»
Настенька не сердилась и ни о чем важном не думала: она соображала, что, собственно, произошло и почему и как ей нужно поступить. Подумав, она рассудила, что всего благоразумнее молчать, чуть улыбаясь, – это всегда хорошо.
Штааль смущенно закрыл глаза, желая обдумать нечто очень важное («для этого всегда надо закрывать глаза»). Конечно, в последние месяцы любовь к Настеньке составляла весь смысл его жизни. Однако, в сущности, он совращает женщину, близкую человеку, от которого он, кроме добра, ничего не видел… Штааль хотел чувствовать угрызения совести, но не чувствовал их. Напротив, он видел ясно, что до Баратаева ему нет решительно никакого дела. «Хуже было бы, если б я стал себя уверять в том, чего нет. Так я, по крайней мере, правдив с самим собою», – подумал он в свое оправдание. Этого оправдания ему, однако, показалось мало, и он тотчас бессознательным усилием стал искать другое. «Собственно, какие могут быть угрызения совести в наши дни, в пору всяких злодеев! И потом, в сущности, Баратаев не любит Настеньку. Он никого и ничего не любит, кроме своих мыслей. Настенька ему нужна в полночь, как в полдень ему нужны хлеб и мясо. Разве любят хлеб и мясо?..» При этой мысли у Штааля вспыхнула ненависть к Баратаеву. «Поделом ему, что он стал cocu!..[66]66
Рогоносец (франц.).
[Закрыть]» Очень хорошее это слово – cocu… У молодого человека возникли было сомнения, можно ли уже считать, что Баратаев действительно стал cocu. Сомнения эти он, слегка краснея, решил в положительном смысле – и опять в его душе поднялась радость. Он даже не понимал, как могла ему явиться мысль, будто он разлюбил эту женщину. Только в первую минуту ему могло так показаться.
Тут он заметил, что давно открыл глаза, несмотря на важность вопросов, которые его занимали, и смотрел он не на Настеньку (как следовало бы), а на небо. Небо было обыкновенное – хотя и итальянское, но такое же, как везде… «И все это неправда, будто в Италии какое-то особенное небо и прозрачный воздух. Такой же воздух, как летом в России… И в ландшафте натуры тоже нет ничего особенного. В Шклове, в имении Семена Гавриловича, натура будет, пожалуй, почище… О чем же я думал? Да, о Баратаеве, о моей вине перед ним…» Теперь он почти ясно чувствовал, что от сознания вины перед Баратаевым волна радости в нем не только не слабела, а скорее как будто даже росла… Штааль ужаснулся своей безнравственности, но и ужас этот, он чувствовал, был не совсем настоящий. Он стал искать такую мысленную позицию, с которой Баратаев был бы хуже его. Этой позиции он не находил и только подобрал с горечью одно смягчающее обстоятельство: «Собственно, нас и сравнивать нельзя: Баратаев – старик, а я ведь еще так молод», – подумал он, не замечая, что нашел здесь не смягчающее обстоятельство, а именно ту самую позицию, с которой он был во всех отношениях гораздо выше пятидесятилетнего Баратаева.
«Да, в сущности, если разобраться, какой Баратаев мне благодетель? – спросил себя Штааль. – Он взял меня с собой в чужие края – что ж с того? Я был в них и раньше. Он мне платит жалованье, да разве я без него голодал? Правда, он платит щедро, но…» – Штааль подумал, какое могло быть здесь «но», и внезапно ему в первый раз в жизни пришло в голову, что все богатые люди – и богатые от рождения, и только что разбогатевшие, первые даже больше, чем вторые, – немного презирают тех, кому платят деньги: и Баратаев, должно быть, его презирает – тщательно скрывает это, как человек хорошо воспитанный, а все-таки чуть-чуть презирает в одном из далеких чердаков души. От непривычки от этой мысли (к ней люди скоро привыкают) у Штааля кровь бросилась в голову и зубы плотно сжались: «Он мне платит деньги не даром, а за мой труд – не был бы я ему нужен, он не нанял бы… не пригласил бы меня», – резко сказал он кому-то, кто его оскорблял. «Да, да, – отвечал тот, – за то и презирает, что ты даешь труд, а он деньги». – «Но разве можно гордиться богатством?» – «Отчего же нельзя, если можно гордиться умом, красотою, знатной породою? Богатство не такое ли счастье, как все другое, чем гордятся люди? Люди всегда гордятся счастьем – и только им. Чем же другим?» – «Как чем? Благородной душою и поведением моральным», – с негодованием сказал Штааль, забывая недавние свои мысли и проникаясь духом сочинителя Карамзина. Но тот другой молодой человек, который в нем был и шутливо к нему относился, победоносно ответил: «Люди, гордящиеся благородной душою, самые противные из гордецов. А ты лучше сам стань Баратаевым, стань-ка вельможей».
– И стану, дай срок! – гневно сказал вслух Штааль, вздрагивая от неожиданности и быстро поднимаясь.
Со стороны траттории загремели барабаны. Настенька вскочила с легким криком испуга. Штааль прикрыл глаза от косых лучей солнца. Перед большой дорогой быстро строился взвод французских солдат. Люди взяли ружья на руку и повернули головы направо. Офицер, сверкнув шпагой, поспешным радостным взором оглянулся на окаменевший взвод. По Миланской дороге, дымя пылью, кавалерийский отряд несся карьером к траттории. С радостным биением сердца Штааль узнал пышную, красивую форму польских телохранителей главнокомандующего. Впереди на кровном коне скакал, приложив руку к треуголке, генерал в синем мундире. На худом каменном лице страшные глаза смотрели вперед, будто ничего по сторонам не замечая. Тяжелые люди пронеслись вдаль, не замедлив хода, и как зачарованный Штааль смотрел вслед генералу Бонапарту.
12
Не получив ответа на стук, Штааль попробовал дверь и неслышно вошел в комнату. Баратаева не было.
«Ну да, книжный червь уже в библиотеке», – подумал с насмешкой Штааль. С тех пор как его отношения с Настенькой превратились в настоящую связь, он относился к Баратаеву совершенно иронически. Старик по-прежнему ничего не замечал.
Штааль зевнул (накануне заснул очень поздно) и уж хотел было идти разыскивать Настеньку, как вдруг заметил на столе большую тетрадь в черном атласном переплете. Любопытство охватило его. «Чем же наконец занят старый сумасброд? – спросил он себя и стал нерешительно соображать: – Баратаев ушел в библиотеку, значит, вернется только ввечеру… Не почитать ли?.. Собственно, неблагородно… Ну, вот вздор!.. Я его тайн никому не выдам. Да и какие у него могут быть от меня секреты? У нас ведь теперь все общее».
Он выглянул в дверь. В длинном коридоре гостиницы ничего не было слышно. Штааль оставил дверь полуоткрытой, чтобы узнать вовремя, если кто направится в комнату, затем сел, раскрыл лежавшую на столе газету («в случае чего скажу, что зашел ее посмотреть») и нерешительно протянул руку к тетради, заметив предварительно ее положение на столе («вдруг он помнит, как у него все лежит, – от него станется»)… Сердце у Штааля немного билось.
Толстая тетрадь была вся почти исписана. На первой странице был эпиграф:
За ним следовала огромная цифра 2, и под ней подпись: Deux – nombre fatidique.[68]68
Два – число вещее (франц.)
[Закрыть]
Штааля удивил мелкий прямой почерк с утолщениями не по вертикальной, а по горизонтальной линии: старик, когда писал, держал перо между указательным и средним пальцами. Буквы ясные и мелкие прыгали, слова кончались резкими взлетами. Штааль подумал, что почерк этот двойственный, как и весь облик старика. В нервном и беспокойном Баратаеве был богатый барин, с той завидной уверенностью, которую дают знатность и богатство. Остановила внимание Штааля также орфография: так в ту пору уже только немногие писали по-французски. Он принялся читать наудачу. Первые страницы как будто составляли введение и были поделены на отрывки, с заглавиями большей частью латинскими.
Et quasi aquae dilabimur in terraim, quae non revertuntur.[69]69
И проливаемся на землю подобно водам, которые не возвращаются (лат.).
[Закрыть]
Elle etait pourtant belle, la vie, tant que restoit enlicr 1’espoir, la plus grande joie qu,icy-bas nous est clonnee. Je ne suis pas ingrat: j’e n’oublie rien. Fleur dessechee, retrouvee dans un vieux livre en poussiere, le foible vestige de ton parfum evapore m’est une nouvelle et atroce douleur.
Une aventure incomprehensible, odieuse, m’est arrivee: la vieillesse. Le ver du sepulcre me guetle et le temps n’est pas revolu. L’existence des autres que, vivant, je supportais a peine, va continuer sans moy. Tout recommence. Deux choses m’inspirent un degout insurmontable: le cadavre en decomposition et la femme enceinte.[70]70
Она была все-таки прекрасна, эта жизнь, настолько, пока оставалась надежда, наибольшая радость, данная нам на этом свете. Я не являюсь неблагодарным; я ничего не забываю. Засушенный, найденный в старой, покрытой пылью книге цветок, остаток твоего улетучившегося аромата, для меня новая и нестерпимая боль.
Непостижимое, отвратительное событие свалилось на меня: старость. Гробовой червь подстерегает меня, и время нельзя повернуть вспять. Существование других, живущих, которых я переносил с трудом, будет продолжаться без меня. Все обновляется. Две вещи вызывают у меня непреодолимое отвращение: разлагающийся труп и беременная женщина (франц.).
[Закрыть]
Слово cadavre[71]71
Труп (франц.).
[Закрыть] было подчеркнуто два раза. На полях было приписано:
Il est tout. Il est partout. La sociabilite interdit d’en parler. L’habitude empeche d’y penser. Une conspiration du silence s’est faite contre les cendres de notre tombeau.[72]72
Снова он. Он везде. Вслух об этом не говорят. Привычка запрещает об этом думать. Заговор молчания составился вокруг останков нашего склепа (франц.).
[Закрыть]
«Этот труп везде? – подумал Штааль с усмешкой. – Веселенький человечек… Гробокопатель какой-то! Да я, например, ни одного трупа сроду не видел… Нет, видел: Робеспьер… Еще государыня… А все же это вздор… Как есть гробокопатель, дурак этакой…»
Et mon ame immortelle? Derision! Que veulent-ils done immortaliser, ces pederastes hellenes, ces cuistres allemands? Il n’est pas de vice dont je ne retrouve en moy le germe. La difference est infime entre le marquis de Sade et le plus respectable des humains: difference de courage peut-etre, une autre nuance de 1’irrationnel tout au plus. C’est done cela, noble Socrate, quo vcus voulez diviniser? C’est icy, brave Kant, que vous avez decouvert 1,admirable loy morale? Car mon ame vaut bien les votres.[73]73
А моя бессмертная душа? Насмешка! Что хотят они обессмертить, эти эллинские педерасты, эти немецкие болваны? Нет гнусности, на которую я не чувствовал бы себя неспособным. Нет порока, зародыша которого я не нашел бы в себе. Разница между маркизом де Садом и самыми достойными людьми ничтожна; быть может, она в мужестве – это, самое большое, другой нюанс иррациональности. И это то, что вы хотите обожествить, благородный Сократ? Это то, что вы назвали прекрасным моральным законом, честный Кант? Ибо моя душа стоит дороже ваших (франц.).
[Закрыть]
Над следующим отрывком была надпись:
Et videbunt omnem turpitudinem tuam.[74]74
И увидят все безобразие твое (лат.).
[Закрыть]
Но далее Штааль ничего не мог разобрать: весь отрывок показался ему зашифрованным. Только в самом конце, за непонятными словами, было написано:
«И никто же о них погибе, токмо сын погибельный». C’est la parole la plus ambigue de l’Evangile.[75]75
Самая двусмысленная фраза из Евангелия (франц.).
[Закрыть]
Штааль в недоумении перевернул несколько страниц и прочел:
Epipitur persona, manet res.[76]76
Личина исчезает, суть остается (лат.).
[Закрыть]
La pierre de la sagesse est purifiee par le feu philosophique dont l’image est le Phenix renaissant de ses cendres. Tout se repete. Il а у la un mystere, que nul n’a su ddchiffrer. Deux est Ie nombre fatidique.
La connaissance iniegrale est l’ideal que je dois atteindre. Il me trompera peut-etre luy aussy. Mais с est pour la derniere fois, alors, que je serai dupe de l’existence. La haute sagesse, si elle est mensongere, sera au moins mon ultime mensonge.[77]77
Камень мудрости, очищенный философским огнем, есть образ Феникса, возрождающегося из пепла. Все повторяется. Здесь есть тайна, которую никто не сумеет раскрыть. Два – число вещее. Целостное познание – мой идеал, которого я должен достигнуть. Может быть, и он меня обманет. Но это последний раз я стану жертвой обмана жизни. Высшая мудрость, если она обманчива, станет, по крайней мере, моей последней иллюзией (франц.).
[Закрыть]
На этой фразе, по-видимому, заканчивалось вступление. Дальше на белой странице были выведены большими буквами два слова, составлявшие заглавие труда:
КАМЕНЬ ВЕРЫ
Штаалю надоело читать, он ничего не понимал. Равнодушно закрыв тетрадь, он положил ее на место и, убедившись, что все на столе оставлено в прежнем виде, вышел из комнаты Баратаева.
13
…Он говорил по-французски так холодно и равнодушно, как Штааль не мог бы говорить на сцене, когда б играл холодного и равнодушного человека. Баратаев не объяснял причин отказа и не придумывал для него предлога. Это было оскорбительнее всего: если б он сослался на что-либо непредвиденное, если б указал хоть самый глупый, неправдоподобный предлог, было бы гораздо легче снести оскорбление. Но он просто, без долгих слов, предложил Штаалю вернуться в Россию – предложил, ни разу не повысив голоса: только на мгновение слетело с него выражение равнодушия, и лицо его вдруг стало грубым и злым…
Долгие недели Штааль с мучением возвращался мысленно к этой сцене и все не мог придумать, как ему следовало себя вести, чтобы выйти с достоинством из положения, в которое поставил его Баратаев. Глупее, очевидно, нельзя было поступить, чем поступил он, безмолвно и растерянно глядя на оскорбителя. Но что на его месте сделал бы самый умный и находчивый человек на свете – этого Штааль так не мог решить и впоследствии. Всякая просьба объяснить сделала бы еще унизительнее положение, и без того достаточно унизительное.
«Он подумал бы, что я прошу прощения, молю сохранить за мной должность, жалованье… Надо было вызвать его на дуэль… Но он не дал бы мне сатисфакции… Он сказал бы, что не в обычае нашем драться на поединке со служащим, с увольняемым секретарем… И это правда… Я должен был ударить его. Правда, он почти старик… Но я не поэтому его не ударил… И что же я стал бы делать дальше? Ударить и – потом взять деньги. А у меня в кармане три цехина. Будь я богат, я увез бы Настеньку… Будь я богат, я не был бы секретарем, слугой у этого подлеца… Но без денег мы через три дня очутились бы в долговой тюрьме. В Россию не на что было бы вернуться. Письма о помощи писать – кому? Никого и ничего у меня нет… О проклятые деньги!» – думал он, вспоминая подробности несчастного утра.
Штааль сразу почувствовал недоброе, когда слуга, разбудив его в девять часов, с таинственным видом сообщил, что синьорина уехала куда-то с зарею… Правда, отъезд их в Неаполь давно считался решенным. «Но почему такая неожиданная спешка? Почему не выехали все вместе? Почему именно Настеньку послали вперед? Почему она с ним не простилась, а его даже не разбудили?..»
Взволнованный, он поспешно оделся и уж хотел было идти разыскивать Баратаева (еще надеялся, что ничего не случилось), как в дверь постучали: лукаво на него глядя, хозяйка передала, что синьор требует его к себе. У подъезда стоял готовый экипаж. Баратаев, в дорожном костюме, с тростью в руке, только минуту разговаривал с Штаалем. Затем положил на стол звякнувший холщовый мешочек и, поклонившись (но не дав руки), вышел. Звуки колес коляски уже замолкли вдали – а Штааль все еще стоял неподвижно, не приходя в себя от удара, который свалился на него так неожиданно.
Лакей стал с сочувствующим видом убирать комнату, оставленную Баратаевым. Вошел хозяин и учтиво спросил, желает ли молодой синьор (прежде он его называл просто синьор) оставить за собой также и этот номер или только свой прежний.
– Я… я еще не решил, – сказал Штааль вспыхнув.
Он поспешно сунул мешочек в карман, с решительным видом спустился во двор и, спустившись, вспомнил, что идти ему некуда. Хозяйка и горничная разговаривали, весело смеясь, и, увидев его, сразу перестали смеяться. В любовной ссоре старика и молодого человека симпатии итальянцев должны были бы оказаться на стороне Штааля; но то, что старик поступил так хитро и поставил молодого в глупое положение, очевидно, меняло дело. Штааль быстро вернулся к хозяину.
– Скажите, когда я мог бы отправиться отсюда в Неаполь?
Хозяин подумал и ответил тихо, сочувственным тоном:
– Вам нужно было бы получить подорожную и пропуск от французов… Это теперь очень трудно. Старый синьор потратил много денег, а все-таки ждал две недели…
– Как две недели? – воскликнул Штааль.
– Синьор получил бумаги только вчера.
– Вчера?.. Отчего же вы… Но разве нельзя без подорожной и пропуска?
Хозяин посмотрел на него с удивлением:
– Вас задержат на первой заставе.
Штааль, едва удерживаясь от слез, вышел из гостиницы. Он дошел до конца улицы, свернул на другую и бессильно опустился на какую-то скамейку.
«Ну да, этот негодяй ждал паспорта и притворялся, будто ничего не замечает… Он видел нас тогда во Дворце дожей… Быть может, и здесь в Милане… Мы стали слишком смелы… Кто мог подумать?..»
– Gelate… gazoze, – сказал проходивший разносчик.
«Венеция… Площадь Святого Марка… Все было так хорошо… Мы были счастливы… Но как же Настенька, как она согласилась меня бросить? Так легко, без сопротивления… Здесь не Россия, он не мог бы ее заставить уехать насильно… Так вот чего стоила ее любовь, ее клятвы! – думал он (хоть Настенька не имела привычки клясться в любви). – Боже, что мне делать? Гнаться за ними, убить его как собаку?..»
Но он уже ясно чувствовал, что не погонится, не убьет и ничего не сделает страшного.
«Гнаться? “Вас задержат на первой заставе…” Ну да, в военное время… А где они будут через две недели! И на его деньги гнаться!.. Боже, какое положение!..»
Он посидел еще с четверть часа на скамейке, вернулся в свой номер, стараясь пройти незамеченным, и лег на неубранную постель, даже не сдвинув подушки, оказавшейся посредине кровати. Так он пролежал часа два – как он думал, худшие два часа его жизни. Сначала он думал о Настеньке – еще накануне ему казалось, что, в сущности, он ее любит гораздо меньше, чем прежде. Теперь при мысли о Настеньке он испытывал злобную тоску. Часа через два он вовсе перестал о ней думать: злоба взяла верх над любовью и распространилась на Настеньку.
Штааль встал после полудня, почувствовав голод, и машинально стал сбивать пух с кафтана. Что-то с тяжелым звоном упало на пол. Он поднял холщовый мешочек и высыпал золото на столик. Денег было не очень много – приблизительно столько, сколько требовалось для возвращения в Россию. Все было, очевидно, предусмотрено, чтобы связать его по рукам и ногам.
– Ах какой подлец! – сказал Штааль вслух и стиснул зубы от бешенства, вспоминая грубое жестокое выражение, которое на минуту приняло при их разговоре лицо Баратаева. «Да, вот его истинная натура. Все остальное – маска учтивости, привычная комедия… Ах какой подлец… И я все стерпел тише агнца!.. Да неужто все кончено? Да, все кончилось так просто, без шума, без сатисфакции, без крови – кончилось одной властью денег, вот этих золотых монет…»
Золотые монеты были венецианские цехины. На одной стороне был изображен дож Людовик Манин, на другой – Христос с Евангелием в левой руке. Штааль машинально прочел надпись: «Sit tibi, Christe, datus, quia tu regis, iste ducatus».[78]78
«Да будет даром Тебе, Христос, сей край, в коем Ты царствуешь» (лат.).
[Закрыть] Бешенство его охватывало все больше, уже не только против Баратаева, а против них всех, против всего этого мира, который на презренных монетах ставит изображение Христа. «Все, все обман, – думал он, – вот, вот то одно, что правит человечеством… Так они же за все мне заплатят!..»
«Che i gabia о non i gabia, e xe sempre Labia»,[79]79
«Богаты они или не богаты, они всегда Лабиа» (ит.).
[Закрыть] – вдруг почему-то вспомнил он – и от обиды за то, что никакой он не sempre Labia, а бессильный, беспомощный мальчишка, Штааль уткнулся лицом в подушку и заплакал, всхлипывая по-детски и почти не удерживая злобных мстительных рыданий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































