Текст книги "О государстве"
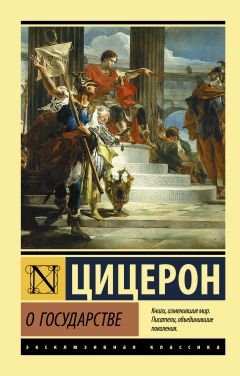
Автор книги: Марк Цицерон
Жанр: Европейская старинная литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
(XXXVII, 62) Наступил третий год децемвирата; оставались те же децемвиры, противившиеся избранию других на их место. При таком положении в государстве, которое, как я уже не раз говорил, не может быть продолжительным, так как всем сословиям граждан не предоставляется одинаковых прав, вся власть была в руках первенствовавших людей, так как во главе государства были поставлены знатнейшие децемвиры; им не были противопоставлены плебейские трибуны; при децемвирах не было никаких других магистратов, и не было сохранено права провокации к народу, если гражданину грозила казнь или наказание розгами. (63) И вот, вследствие несправедливости децемвиров, внезапно начались сильные потрясения, и произошел полный государственный переворот. Ибо децемвиры, прибавив две таблицы несправедливых законов, бесчеловечным законом воспретили браки между плебеями и «отцами», хотя обыкновенно разрешаются даже браки с иноземцами (закон этот был впоследствии отменен Канулеевым плебисцитом108), и, в силу своего империя творя всяческий произвол, правили народом жестоко и своекорыстно. Всем, конечно, хорошо известно (об этом говорят и очень многие литературные произведения), как из-за необузданности одного из этих децемвиров некий Децим Вергиний своей рукой убил на форуме дочь-девушку и, охваченный горем, бежал к войску, тогда стоявшему на горе Альгиде109; воины отказались продолжать военные действия, которые они вели, и с оружием в руках сперва заняли Священную гору (подобно тому, как некогда произошло в таком же случае), а затем и Авентинский холм… [Лакуна]
…после того, как Луция Квинкция назначили диктатором…110 (Сервий, к «Георгикам» Вергилия, III, 125).
…предки наши, я полагаю, и весьма одобрили, и с величайшей мудростью сохранили…
(XXXVIII, 64) Когда Сципион закончил, и все в молчании ждали продолжения его речи, Туберон сказал:
Так как присутствующие, которые старше меня, ни о чем не спросили тебя, Публий Африканский, позволь мне сказать тебе, чего я не нахожу в твоем изложении.
Да, конечно, – ответил Сципион, – я выслушаю весьма охотно.
ТУБЕРОН. – Ты похвалил, кажется мне, наше государство, хотя Лелий спрашивал тебя не о нашем, а о государстве вообще 111. Но я все же не узнал из твоих слов, какими порядками, какими обычаями или, лучше, какими законами можем мы сохранить то самое государство, которое ты превозносишь.
(XXXIX, 65) ПУБЛИЙ АФРИКАНСКИЙ. – Я думаю, Туберон, мы вскоре найдем более подходящий случай для подробного рассмотрения вопроса о том, как создают и сохраняют государства; что касается наилучшего государственного устройства, то я, как я полагаю, ответил на вопрос Лелия достаточно ясно. Ведь я прежде всего определил виды государств, заслуживающие одобрения, числом три, и столько же пагубных, противоположных трем, упомянутым выше, и указал, что ни один из этих видов не является наилучшим, но только тот, который представляет собой разумное сочетание трех первых, превосходит каждый из видов государства, взятый в отдельности. (66) А то обстоятельство, что я взял за образец именно наше государство, имело значение не для определения наилучшего государственного устройства (ибо это было бы возможно и без пользования образцом), а для того, чтобы на примере величайшего государства была ясно видна сущность строя, который я описал в своем рассуждении и беседе. Но если ты, не обращаясь к примеру в виде того или иного народа, спрашиваешь о само́м роде наилучшего государственного устройства, то нам следует воспользоваться изображением, данным нам природой, так как это изображение города и народа тебя… [не удовлетворяет.] [Лакуна]
(XL, 67) …которого я ищу уже давно и с которым желаю встретиться.
ЛЕЛИЙ. – Ты, пожалуй, ищешь разумного человека?
СЦИПИОН. – Именно такого.
ЛЕЛИЙ. – Среди присутствующих немало таких людей. Начни хотя бы с себя самого.
СЦИПИОН. – О, если бы во всем сенате было достаточно таких людей! Ведь разумен тот, кто, – как мы часто видели в Африке, – сидя на диком и огромном звере112, укрощает и направляет его куда только захочет, и ласковым словом, и прикосновением заставляет это дикое животное повернуть.
ЛЕЛИЙ. – Знаю и часто видел это в бытность свою твоим легатом.
СЦИПИОН. – Итак, тот индиец или пуниец укрощает только одного зверя и притом поддающегося обучению и привыкшего к характеру человека; но ведь то начало, которое скрыто в душе человека и, будучи частью его души, называется рассудком, обуздывает и покоряет не просто одного зверя, с которым возможно совладать, – если только ему это удается, что бывает весьма редко. Ибо и того дикого зверя надо держать в узде… [Лакуна]
(XLI, 68) …[зверь,] который питается кровью, которого каждая жестокость веселит так, что он с трудом может насытиться видом мучительной смерти людей, … (Ноний, 300, 24).
…но жадному, стремительному, похотливому и погрязшему в наслаждениях… (Ноний, 491, 16).
…как четвертое по счету огорчение, переходящее в плач и печаль, всегда само себя возбуждающее… (Ноний, 72, 30).
…испытывать горе, быть постигнутым несчастьем, вернее, быть объятым страхом и страдать от трусости… (Ноний, 228, 19).
…подобно тому, как неопытный возница оказывается совлеченным с колесницы, раздавленным, израненным, уничтоженным… (Ноний, 292, 32).
(XLII, 69) …можно было бы сказать.
ЛЕЛИЙ. – Я уже вижу, какие обязанности и задачи ты готов поручить мужу, появления которого я ожидал.
Разумеется, – сказал Публий Африканский, – перед ним, пожалуй, надо поставить только одну задачу (ибо в ней одной, пожалуй, заключены и остальные): никогда не переставать учиться и обращать свой взор на себя самого, призывать других людей подражать ему, блистательностью своей души и жизни быть как бы зеркалом для сограждан. Ведь подобно тому, как при струнной и духовой музыке и даже при пении следует соблюдать, так сказать, лад различных звуков, изменения и нарушения которого нестерпимы для утонченного слуха, причем этот лад все же оказывается согласным и стройным благодаря соблюдению меры в самых несходных звуках, так и государство, с чувством меры составленное путем сочетания высших, низших и средних сословий (словно составленное из звуков), стройно звучит благодаря согласованию [самых несходных начал; тем, что музыканты называют гармонией в пении, в государстве является согласие113, эта теснейшая и наилучшая связь, обеспечивающая безопасность в каждом государстве и никоим образом не возможная без справедливости.] (Августин, «О государстве божьем», II, 21).
…по струнам надо ударять легко и спокойно, а не сильно и не вдруг (Помпей Трог).
(XLIII) И когда Сципион значительно подробнее и обстоятельнее разобрал вопрос о том, насколько справедливость полезна государству и как велик вред, какой ему нанесло бы ее отсутствие, слово взял Фил, один из участников беседы, и предложил, чтобы именно этот вопрос был рассмотрен еще тщательнее и чтобы о справедливости было сказано больше, так как всюду говорят о том, что править государством, не совершая несправедливости, невозможно (Августин, «О государстве божьем», II, 21).
(XLIV, 70) …быть сама справедливость.
СЦИПИОН. – Я вполне согласен с вами и утверждаю вот что: мы должны признать, что все, доныне сказанное нами о государстве, ничего не стоит, и что нам некуда будет идти в своих рассуждениях, если не будет доказана не только ложность мнения, будто государством невозможно править, не совершая несправедливости, но и глубокая правота мнения, что им никоим образом невозможно править без величайшей справедливости. Но, с вашего согласия, на сегодня достаточно. Дальнейшее (ведь остается еще довольно много) отложим на завтра.
Так как все согласились с ним, то в этот день беседа была прекращена.
Второй день
Книга третьяТак как обсуждение этого вопроса было отложено на следующий день, то рассмотрение его в третьей книге вызвало оживленные споры. Сам Фил, предупредив с самого начала, что это мнение не следует приписывать именно ему, изложил взгляды тех, кто считает, что править государством, не совершая несправедливости, не возможно, и кто настойчиво высказывался в защиту несправедливости и против справедливости, на основании соображений, похожих на истину, и примеров пытаясь доказать, что первая государству полезна, а вторая не полезна. Затем, по просьбе всех присутствовавших, Лелий стал защищать справедливость и всячески доказывать, что нет ничего столь враждебного государству, как несправедливость, и что вообще государство может управляться, вернее, сохраняться, только благодаря великой справедливости1. После того, как вопрос этот был рассмотрен, по общему признанию, достаточно, Сципион возвратился к тому, на чем он остановился, и повторил и предложил свое краткое определение государства, которое он назвал «достоянием народа»; но народ, по его мнению, не любое множество людей, а множество людей, объединенных согласием относительно права и общностью интересов. Затем он показал, как велика при обсуждении вопроса польза «определения», и на основании этих своих определений сделал вывод, что государство, то есть «достояние народа», существует тогда, когда им хорошо и справедливо правит либо один царь, либо немногочисленные оптиматы, либо весь народ. Но когда несправедлив царь, которого Сципион, по греческому обычаю, назвал тираном, или несправедливы оптиматы, сговор которых он назвал кликой, или же несправедлив сам народ, который он, не найдя для него подходящего наименования, также назвал тираном, то государство уже не только порочно, о чем говорилось накануне, но – как показывает вывод из приведенных определений – его вообще не существует, так как оно уже не достояние народа, раз его захватил тиран или клика, да и сам народ в этом случае уже не народ, раз он не справедлив, так как это не множество людей, объединенных согласием относительно права и общностью интересов, каковое определение было дано народу (Августин, «О государстве божьем», II, 21).
(I, 1) В своей третьей книге о государстве этот же Туллий говорит, что человек рожден природой для жизни – словно она ему не мать, а мачеха – с телом нагим, хилым и слабым, с душой, робкой при трудностях, поддающейся страхам, нестойкой при лишениях и склонной к чувствительности, с душой, которой, однако, присущ как бы внесенный в нее божественный огонь дарований и ума (Августин, «Против Юлиана Пелаг.», IV, 12, 60).
И в самом деле, какое существо находится в более жалком положении, чем мы, ввергаемые в эту жизнь как бы нищими и нагими, с тщедушным телом, с робким сердцем, со слабым духом, пугливыми при тревогах, ленивыми в трудах, склонными к наслаждениям? (Амвросий, «О кончине Сатира», 2, 27).
(2) Хотя человек рождается хилым и слабым, ему все же не опасно ни одно бессловесное существо, а всем им, рождающимся сильными, все же, хотя они стойко переносят непогоду, опасен человек. Таким образом, разум приносит человеку пользу бо́льшую, чем та, какую бессловесным существам приносит природа, так как последних ни значительность их сил, ни стойкость их тела не могут избавить от истребления нами и подвластности нам. (19) Платон, мне думается, желая опровергнуть этих неблагодарных, высказал природе благодарность за то, что родился человеком (Лактанций, «De opificio Dei», III, 16, 17, 19).
(II, 3) [Лакуна] [Разум предоставил в распоряжение человека,] ввиду медленности его передвижения, повозки, а когда разум этот обнаружил, что люди беспорядочно издают нечленораздельные и невнятные звуки2, то он разделил эти звуки, разбил их на части и, так сказать, как знаки оттиснул слова на предметах и людей, ранее между собой разобщенных, связал приятнейшими узами речи. Тот же разум обозначил и выразил все звуки человеческого голоса, казавшиеся бесчисленными, небольшим количеством знаков, которые он изобрел, – чтобы посредством их можно было сохранять и беседу с людьми отсутствующими, и изъявления воли, и записи прошлого. К этому прибавилось число, вещь и необходимая для жизни, и единственная, которая не изменяется и существует вечно. Число впервые подвигло нас и на то, чтобы мы, глядя на небо, не следили понапрасну за движением звезд, но, считая дни и ночи, … [приводили в порядок календарь.] [Лакуна]
(III, 4) [Философы,] …чей ум возвысился еще больше и смог совершить и придумать нечто достойное дара богов, как я уже говорил. Поэтому да будут для нас те, кто рассуждает о правилах жизни, великими людьми (какими они и являются), да будут они учеными, да будут они наставниками в истине и доблести, только бы истина и доблесть – независимо от того, придуманы ли они мужами, хорошо знакомыми с разными видами государственного устройства, или же изучались ими на досуге и по сочинениям (как это и было), – отнюдь не встречали пренебрежения к себе. Я имею в виду гражданственность и устроение жизни народов, которое вызывает (и весьма часто уже и вызывало) в честных сердцах появление, так сказать, необычайной и богами внушенной доблести. (5) Но если кто-нибудь к тем способностям своего ума, которые получены им от природы и благодаря гражданским установлениям, признал нужным прибавить образование и более обширные познания, – как поступили те, кто занимается обсуждением этих вот книг, – то не найдется человека, который не предпочел бы таких людей всем остальным. И право, что может быть более славным, чем сочетание великих дел и опыта с изучением этих наук и познанием их? Другими словами, можно ли вообразить себе более благородного человека, чем Публий Сципион, чем Гай Лелий, чем Луций Фил, которые, дабы не пройти мимо всего того, чем достигается вся слава, выпадающая на долю знаменитых мужей, прибавили к обычаям отечественным и дедовским также и это чужеземное учение, исходящее от Сократа? (6) Следовательно, кто пожелал и смог добиться и того, и другого, то есть познать и установления предков, и философские учения, тот, по моему мнению, достиг всего того, что приносит славу. Но если следует избрать один из этих двух путей к мудрости, то – даже если спокойный образ жизни, протекающей в благороднейших занятиях и науках, кому-либо и покажется более счастливым, – все же жизнь гражданина более достойна хвалы и, несомненно, более славна, коль скоро за нее выдающихся мужей превозносят так, как, например, превозносили Мания Курия3 —
Тот, кого никто ни мечом не осилил, ни златом.
или… [Лакуна]
Его никто – ни гражданин, ни гость —
За подвиги не сможет наградить4.
(IV, 7) [Лакуна] …[что оба пути] были мудростью, но различие между тем и другим заключалось в том, что одни люди воспитывали природные начала наставлениями и науками, а другие – установлениями и законами. Но одно наше государство дало большее число если и менее мудрых мужей (так как эти философы истолковывают это название столь ограничительно), то, несомненно, людей, достойных высшей хвалы, так как они почитали поучения и открытия мудрецов. И если мы – независимо от того, сколько существует и существовало государств, достойных хвалы (так как нужна величайшая и непревзойденная в природе мудрость, чтобы создать государство, которое может быть долговечным), – если мы в каждом из таких государств найдем хотя бы одного такого мужа, то какое тогда окажется великое множество выдающихся мужей! Но если мы пожелаем мысленно обозреть в Италии Лаций, или там же племена сабинян и вольсков, Самний, Этрурию, знаменитую Великую Грецию5, если мы затем обратим свой взор на ассирийцев, на персов, на пунийцев, на эти… [Лакуна]
(V, 8) ФИЛ. – Вы мне поручаете поистине превосходную задачу, желая, чтобы я взял на себя защиту бесчестности.
ЛЕЛИЙ. – Конечно, если ты выскажешь то, что обычно высказывают против справедливости, ты, пожалуй, можешь произвести впечатление, что и ты такого же мнения, хотя сам ты – как бы исключительный образец древней порядочности и честности, и хотя хорошо известно твое обыкновение рассуждать с противоположных точек зрения6, так как, по твоему мнению, таким образом легче всего дойти до истины.
ФИЛ. – Ну, хорошо, я исполню ваше желание и сознательно испачкаюсь. Так как от этого не отказываются люди, ищущие золото, то мы, ищущие справедливости, которая гораздо дороже всякого золота, конечно, не должны страшиться трудностей. О, если бы мне, коль скоро я должен буду использовать чужие доводы, было дозволено поручить эту речь другому! Теперь Луций Фурий Фил должен сказать то, что Карнеад7, грек, привыкший выгодную ему мысль… [выражать] словами, …[высказал против справедливости.] [Лакуна]
(9) …чтобы вы ответили Карнеаду, который, по изворотливости своего ума, часто высмеивает наилучшие положения.
(VI) Кто не знает, как велика была убедительность доводов Карнеада, философа академической школы, и каким красноречием и остротой ума он отличался, тот именно это поймет из оценки, данной ему Цицероном, или же из оценки, данной ему Луцилием, у которого Нептун, рассуждая о труднейшем вопросе, указывает, что он не сможет его разъяснить, «если Орк8 не отпустит к нему самого́ Карнеада». Когда Карнеад был прислан афинянами в Рим в качестве посла, он произнес обстоятельную речь о справедливости в присутствии Гальбы и Катона Ценсория, величайших ораторов того времени. Но этот же Карнеад на другой день опроверг свои положения противоположными положениями и справедливость, которую превозносил накануне, уничтожил и притом не убедительной речью философа, чье мнение должно быть твердым и незыблемым, но как бы ораторским упражнением, при котором рассуждение ведется с обеих точек зрения. Так он поступал обычно, чтобы быть в состоянии опровергнуть мнения других людей, отстаивавших любое положение. Рассуждение, которым отвергается справедливость, у Цицерона вспоминает Луций Фурий, мне думается, потому, что он рассуждал о государстве, чтобы выступить с защитой и прославлением справедливости, без которой, по его мнению, править государством невозможно. Но Карнеад для того, чтобы опровергнуть положения Аристотеля и Платона, поборников справедливости, в своей первой речи собрал все то, что высказывалось в защиту справедливости, чтобы быть в состоянии все это опровергать, как он и поступил (Лактанций, «Instit. div.», V, 14, 3–5).
(VII, 10) Большинство философов, а особенно Платон и Аристотель, высказало о справедливости многое, превознося ее как истину и доблесть, достойную высшей хвалы, так как она воздает каждому свое и сохраняет равенство между всеми. И между тем как другие доблести как бы безмолвны и замкнуты в себе, справедливость – единственная доблесть, не замкнутая в себе и не скрытая, но обнаруживающаяся вся целиком и склонная к хорошим поступкам ради того, чтобы приносить возможно бо́льшую пользу. Как будто справедливость должна быть присуща одним только судьям и людям, облеченным какой-либо властью, а не всем! (11) Между тем нет человека даже среди самых незначительных и нищих людей, который не мог бы приобщиться к справедливости. Но так как они не знали, что́ она собой представляет, откуда проистекает, каково ее назначение, то они эту высшую доблесть, то есть общее благо, объявили уделом немногих и заявили, что она не ищет своей пользы, а только благоприятствует чужим выгодам. И Карнеад, человек необычайного дарования и остроты ума, с полным основанием выступил, дабы доказать несостоятельность утверждений этих людей и отвергнуть значение справедливости, не имевшей прочного основания, – не потому, что он полагал, что справедливость заслуживает порицания, но с целью доказать, что поборники справедливости не выставили в ее защиту никаких определенных, никаких незыблемых доводов (Лактанций, Эпитома, 50 [55], 5–8).
Справедливость глядит наружу, вся выступает вперед и выдается… (Ноний, 373, 30).
…доблесть, которая вся более, чем все другие, стремится к служению другим и в этом и проявляется (Ноний, 299, 30).
(VIII, 12) ФИЛ. – …находил бы и защищал…, но другой9 рассуждениями своими о само́й справедливости заполнил четыре весьма обширных книги. Ведь от Хрисиппа10 я не ожидал ничего великого и блестящего: он говорит, так сказать, в своем духе, рассматривая все по значению слов, а не по сущности вещей. Уделом тех героев11 было оживлять эту доблесть, когда она лежит поверженная, и возводить ее на божественный престол рядом с мудростью; ведь одна она (если она существует), рожденная для других, а не для себя, весьма благотворна и щедра и всех любит больше, чем себя самое. (13) И ведь у них вовсе не было недостатка ни в желании (какое же у них было иное основание писать и вообще какое другое намерение?), ни в даровании, которым они превосходили всех; но действительность оказалась сильнее их желания и их способностей. Ведь право, которое мы исследуем, есть нечто, относящееся к гражданственности, но отнюдь не к природе12. Ибо, если бы оно относилось к природе, то – подобно горячему и холодному, подобно горькому и сладкому – справедливое и несправедливое были бы одинаковыми для всех людей.
(IX, 14) Но теперь, если бы кто-нибудь «с колесницы, влекомой крылатыми змеями», как писал Пакувий13, мог обозреть с высоты и воочию увидеть многие и разные народы и города, то он прежде всего заметил бы, что египтяне, самый старозаветный из всех народов и располагающий летописями событий за очень много веков, считают божеством какого-то быка, которого они зовут Аписом. Такой человек увидел бы у тех же египтян и многие другие чудовища и разных зверей, причисленных ими к богам. Затем он увидел бы в Греции, как и у нас, великолепные храмы, посвященные богам в человеческом образе. Персы сочли это кощунством, и Ксеркс, как говорят, повелел предать огню храмы афинян по одной той причине, что считал кощунством держать взаперти богов, чей дом – весь этот мир14. (15) Но впоследствии и Филипп, намеревавшийся воевать с персами, и Александр15, пошедший на них войной, оправдывали эту войну своим желанием отомстить за храмы Греции. Греки не считали нужным даже восстанавливать их, дабы у их потомков было перед глазами вечное доказательство злодеяний персов16. Как много было народов, – как, например, тавры на берегах Аксинского Понта17, как египетский царь Бусирид18, как галлы19, как пунийцы20, – считавших человеческие жертвоприношения делом благочестия, весьма угодным богам!
И действительно, правила жизни настолько не сходны, что критяне и этоляне считают морской разбой почетным делом21, а лакедемоняне объявляют своими все те земли, куда могло долететь их копье. Афиняне имели обыкновение клятвенно объявлять от имени государства, что им принадлежат все те земли, на которых растут оливы и хлебные злаки22. Галлы считают для себя постыдным сеять хлеб своими руками23; поэтому они, вооруженные, снимают урожай с чужих полей. (16) А мы, якобы самые справедливые люди, не позволяем заальпийским народам сажать оливы и виноград, дабы наши сады олив и виноградники стоили дороже24. Когда мы так поступаем, то говорят, что мы поступаем разумно, но не говорят, что справедливо, – дабы вы поняли, что между благоразумием и справедливостью существует различие. Между тем Ликург, придумавший наилучшие законы и справедливейшее право, велел земли богачей обрабатывать плебеям, словно они были рабами25.
(X, 17) Но если бы я пожелал описать виды права, установлений, нравов и обычаев, различные не только у стольких народов, но и в одном городе и даже в нашем, то я доказал бы вам, что они изменялись тысячу раз: наш истолкователь права Манилий26 говорит, что насчет легатов27 и наследств в пользу женщин ныне существуют одни права, а он сам, в свои молодые годы, говорил о других, когда Вокониев закон28 еще не был издан. Именно этот закон, предложенный в интересах мужчин, – сама несправедливость по отношению к женщинам. И в самом деле, почему бы женщине не иметь своего имущества? Почему у девы-весталки наследник может быть, но его не может быть у ее матери? И почему – если для женщины следует установить предельную меру имущества – дочь Публия Красса29, если она единственная у отца, могла бы, без нарушения закона, иметь сто миллионов сестерциев, а моя дочь не могла бы иметь и трех миллионов?… [Лакуна]
(XI, 18) [Если бы сама природа] для нас установила права, все люди пользовались бы одними и теми же [законами], а одни и те же люди не пользовались бы в разные времена разными законами. Но я спрашиваю: если долг справедливости человека и честного мужа – повиноваться законам, то каким именно? Всяким ли, какие только ни будут изданы?30 Но ведь доблесть не приемлет непостоянства, а природа не терпит изменчивости; законы же поддерживаются карой, а не нашим чувством справедливости. Таким образом, право не заключает в себе ничего естественного; из этого следует, что нет даже людей, справедливых от природы. Или законы, как нам говорят, изменчивы, но честные мужи, в силу своих природных качеств, следуют той справедливости, которая существует в действительности, а не той, которая таковой считается? Ведь долг честного и справедливого мужа – воздавать каждому то, чего каждый достоин31. (19) Как же, следовательно, отнесемся мы прежде всего к бессловесным животным? Ведь не люди посредственного ума, а выдающиеся и ученые мужи, Пифагор и Эмпедокл32, заявляют, что все живые существа находятся в одинаковом правовом положении; они утверждают, что тем, кто нанесет повреждение животному, грозит бесконечная кара. Итак, нанести вред дикому животному – преступление и это преступление… [для того,] кто [не] захочет [его избегнуть, оказывается пагубным.] [Лакуна]
(XII, 20) А если человек пожелает следовать справедливости, не будучи при этом сведущ в божественном праве, то он примет законы своего племени, словно они являются истинным правом, законы, которые при всех обстоятельствах придумала не справедливость, а выгода. И в самом деле, почему у всех народов приняты различные и отличающиеся одни от других законы, но каждое племя установило для себя то, что оно признало полезным для себя? Но в какой мере польза расходится со справедливостью, дает понять сам римский народ, который, объявляя войны при посредстве фециалов, нанося обиды законным путем и всегда желая чужого и захватывая его, завладел всем миром (Лактанций, «Instit. div.», VI, 9, 2–4).
Ведь всякая царская власть или империй, если я не ошибаюсь, добываются посредством войны и распространяются путем побед. Но война и победы основаны более всего на захвате и разрушении городов. Эти действия неизбежно связаны с оскорблением богов, таковы же и разрушения городских стен и храмов; им подобно и истребление граждан и жрецов, и с ними вполне сходно разграбление сокровищ священных и мирских. Следовательно, римляне совершили святотатств столько же, сколько у них было трофеев; триумфов по случаю побед над богами они справили столько же, сколько и по случаю побед над народами; добыча их столь велика, сколько до сего времени у них остается изображений плененных ими богов (Тертуллиан, «Апология», XXV, 14–15).
(21) Итак, Карнеад, ввиду того что положения философов были шатки, осмелился опровергать их, поняв, что опровергнуть их возможно. Его доказательства сводились к следующему: люди установили для себя права, руководствуясь выгодой, то есть права, различные в зависимости от обычаев, причем у одних и тех же людей права часто изменялись в зависимости от обстоятельств; но права естественного не существует; все люди и другие живые существа под руководством природы стремятся к пользе для себя; поэтому справедливости либо не существует вообще, либо – если какая-нибудь и существует – это величайшая нелепость, так как она сама себе вредит, заботясь о чужих выгодах. И он приводил следующие доводы: всем народам, процветающим благодаря своему могуществу, в том числе и самим римлянам, чья власть простирается над всем миром, – если только они пожелают быть справедливыми, то есть возвратить чужое, – придется вернуться в свои хижины и влачить жизнь в бедности и нищете (Лактанций, «Instit. div.», V, 16, 2–4).
(22) Благу отчизны всегда и во всем отдавать предпочтенье 33,
не обращая внимания на человеческие распри; правило это теряет всякий смысл. И действительно, что другое представляет собой выгода для отчизны, если не невыгоду для другого государства или для другого народа? Это значит расширять пределы отчизны, насильственно захватывая чужие земли; укреплять свою власть, взимать бо́льшую дань. (23) Кто таким образом приобретет для отечества эти «блага», как они их называют, то есть, уничтожив государства и истребив народы, набьет казну деньгами, захватит земли, обогатит сограждан, того превозносят похвалами до небес и видят в нем высшую и совершенную доблесть; таково заблуждение не только народа и неискушенных людей, но и философов, которые даже преподают наставления в несправедливости, дабы неразумие и злоба не были лишены обоснования и авторитета (Лактанций, «Instit. div.», VI, 6, 19, 23).
(XIII, 23) ФИЛ. – …ведь все, обладающие властью над жизнью и смертью людей, – тираны, но предпочитают, чтобы их называли царями, по имени Юпитера Всеблагого34. Когда же определенные люди, благодаря своему богатству, или происхождению, или каким-либо преимуществам, держат государство в своих руках, то это клика, но называют их оптиматами. А если наибольшей властью обладает народ и все вершится по его усмотрению, то это называется свободой, но в действительности это есть безвластие. Но когда один боится другого (и человек – человека, и сословие – сословия), то, так как никто не уверен в своих силах, заключается как бы соглашение между народом и могущественными людьми. Так возникает то, что Сципион восхвалял, – объединенный род государственного устройства; и в самом деле мать справедливости не природа и не добрая воля, а слабость. Ибо, когда предстоит выбрать одно из трех – либо совершать беззакония, а самому их не терпеть, либо их и совершать и терпеть, либо не делать ни того ни другого, то наилучший выход – их совершать, если можешь делать это безнаказанно; второе – их не совершать и не терпеть, а самый жалкий удел – всегда биться мечом, и совершая беззакония, и страдая от них. Итак, те, которые достичь первого [не могли, объединились на втором, и так возникло смешанное государственное устройство.] [Лакуна]
(XIV, 24) …ибо, когда его спросили, какие преступные наклонности побудили его сделать море опасным для плавания, когда он располагал одним миопа́роном, он ответил: «Те же, какие побудили тебя сделать опасным весь мир»35 (Ноний, 125, 12).
(XV) …Благоразумие велит нам всячески умножать свое достояние, увеличивать свои богатства, расширять границы (в самом деле, какие основания были бы для хвалебных надписей, высекаемых на памятниках выдающимся императорам36: «Границы державы он расширил»37, – если бы он не прибавил некоторой части чужой земли?), повелевать возможно бо́льшим числом людей, наслаждаться, быть могущественным, управлять, владычествовать. Напротив, справедливость учит щадить всех, заботиться о людях, каждому воздавать должное, ни к какой вещи, посвященной богам, ни к какой государственной или чужой собственности не прикасаться. Что же, следовательно, достигается, если станешь повиноваться голосу благоразумия? Богатство, власть, имущество, почести, империй, царская власть и для частных людей, и для народов. Но так как мы говорим о государстве, то для нас более очевидно то, что совершается от его имени, и так как сущность права в обоих случаях одна и та же, то, по моему мнению, следует поговорить о благоразумии народа. О других народах я говорить не стану. А наш народ, чье прошлое Публий Африканский во вчерашней беседе представил нам с самого начала и чья держава уже распространилась на весь мир? Благодаря чему он из незначительного стал величайшим – благодаря справедливости или благоразумию?… [Лакуна]
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































