Текст книги "Когда мама – это ты"
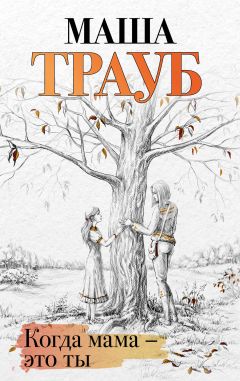
Автор книги: Маша Трауб
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Анатольич тогда ушел в беспросветный запой. Себя считал виноватым – не увидел, недоглядел, не сберег. А дядя Паша, напротив, и похороны организовал, и про кладбище договорился. У Насти, как выяснилось, никого из родни и не было. Родители умерли, ее бабка воспитывала. Да и она умерла лет пять назад. Никто не знал. Настя не рассказывала. Никому. Даже Анатольичу. Ее он любил по-настоящему. Ценил, гордился, восхищался. Смерть Насти сильно его подкосила. Долго один был, пока Кристинка не попалась. Тот же типаж: ноги, брюнетка, непредсказуемая. То ли дура, то ли гениальная.
Анатольич после смерти Насти начал большую стройку. Что ему только ни говорили, как ни убеждали отказаться от этой идеи. Он уперся – показывал Настины рисунки, чертежи, эскизы и требовал построить именно так. Прорабы твердили – нельзя, неправильно, – но Анатольич никого не слушал. И выстроил современный пансионат, не похожий ни на какой другой в окрестностях. Настя оказалась права во всем – и в расположении бассейна, и в том, где надо оборудовать детскую площадку: отдельно, не рядом со спортплощадкой для взрослых. Расписала, в каком номере какую плитку выкладывать, какие картины вешать. Где стол расположить, где двухярусные кровати. И именно эти изменения спасли пансионат. Люди приезжали, увидев картинки в интернете, некоторые даже возвращались, убедившись, что все честно. Заказывали определенные номера. Но Настины идеи требовали развития, а Анатольич сдулся. Исчерпал себя. Больше ничего не хотел. Поэтому, например, интернет ловился только в курилке рядом со старым зданием и помещением администрации, а до новых корпусов не добивал. Надо было установить роутеры, но Анатольичу было наплевать.
Настя нарисовала расположение беседок – для мастер-классов, для творчества. Отдельно – бар и беседку для посиделок. Но вскоре все смешалось. В детских беседках гуляли взрослые, отмечая приезд и отъезд. Творческие мастер-классы сначала сместились в одну беседку, а потом и вовсе закончились. Зато остались детские вечерние дискотеки под современную музыку. Дети бесились и пели не «От улыбки станет всем светлей», а что-то плохо произносимое. У тех, кому не нравилось творчество представителей современного шоу-бизнеса, оставался один выход – закрыть окна и включить кондиционер. Многие Настины задумки так и не были реализованы, многие реализовывались уже кое-как.
* * *
Я плохо переношу громкие звуки, и потому по вечерам не спасали даже беруши и наушники. Несмотря на морской воздух, меня мучила бессонница. Ни вечерние пробежки, точнее, быстрая ходьба, ни режим дня – ложиться не позже одиннадцати, – не помогали. В два часа ночи я просыпалась и начинала разглядывать потолок. К пяти получалось задремать. В шесть наступало время завтрака комаров, которые плевать хотели на фумитоксы всех видов и запахов.
Чтобы продышаться, прогнать морок, я выходила на общий балкон с чашкой кофе. Там же сталкивалась с молодой женщиной. Я знала, что у нее четырехлетняя дочь-егоза, совершенно очаровательная. Малышка не умела спокойно ходить, только бегала, скакала на одной ножке, без конца пела песни, тараторила стихи. Молодая мать улыбалась уже совсем вяло. Называла ласково дочь «пауэрбэнком». Мол, мобильная зарядка, даже розетка не нужна.
– Не спится? – спросила я ее однажды.
– Да, часы мешают. Очень громко тикают. Просто проклятие какое-то, – пожаловалась женщина. – Нет, они не тикают, а стучат. У моей бабушки были часы с боем, так и они, кажется, тише били.
– Так вытащите из часов батарейку, – посоветовала я.
Женщина посмотрела на меня так, будто я открыла ей тайну вселенной.
– Так просто… почему я не догадалась…
На следующий день в шесть утра она опять стояла на балконе.
– Вы не смогли батарейки вытащить? – удивилась я.
– Вытащила. Но все равно спать не могу. Они на меня смотрят, – призналась женщина, чуть не плача.
– Кто? – не поняла я.
– Они. Пойдемте, покажу, – она открыла дверь своего номера. – Не бойтесь, Ксюша не проснется, хоть из пушки стреляй.
Да, наверное, мне повезло больше. Точнее, просто повезло, что все совпало. Я жила в номере, оформленном в португальском стиле. Узорная наборная плитка, которую я сама очень люблю. Постеры с изображением знаменитого желтого трамвая. Виды Лиссабона. Мой номер был первым из оформленных по Настиным эскизам. Номер женщины – она представилась Натальей – из последних. Его оформляли, когда у Анатольича, как он сам говорил, остался «пустой бак» – ни души, ни сердца, ни эмоций.
Напротив большой кровати висели африканские маски. Сразу три. А над кроватью на стене – шкура. Конечно, не настоящая, как и маски. Дешевая стилизация. Еще одна шкура лежала на полу.
– Не могу здесь. Совсем не могу. Шкуры эти страшные. Маски. Они на меня смотрят. Позвонила маме пожаловаться, поговорить, а она мне про вуду начала рассказывать. – Наталья заплакала, не сдержавшись. – Простите, обычно я нормальная, а здесь совсем с катушек слетела. Еще бессонница эта. И работать не могу. Интернет не ловит, а в курилке не хочу сидеть. Ксюша днем спать отказывается, а я с ног валюсь. Ей хочется играть, с моря увести не могу, все через преодоление.
– Возраст такой.
– Да, я понимаю.
– Ладно, давайте мы вот так сделаем.
Я полезла на табуретку и сняла маски со стены.
– Ой, а разве можно? – перепугалась Наталья.
– Почему нельзя? Мы ничего не ломаем, просто аккуратно снимаем и убираем вот сюда, в ящик.
Я скатала лежащую на полу шкуру и засунула ее под кровать.
– У вас есть парео?
– Есть.
Парео пригодилось, чтобы накрыть шкуру на стене.
– А если горничная начнет возмущаться? – Наталья все еще была напугана.
– Тогда отправляйте ее ко мне. Скажите, что это я сделала.
Горничная, Иннесса, через два эн и два эс, как значилось на бейдже, появилась на пороге моего номера часа через два. Из-за ее спины выглядывала Наталья.
– Простите, – прошептала она мне.
– Что вы тут устроили? Что вы себе позволяете? – Иннесса была настроена на полномасштабный скандал. – Будете штраф платить за порчу. Мне потом скакать и назад все вешать?
– Нет, не вам, я все верну назад. Вы же ориентируетесь на клиентов, правильно? А клиент страдает. Очень. Спать не может. Так давайте сделаем так, чтобы оставшиеся несколько дней пребывания в вашем отеле стали для этой милой женщины отдыхом, а не испытанием, – ответила я.
– Чё? – Горничная слегка опешила.
Дальше я поступила так, как научила меня жизнь. К сожалению. Говорить и убеждать в подобных ситуациях – бессмысленная трата нервов и времени. Тем более переспорить Иннессу в скандальной склоке шансов не было.
Я пошла в номер Натальи. На глазах у горничной достала шкуру и тряхнула перед ее носом. Из шкуры вылетело здоровенное облако пыли. Достала маски из ящика и провела пальцем – палец стал черным от грязи.
– Будем продолжать скандалить? – спросила я Иннессу.
– У нас не положено, – буркнула горничная.
– А гулянки устраивать до пяти утра у вас положено? В правилах написано соблюдать тишину после одиннадцати вечера.
Я залезла на шкаф и провела рукой. Со шкафа на пол слетели засохшие огрызки яблок, фантики, мертвые мухи. Наталья ахнула. Я рванула кровать от стены, отодвинула – пыль лежала не просто слоем, а многоярусным тортом.
– Мне продолжать? – рявкнула я.
Горничная развернулась и выбежала из номера.
Удивительно было другое. Наталья расплакалась.
– Не надо было так. Я бы потерпела. Ничего ведь страшного. У других и похуже условия. Это я так, от нервов, от недосыпа. Теперь только хуже будет. У меня вообще убирать не станут, – твердила она.
Я не смогла ответить. Хотя точно знала, что убирать станут лучше. Отдрают до последнего угла. Но откуда у этой молодой женщины такой страх? Сколько поколений должно смениться, чтобы этот страх исчез? А также бытовое хамство, когда работа делается из одолжения, а не потому, что это оплачиваемый труд? Почему нужно терпеть грязь и бояться потребовать навести порядок – это не каприз, не потому что вдруг захотелось лебедей из полотенец и розовых лепестков, а ради минимальных комфорта и чистоты?
Наталья со мной больше не разговаривала. Кивала при случайной встрече, но не задерживалась даже для вежливого мимолетного общения. Как-то я проходила мимо их номера и случайно заметила – она вернула на место маски и шкуру. И, скорее всего, вставила батарейки в часы. Испугалась. Нет, не Иннессы с двумя эн и двумя эс. А собственного права менять условия жизни под себя. Это право никак не нарушало чужих границ, никому не мешало. «Не положено» оказалось сильнее остальных чувств.
Когда малышка Ксюша вышла на балкон, накинув на плечи шкуру, как плащ, и сообщила всем, что она королева, я хохотала. Наталья бежала за дочкой, уговаривая вернуть шкуру на пол.
– Нет, еще не все знают, что я королева. – Ксюша пошла выгуливать мантию по всей территории пансионата.
* * *
Мне исполнилось сорок пять. Не то чтобы я страдала. Пришла в салон закрасить седину.
– Ну все, я ягодка, – призналась мастеру Оле.
– А я мороженка! – ответила она.
– В каком смысле? – не поняла я.
– Мне сорок восемь исполнилось. Как мороженое по сорок восемь копеек!
И это замечание стоило всех убеждений в том, что я не выгляжу на свой возраст, что сорок пять это новые тридцать пять… Сейчас я ягодка, а потом стану мороженкой.
Возраст имеет колоссальные преимущества перед молодостью. Главное из которых – делать то, что считаешь нужным не для других, а для себя. Идти в ту сторону, в которую хочется, а не следовать за толпой и течением. Говорить правду. Не переживать по поводу того, что о тебе подумают. Наплевать. Пусть уже что-нибудь плохое подумают. После сорока перестаешь испытывать страх перед другими людьми. Не важно, в какой они должности. Ты боишься за детей, за то, что они замерзнут или перегреются, что у них появятся глисты, как случалось в нашем детстве. Страшно, что они наглотаются воды в бассейне, в который сыплется хлорка в таком количестве, что глаза начинают вываливаться. Страхи другие.
Не нужно бояться старости. Ведь именно тогда можно будет спокойно накинуть на плечи коврик в виде псевдошкуры зебры и расхаживать в ней, будто в мантии, как делала Ксюша. Дети и старики свободны от предрассудков. Они могут позволить себе если не все, то почти все.
В юном возрасте очень нужна подружка. С ней и в магазин за хлебом, и погулять вечером. Везде – только вдвоем. Взрослые женщины тоже разбиваются по парочкам – вместе на пляж, вместе за столом в столовой сесть. У меня желание разбиваться по парам, группам отбили в детстве – здесь, в этой части Крыма, на этом самом побережье.
Ту девочку Вику – дочь большого начальника – тоже отправили в пионерский лагерь не в одиночку, а с подружкой Алкой в роли наперсницы и горничной. Алка была из бедной семьи, так что ее мать, которой Викин отец сообщил, что путевку не только достали, но и оплатили, велела дочери хоть Викины трусы стирать, чтобы отблагодарить за возможность поехать в лагерь. Алка и в школе таскалась за дочкой большого начальника на правах приживалки или бедной родственницы. Подай-принеси-пошла вон. Но Вика искренне считала Алку своей лучшей подругой и делилась с ней самым сокровенным. Ценила ее за то, что та всегда рядом. Конечно, давала поносить юбку, накраситься помадой. Викина мама перебирала гардероб дочери и собирала внушительную кучу вещей – Алке отдадим. Если та и понимала, что ей достались вышедшие из моды наряды, которые Вика один-два раза надела, то мать быстро вправляла ей мозги:
– С ума сошла? Она еще нос воротит! Или носи, или ходи в рванье. Я тебе нового не могу купить. Мне бы кто отдал такое. Я бы руки целовала и благодарила.
Алка так и делала – и руки целовала, и благодарила. Постепенно стала вхожей в дом:
– Викуля, тебе чай? Сейчас принесу. Давай воротничок пришью на школьную форму. Анна Ивановна, у вас сегодня гости? Давайте на стол помогу накрыть? Платье для Викули? Сейчас поглажу.
В лагерь их отправили отдельным рейсом и привезли не на автобусе, а на машине.
– Ой, Аллочка, только на тебя надежда, – чуть не плакала Анна Ивановна при прощании. – Ты уж там присмотри за Викулей. Как она без тебя? Если что – иди к директору и сразу нам звони. По любому поводу, поняла? Хорошо?
– Любой каприз исполняй, не чуди и не ерепенься, – наставляла Алку мать. – Вика – твое будущее. И школу с ней прилично окончишь, и в институт тебя пристроят. А не нравится – пойдешь вместо меня подъезды мыть. Другого выбора у тебя нет.
Кровати – рядом. Алка разложила все по тумбочкам и развесила вещи в шкаф. Застелила обе постели. Вика легла и уставилась в потолок.
– Отдыхай, я сбегаю разузнаю, что тут и как, – сказала Алка.
Первое время Алка ходила за Викой, как и раньше. Но вдруг у нее будто глаза открылись – здесь все по-другому, не так, как в их городе. Здесь всем было наплевать, какую должность занимает Викин отец, сама Вика перестала считаться принцессой, а оказалась обычной девочкой, причем весьма посредственной и никчемной – безынициативной, бесталанной. Белая ворона. Или плачет, или сидит, уткнувшись в книжку. В тарелке с едой ковыряется, будто одолжение делает. В общих играх не участвует – канат не перетягивает, в мешках не прыгает. На дискотеки не ходит. Краля какая. Вику сразу невзлюбили. Причем никто не мог объяснить, за что именно. Просто другая. Не такая, как все. Даже вожатая, которой, конечно, строго-настрого запретили вовлекать Вику во что-либо против воли и вообще велели не трогать, тоже ее невольно старалась поддеть. Малаˆя еще, а уже с гонором, сидит с видом, что ей все должны.
Алкина наглость, пробивной характер пришлись в коллективе как нельзя кстати. Ее сразу же назначили в отряде главной по хозяйственной части – проверять, все ли кровати застелены, порядок ли в тумбочках. Раздавать выпечку на полдник и поровну делить арбуз. Если Вика страдала и с каждым днем угасала, Алка, напротив, расцветала на глазах. Она была везде – и в мешках первая прыгала, и с яйцом в ложке первая прибегала. В самодеятельности участвовала, стенгазету рисовала, речовки кричала громче всех.
Первое время она подбегала к Вике с виноватым видом:
– Я пойду, ладно? Ты не обидишься? Правда? Хочешь, я тебе свою булку отдам? Точно не обидишься? Меня там ждут. Я обещала. Тебе ничего не нужно? Я принесу. Хочешь, сбегаю в библиотеку за новой книжкой? Нет? А можно я твою футболку надену? Правда можно? Спасибо!
Но дети замечают все быстрее взрослых.
– Ты ей что, прислуга, что ли? – спросила удивленно Светка.
– Ага, точно, как прислуга за ней бегаешь, – поддакнула Тонька.
И Алка вдруг не захотела бегать как прислуга, а захотела быть сама по себе. Не при Викуле, как обычно, а отдельно. Но совесть мешала – все-таки без подруги она бы в таком лагере никогда в жизни не оказалась, и наказы матери все еще не давали ей покоя. Поэтому она тайком, когда рядом никого не было, спрашивала у Вики, не нужно ли чего? И вещи ее стирала, развешивала в шкафу, пока никто не видел. Постель застилала быстро, рывком.
Вика тогда совсем ушла в книжки и переживала это время, находясь не в лагере, а на страницах, вместе с героями. В книгах была настоящая жизнь, а не вот это серое существование – однообразное, бессмысленное, одно на всех. Строем в одну сторону, строем в другую. Смеяться по команде, плакать не разрешается, пионеры не плачут. Алка же начала взлетать по лагерной карьерной лестнице – ей доверили поднимать флаг перед зарядкой, назначили шагать за знаменем отряда с поднятой в пионерском салюте рукой. Вожатая на линейке официально объявила ее своим замом. По всем вопросам. Алка обрела власть, почувствовала и распробовала ее вкус. И ей стало так хорошо, как никогда. В юбке и блузке Вики она выглядела шикарно – даже старшая пионервожатая цокала от восторга языком. Алка шагала четко, высоко задирая ноги, руку в салюте держала ровно. Их отряд всегда становился лучшим, получая звездочки за лучшую уборку в палатах, лучшую стенгазету, активное участие в жизни лагеря. Только Вика, «единоличница», портила общую картину. Об этом шушукались и Старшуха, и вожатая.
Вожатая что-то твердила про общие правила для всех и социальное равенство. Старшуха поддакивала и говорила, что таких надо «переучивать» и «исправлять». Алка, подслушав разговор, решила сделать их образцово-показательный отряд окончательно и бесповоротно образцовым и показательным.
– Вика, завтра надо выйти на зарядку, – сказала она подруге.
– С чего вдруг? – удивилась та, не отрываясь от книги. – Не принесешь мне кефир, пожалуйста? Не хочу в столовку тащиться.
– Не принесу, сама сходи за своим кефиром. И завтра ты выйдешь на зарядку. Я тебя пинками вытолкаю, если понадобится. Ты позоришь весь отряд.
Алка говорила, не отдавая отчета в том, что подписывает себе приговор.
Вика оторвала взгляд от книги и посмотрела на подругу даже не с удивлением, а так, будто ожидала чего-то подобного.
– Нет, – ответила она и снова уткнулась в книгу.
Умение говорить жесткое «нет», как я уже писала, или должно быть передано генетически, или воспитано силой характера. Резкий отказ выполнять приказы может быть продиктован диким бесстрашием, когда терять уже нечего. Или он приходит с опытом, в результате долгих тренировок, вызванных жизненной необходимостью. Те, у кого не случались подобные ситуации, «нет» не научатся говорить даже к старости. А Вика этим навыком владела с рождения. Она слышала, как отец жестко говорит «нет» по рабочим вопросам. Как мать, не дрогнув бровью, отвечает «нет», когда домработница просит повысить зарплату, иначе та уйдет, ее давно зовут в другое место, и тут же ее увольняет.
– За что? – ахала домработница.
– За шантаж, – отвечала Анна Ивановна. И, сколько бы домработница ни лила горючие слезы, сколько бы ни вымаливала прощение, Анна Ивановна оставалась твердой, как кремень. Она не прощала лжецов, шантажистов и лентяев.
Вика видела, как люди реагируют на жесткое «нет» – теряются, становятся теми, кто они есть на самом деле.
– Викуль, ну ты чего? Я ж для отряда стараюсь, – тут же пошла на попятный Алка. – Сейчас кефирчик тебе принесу. А можно я завтра твое платье на дискотеку одену? То, с ромашками?
– Нет. Позвони моей маме, скажи, что я хочу отсюда уехать, – ответила Вика. – И правильно говорить «надену». На себя ты надеваешь. Сколько раз повторять?
– Викуль, ну ты что? Прости меня. Я не могу сейчас уехать. Отчетный концерт, линейка, последний костер. Я везде задействована. Пожалуйста, что хочешь для тебя сделаю. – Алка перепугалась до чертиков и готова была валяться у подруги в ногах.
– Мне-то что? Я хочу уехать. Иди и звони, – равнодушно пожала плечами Вика.
Алка сбегала и за кефирчиком, и булку лишнюю принесла, но Вика стояла на своем – не хочу, надело, уезжаем.
Ночью Алку мучили кошмары. Она не хотела, чтобы лучшее время в ее жизни, самое счастливое, заканчивалось лишь потому, что Вике надоело. А как же ее желания? Ее чувства? Она ведь тоже человек, личность.
Утром она все высказала Вике – и про то, что она при ней не горничная, что не обязана, что не прислуга и вообще сама по себе. И пусть Вика уезжает, если ей так хочется, а она останется. Ей здесь хорошо. Так, как нигде не было.
– Хорошо, – спокойно ответила Вика.
– Что – хорошо? – не поняла Алка.
– Я тебя поняла. Уйди, пожалуйста. Ты мне мешаешь. Кажется, тебе знамя пора поднимать. – Вика кивнула на открытое окно, откуда раздавались звуки утренней побудки и призыва к зарядке.
Алка не услышала звук трубы, ведь в голове и так звенело и стучало. В тот момент она готова была убить, задушить Вику, лишь бы не уезжать, когда столько всего интересного впереди, когда есть еще целая неделя прекрасной, удивительной жизни.
– Закрой за собой дверь, пожалуйста. Кажется, ты забыла, благодаря кому здесь оказалась. – Вика брезгливо, копируя мать, подернула плечами, не отрывая взгляда от книги.
Алка выбежала на зарядку в слезах. Вику она ненавидела. И ее отца, и мать. И свою мать заодно. Она всех ненавидела.
Целый день она не появлялась в палате, а вечером обнаружила, что Вики нет.
– Где Вика? – в тот момент у нее оборвалось сердце.
– В лазарете, – ответили равнодушно остальные девочки. – Давай мы ее вещи возьмем? Алка, ну пожалуйста. Она все равно не заметит.
Пока Вика лежала в лазарете, девочки с разрешения Алки таскали ее вещи – юбку порвали, брюки заляпали грязью. Блузки не подлежали восстановлению. Помада была использована подчистую, спичкой выковыривали остатки. Косметический набор уронили – тени рассыпались. Все было изничтожено. Даже туфли, которыми так восхищалась Алка. Туфли уже она порвала. Ремешок оторвался. Но ей стало все равно. Она была сама по себе. Главной. Уже она давала разрешение надеть Викины юбку или майку или запрещала. Она носила лучшие Викины вещи, к которым раньше могла лишь прикоснуться, чтобы развесить в шкаф, и неизменно становилась звездой дискотеки – ее первую приглашали на медленный танец.
Свойство детства – жить здесь и сейчас. Пользоваться моментом. Свойство зрелого возраста – жить с оглядкой на последствия. Впрочем, некоторым женщинам удается сохранить детское умение жить, не задумываясь о завтрашнем дне, в сознательном возрасте.
Вика, выйдя из лазарета, тут же отправилась к директрисе лагеря и потребовала телефонный звонок. Прибежавшая старшая пионервожатая наткнулась на жесткий взгляд.
– Мне надо позвонить, – отчеканила Вика и в тот момент была очень похожа на своего отца, которому не смели перечить. И на мать, которую не любили, но боялись.
В палате она открыла шкаф и тумбочку. Пропитанные чужим потом вещи. Даже трусы носили, не брезговали. Вика вывалила все на кровать Алки.
– Забирайте, – сказала она.
Девочки кинулись разбирать богатства.
За Викой прислали машину. Она вышла с одной сумкой, оставив все, что привезла. Алка рыдала, умоляя оставить ее на последний костер, отчетный концерт. Но ее запихнули в машину, как чемодан. Не стоит заставлять Вику ждать.
Что случилось, когда они вернулись в свой город? Алку, к всеобщему облегчению, немедленно отчислили из школы, которая считалась элитной и самой сильной в городе – она программу не тянула. Ее терпели благодаря Вике.
Алкина мама собиралась пойти на поклон к благодетелям, но прежде решила узнать, с чего дочь впала в немилость. Алка с пионерским запалом рассказала и про шмотки, и про линейки, и про прислугу, каковой она быть не собирается. И не должна. Так ей даже старшая пионервожатая сказала. Мол, нечего пресмыкаться. У нас – социальное равенство и все такое.
– Дура… какая же ты дура… – ответила мать и не пошла на поклон к Викиным родителям.
Алка считала, что ни в чем не виновата.
– То, что ты сделала, – предательство и воровство. Ты брала чужие вещи без спроса, – сказала мать, залепив дочери звонкую пощечину.
Каждый остался при своем. Вика, уехав учиться в Москву, так и не завела подруг. Вышла замуж, успешно, разумеется, но с мужем не стала ни другом, ни близким человеком. Брак получился удачным именно по этой причине. Муж Вику ценил и уважал. Новорожденную дочку обожал. Был благодарен тестю за подаренную на свадьбу квартиру с ремонтом под ключ. Теще – за помощь с ребенком. А жене – за то, что не устраивала скандалы. Ни одного. Она оставалась неизменно приветлива, тактична и вежлива. Он называл жену «снежная королева», но не собирался растапливать льдинки в ее сердце. Его все устраивало. А Вику устраивало то, что муж ей благодарен. И неизменно вежлив, приветлив и тактичен. Идеальный брак.
Алка свою бывшую подругу с годами стала яростно ненавидеть. И лишь ее обвиняла во всех своих бедах. Она взяла клиентов матери – убирала в квартирах, на дачах. Мыла подъезды, пропалывала чужие грядки. Денег все равно отчаянно не хватало. Поступить она не смогла даже в местный заштатный институт. Как-то позвонила матери Вики и попросила помочь. Та жестко ответила «нет». Алка чувствовала, как в тот момент Анна Ивановна брезгливо передергивает плечами.
* * *
Жизнь в нашем пансионате шла своим чередом. Появлялись новые отдыхающие. Одна семейная чета довела дядю Пашу до артрита, разыгравшегося на нервной почве. Колени ломило так, что встать не мог. Дядя Паша был убежден, что артрит на него наслала та самая семья. Но сначала лишила самого ценного – фотографической памяти, которая была его гордостью и проклятьем. Дядя Паша закрылся в каморке, лежал, намазав и укутав одеялом колени, и повторял имена и фамилии жильцов и в каких номерах они поселились. Всех помнил, включая прошлогодних, а этих – никак. Бедный Славик разрывался, таская лежаки, отмечая пришедших и ушедших. И тех, с кого нужно взять плату.
– Дядь Паш, ну не похрен ли? Ну спросите, кто из какого номера. Я вот вообще этих дамочек не отличаю, – убеждал начальника Славик. – Они у меня все на одно лицо.
– Славик, заткнись, – отвечал дядя Паша. – Лучше проверь меня. Карпухины – двести пятый, Игнатьева с дочкой, сейчас… Арина. А мать, Кристина, сто первый.
Славик от отчаяния закатывал глаза.
Даже я в какой-то момент решила, что надо увеличить количество шагов на вечерней прогулке, иначе меня тоже настигнет нервный срыв, как у дяди Паши. Еще, конечно, я грешила на местное шампанское. Впрочем, его я выпила всего половину пластикового стаканчика, поддавшись на уговоры Ирины – той самой женщины с ромом. С ней я подружилась. Мы выбирали рядом лежаки на море и у бассейна. Нам было хорошо вместе. Молчать. Ирина дремала после утренней дозы рома. Я читала. Мы даже не здоровались, лишь кивали друг другу. Очень приятная женщина. Но дядя Паша, которому я принесла мазь от артрита, заверил, что дело не в шампанском. У него память отшибло точно не от него, а от того семейства.
На следующий день, столкнувшись с семьей, на которую мне, чуть ли не крестясь, указал дядя Паша, я решила, что у меня профессиональное заболевание – буйная писательская фантазия перенеслась в реальную жизнь, и теперь я живу в кругу персонажей, а не нормальных, обычных людей. Или мои персонажи – будущие или бывшие, давно забытые, – начали меня преследовать, поставив цель свести с ума.
– Ирина, у вас не бывает ощущения, что двоится в глазах? – не выдержав, спросила я.
– Каждое утро и каждый вечер. И днем иногда, – ответила сквозь дрему Ирина.
– А если мне кажется, что я вижу одного и того же человека, только в разной одежде? Ну пять минут назад увидела, поздоровалась, а потом снова его встречаю, уже в других шортах и майке. И этот человек опять со мной здоровается, будто мы еще не встречались. Это что значит? Сумасшествие?
– Это нормально, – откликнулась Ирина, не открывая глаз, – я все время своего бывшего вижу. То его спину, то рубашку, то руку. Один раз совсем был кошмар. Показалось, что я с ним в одном самолете лечу. Поклясться была готова, что это он. А я уже с нынешним мужем. Весь полет страдала, как мы столкнемся на выходе. В туалет бегала, чтобы получше рассмотреть его, ну, того, который мне бывшим показался. Типаж один, только и всего. А вы кого видите? Тоже бывшего?
– Женщину. Здесь познакомились. Она искала, где вайфай ловится, я подсказала. Перекинулись парой слов. Потом еще раз столкнулись – мне нужно было по работе файл отправить. И ей тоже. Вот теперь она мне все время мерещится, – призналась я.
– Это вы про сестер-близняшек? – расхохоталась Ирина. – У нашего дяди Паши от них артрит и психоз разыгрались. Он тоже думает, что с ума сошел и перестал запоминать лица проживающих.
Да, как выяснилось и подтвердилось, семья оказалась необычной. Две сестры-близняшки, неотличимые друг от друга. Нет, одевались они в разное, к счастью. Но не так, чтобы одна предпочитала шорты, а другая – исключительно платья. Менялся только цвет нарядов. Они носили одинаковые очки и прически-хвостики. Одинаковые тембр голосов, походка, жесты, телосложение. На них приходился один муж и трое детей. Понять, чей из близняшек муж, мне так и не удалось. И кто мать двух мальчиков и девочки – тоже. Муж возился сразу с тремя и с обеими женщинами был ласков и нежен.
– Надо дяде Паше сказать, что они близняшки и что с его профессиональной памятью все в порядке, – сказала я.
– Я говорила. Он не поверил, – ответила Ирина. – Еще немного, и он поверит в вышки – пять-джи и инопланетян. А я говорила, что на отдыхе лучше пить, чем не пить. Ладно, дядя Паша, он на работе, но вам точно нужно выпить. Легче будет воспринимать действительность.
– Я хожу. Каждый вечер. Вчера почти пятнадцать тысяч шагов прошла, – призналась я.
– А я не хожу, а лежу. И пью. И кому из нас хорошо? – хмыкнула Ирина.
На всякий случай я здоровалась каждый раз, когда встречала сестер.
– Уже виделись, – отвечала та, с которой мы успели встретиться в этот день.
– Здравствуйте, – говорила другая.
– Ир, дай выпить, – попросила наконец я, перейдя на «ты».
– Давно пора. – Она протянула мне походную фляжку. – У меня еще одна есть, не переживай. Эта – именно на такой случай. Надо бы дяде Паше тоже отлить. Хороший ром, дорогой. Он оценит.
Потом мы сидели в каморке дяди Паши, пили ром. Все, естественно, закончилось местным шампанским. Утром мне было так плохо, что стало наплевать, с кем я уже здоровалась, а с кем нет. Дядя Паша восстал из мертвых и начал рисовать маркером якорь на руках «своих», то есть отдыхающих, – вместо браслета или печати. Дети радовались и просили нарисовать еще рыбку, русалку или кораблик. Женщины искали новые места для рисунков – дядя Паша оказался неплохим художником. Изображал на бедрах дамочек птичек, какие-то замысловатые фигуры и сердечки.
На пляже случилось нашествие божьих коровок. Просто слет какой-то. Дети прыгали от восторга. Считали пятнышки и говорили, сколько лет коровке. Потом дружно кричали: «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого» или «Божья коровка, улети на небо, там твои детки, кушают конфетки. Все по одной, а тебе ни одной». Коровки улетать не собирались. Садились на руки, на ноги. Дети устали считать пятнышки и загадывать желания. Улиток давить им тоже быстро наскучило.
А потом начался слет богомолов. Они садились на полотенца и сидели, не двигаясь. Какой-то юный натуралист поделился с остальными детьми знанием – самки богомолов поедают самцов после спаривания. К счастью, половина детей не поняли, что значит «спаривание», а остальные просто пропустили информацию мимо ушей. Но все дружно сажали двух богомолов на одно полотенце и ждали, когда один сожрет другого. Когда терпение заканчивалось, дети шли вылавливать медуз, чтобы зажарить их на солнце. Дети вообще кровожадные существа, но когда они собираются компаниями, это вообще кошмар. Впрочем, родители были счастливы – на пляже воцарилась тишина. Дети или сидели, гипнотизируя божьих коровок, или ждали, когда богомолы наконец начнут друг друга жрать или хотя бы спариваться, или наблюдали, как медузы превращаются в жижу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































