Текст книги "Когда мама – это ты"
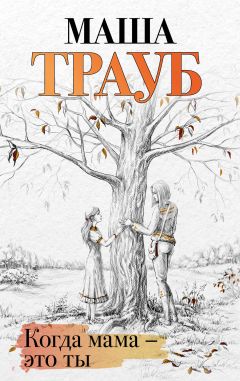
Автор книги: Маша Трауб
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Булки – да, бабе Тане удавались. Она пекла каждый день разные, что, видимо, разрешалось, – то с маком, то с повидлом, то просто сдобные. Утром ставила тесто, замешивая в здоровенной кастрюле, чтобы к вечеру напечь. Четыреста штук. Иногда выходило четыреста пятьдесят. Но котлеты неизменно оказывались или переперченными, или пересоленными. Баба Таня не чувствовала вкуса, хотя честно пробовала сырой фарш. Просила меня попробовать, но я так и не смогла себя заставить. Баба Таня курила «Приму» и пила водку, как воду. Поэтому на ее вкусовые рецепторы полагаться не стоило, как и на память. Она забывала, посолила борщ или нет, и на всякий случай солила еще раз. Да и сама предпочитала посолонее и поострее. Острый перец могла есть не морщась. Впрочем, на булки она не жалела сахара и ванилина. Была доброй – в добавке никогда не отказывала и даже предлагала: «Кому добавочки?» Но никто не хотел – то, что лежало на тарелке, проглотить бы, какая уж там добавка… Всем пионерам, кто строил планы побега из лагеря домой, включая меня, баба Таня выдавала с собой «сухой паек» – пару яиц вкрутую, отварную картошку, булки или хлеб.
– Без еды сбегать нельзя, – серьезно говорила она. Конечно, потом шла к директору лагеря и докладывала, кто «утек». Беглецов возвращали или с автобусной остановки, или, самых прытких, с автовокзала. Мне удалось доехать до соседнего городка, дальше всех. И я знала, что меня «сдала» баба Таня.
– Зачем? – плакала я, когда меня поймали, вернули, и я опять стояла на раздаче, шмякая на тарелки котлеты.
– Так положено, – пожимала плечами баба Таня, – нельзя сбегать. Положено отбыть свой срок, вот и терпи.
Я была уверена, что до работы в пионерском лагере баба Таня сидела в тюрьме.
Но никто кроме меня не знал, что это повариха сообщала о побегах. Думали, ребята проболтались. А бабу Таню любили – она закрывала глаза на то, что мы воровали хлеб с подноса или сахар из сахарницы. Все просились на дежурство по кухне – перемыть подносы с несмываемым слоем жира или начистить ящик картошки. Баба Таня за труд платила щедро – угощала арбузом или дыней. Выдавала лишнюю ватрушку или могла пожарить картошку. Вкуснейшую, кстати.
– Баба Таня, почему вы всем такую картошку не жарите? – спросила я.
– Не положено, – пожала плечами баба Таня, колдуя над кастрюлей с рисом, давно превратившимся в несъедобную размазню.
Еще помню, про бульон или жаркое повариха говорила не «тушится», а «млеет». «Пусть помлеет пару часиков» – это относилось к мясу на суп, которое уже по виду было жестким и нежующимся. Баба Таня умела сделать его мягким – сначала отпивала из собственной фляги водку, а потом плескала ее же в кастрюлю. «Разомлело», – говорила баба Таня про разваренное в лохмотья мясо.
На окончание смены повариха всегда готовила сальтисон. Я думала, что благодаря жизни у бабушки, где резали куриц, барашков, коров, все знаю про мясо, но оказалось, что нет. Баба Таня призвала меня на помощь, и тот вечер я не забуду никогда.
На главном разделочном столе на кухне лежала свиная голова. Баба Таня стояла над ней, вооружившись топориком и примериваясь.
– Смотри, надо разрезать на шесть частей. Глаза я уже вынула, сейчас обрежу уши, – комментировала баба Таня свои действия.
В тот момент я уяснила главный жизненный урок – нельзя судить людей по внешности. Баба Таня, ловко орудуя тесаком, вовсе не была милой поварихой. Я нашла подтверждение своей догадке – она сидела в тюрьме, потом зарезала охранников и сбежала. Даже мужчины в селе, где я выросла, так ловко не резали баранов, как баба Таня – свиную голову.
– Ну что застыла? Вон, желудок в раковине лежит, промыть надо, – прикрикнула она.
Промывать внутренности мне было не впервой, но я никогда не сталкивалась со свининой. Наверное, поэтому грохнулась в обморок. От запаха, который ни с чем не сравнить и ни с чем не спутать, и от вида свиной головы без глаз и ушей. И желудка, который показался мне огромным и страшным.
Сальтисон – не холодец, который часто варили в северном городке, где я жила. Совсем другое блюдо. Другая консистенция – намного гуще. Сальтисон для меня стал символом, квинтэссенцией той детской лагерной жизни. Баба Таня укладывала сверху цветочки, вырезанные из морковки. От этого становилось совсем плохо – если знать процесс приготовления с самого начала… С момента вытаскивания глаз из свиной головы и обрезания ушей.
Залитая в желудок жижа, раздробленные кости свиной головы, в которой нет мяса. Застывшая жижа – страшная, мутная. Она не качается, как фруктовое желе, если тронуть пальцем. Жижа мертвая, в ней с самого начала не было ничего живого и свежего. Серого цвета, помойного, отдающего безнадежностью. Как жизнь, которую вели наши родители и которую обсуждали на кухнях. Как сам пионерский лагерь, куда ссылали детей, чтобы родители могли работать, выяснять отношения, выживать, «отдыхать» от детей, пока дети вроде как «отдыхают» в лагере. Лагеря позволяли родителям вообще забыть о том, что они родители. В обычной жизни они все-таки об этом вынуждены были помнить. А тут – на две недели, на месяц становились свободными и бездетными. Связь отсутствовала. Только через директора лагеря в экстренных случаях, о которых, конечно, предпочитали не сообщать. Мне как-то удалось сбежать в город, добраться до почты и отправить телеграмму. Но ее получила за маму соседка и забыла передать. Так что я быстро поняла, что баба Таня права – надо отбыть срок. Никто по УДО не выпустит.
После того, первого лагеря я спросила у мамы, что такое УДО, о котором часто вспоминала повариха. Отчего-то я думала, что УДО – это удочка, только сокращенно. Мама расшифровала аббревиатуру, даже не задавшись вопросом, откуда я ее знаю.
Помню, как купила на юге для мамы какой-то безумно дорогой набор косметики – что-то с лавандой. Мыло, крем. Мама его кому-то немедленно передарила. А я плакала еще месяц. Ведь из-за этого набора у меня не осталось денег. Вообще. Это был хороший урок. Я научилась оставлять деньги на «черный день». Когда увидела бабу Таню, которая продавала мясо у дальних ворот лагеря, куда пионерам ходить запрещалось, промолчала, никому не сказала.
– Это мои гробовые, – объяснила баба Таня. Она меня, конечно, увидела. Да я и не пряталась. – Если денег не будет, дети меня в морге оставят, не заберут. Я перед ними виновата. Пусть оставят, а гробовые мои между собой поделят. Хоть так смогу свою вину перед ними искупить. Вот соберусь помирать, положу сберкнижку на стол, чтобы они сразу увидели. Только после этого умру спокойно.
– Много вы скопили? – спросила я, чтобы поддержать разговор.
– Много, не много… – хмыкнула баба Таня, – все равно ведь переругаются, когда делить начнут. Сколько ни оставь, им мало покажется. За рубль перегрызутся.
– Моя мама – адвокат. С ней посоветуйтесь. Она скажет, как лучше написать завещание, – сказала я серьезно.
– Ой, ну что ты каркаешь? Какое завещание? Я же еще не помираю, – отмахнулась баба Таня, – мне еще лет пять минимум надо впахивать.
– Такое завещание. Чтобы дети не перегрызлись. Когда помирать начнете, не до этого будет. Надо заранее. Напишете, кому, сколько и что.
– Бедная девочка. Что из тебя вырастет… Ох, дай бог тебе судьбу полегче. – Повариха вытерла углом фартука слезы.
До сих пор, когда кто-то варит холодец, я чувствую запах через несколько лестничных клеток и борюсь с приступом тошноты. Почему на свадьбах и похоронах неизменно присутствуют два блюда – салат оливье и холодец с морковкой в качестве украшения? Сколько должно смениться поколений, чтобы холодец в качестве закуски, сопутствующей новому этапу жизни мирской и началу жизни загробной, перестал существовать? Так же, как засаленные столы, прогнившие от пыли занавески, тарелки со сколами, облупленные бокалы.
В селе, где я выросла, тарелки со сколами, «откусанную» посуду, тут же отправляли в мусорное ведро. Она несла несчастье в семью.
* * *
– Баб Кать, группа пришла, выдавайте, – беспокоилась администратор Людмила. Она, конечно, заслуживает отдельного рассказа. Одни ресницы чего стоят. Боже, это не ресницы, а шедевр, созданный не новомодными технологиями, а явно по старинке – поплевать на кисточку, нанести, потом присыпать ресницы пудрой (раньше – мукой), еще раз поплевать и вторым, третьим слоем, щедро. Ресницы получаются грандиозными, глаз не оторвать. Как лапки жука-навозника. С налипшими комками черной грязи. И взгляд томный, потому что нет сил эти ресницы поднять. Нет, не веки, не надо сейчас про Вия вспоминать. Веки как раз что надо веки – с тщательно прорисованными стрелками. Мне такие никогда не удаются. И в складках краска не скапливается в валики. Стрелки идеально ровные, до бровей. А сверху что-то мерцающее, сверкающее. Людмиле достаточно было моргнуть, чтобы ресницы взлетели. – Очередь не отсюда, а оттуда. Почему не логично? Разносы там, сюда идете, берете и по лестнице поднимаетесь. Не хотите подниматься? Так внизу садитесь. Разносы назад относите. Подносы, да, то же, что и разносы. У нас так говорят.
Баба Катя задерживает раздачу – ложки не может найти. Вроде бы несла, а куда положила – не помнит. Ложки эти – размером с половник. Из моего детства. Один плюх на порцию.
– А где ваши-то? Накрывать-то кто будет? – спросила меня Людмила.
– Я накрою.
Тоже из детства – накрыть, раздать, разложить. На всю группу или отряд. Чтобы Людмила не запуталась, кому уже выдано «питание», а кому нет. На группу сразу выдают. И суп, и второе. А то, что давно все остыло, так приходить надо вовремя.
– Не представляю, как вы всех помните, – сказала я бабе Кате, относя тарелки на столы. Детские порции, взрослые. Она раскладывала по справедливости – детям и лишний кусок мяса в суп могла положить.
– С восемьдесят девятого года я работаю, – спокойно ответила баба Катя, – всю жизнь здесь. После матери как заступила, так и работаю. Вы когда уезжаете? Через три дня? Вот всегда так. Только привыкну, запомню, сколько порций с подливой, сколько без, кому половину супа наливать, кому с добавкой, а вы уже уезжаете. Почему сейчас с подливой никто не ест? Без подливы-то совсем сухо.
Я крошила на тарелку серый хлеб. Баба Катя говорила «хлебушек». И «небушко», «солнышко», «морюшко». «Что ж вы без хлебушка-то? А на морюшко ходили сегодня, накупались? Небушко-то чистое, ни тучки».
Только в тех местах бывает тот серый хлеб, который я люблю. Да и белый – не батон, а кирпич – тоже. Но серый самый вкусный. Мы его в лагерях всегда воровали. Недостачу белого замечали, могли выволочку устроить и шмон по палатам, а серого никто не хватался.
Мне стало как-то нехорошо. Баба Катя. Баба не по возрасту – она была ненамного старше меня, – а по положению, доставшемуся от матери. Была баба Таня или баба Света, а теперь вот баба Катя. Да всегда так называли поварих. Разведенная. Да и был ли муж, не помнит. Был и сплыл быстрее, чем тьма в южных городках обрушивается. Еще две минуты назад светло, и вдруг – хоть глаз выколи. Звезды яркие, низкие. Закат всегда ослепительный, страшный. Сын, да, есть. Давно не приезжает. Уехал за лучшей жизнью. Нет, не в Москву. Зачем в Москву? И здесь можно хорошо жить. В Симферополе таксует. Никак не женится, не остепенится. Так бы, конечно, внуки сюда приезжали. На морюшко. Она уже любой невестке рада. Да пусть и не официальная. Лишь бы родила. Очень внуков хочется. Полялькаться, потетешкаться.
– А ты из наших краев, что ли? – спросила меня баба Катя.
– Почти. В детстве здесь часто бывала, – ответила я, не пускаясь в подробности. Баба Катя поджала губу. Рассчитывала на рассказ.
Что я ей могла рассказать из того, чего она не знала? Одинаковые палаты на двенадцать человек. Туалет общий на этаже. Дверцы, которые прикрывают ровно посередине. Если присядешь, видно по пояс, привстанешь – по плечи. Пока найдешь нужное положение, чтобы ни голова, ни задница не были видны… Замки, конечно, давно сорваны с корнем, крючок на честном слове держится, да и тот щель в двери уже не способен прикрыть. Открытые душевые. Конечно, общие. Будут еще делить на женские и мужские. Мылись сначала девочки, потом мальчики. Но мальчишки, конечно, раньше приходили, врывались. Девочки визжат, ребята гогочут. Ежедневный аттракцион. Девчонки, из тех, кто побойчее и понаглее, полотенцами на ребят машут, прогоняют. Но так, исключительно для вида. Игра такая. Под конец всем было наплевать – игра давно надоела обеим сторонам. Мылись с мальчиками – иначе горячая вода закончится. Да и с холодной часто случались перебои. Никто ни за кем больше не подглядывал – бытовые сложности уничтожили интерес к интимным подробностям. Интерес остался один – побыстрее смыть соль и грязь. Голову мылом помыть, лучше хозяйственным. А то, если вши заведутся, медсестра всем веселую жизнь устроит. У кого длинные волосы – отрежет, не спрашивая. И вонючим дустовым мылом намылит. Ребятам проще – сразу бритье машинкой наголо, и свободен.
До сих пор помню ту медсестру – Сталина Ивановна. Мы ее звали сначала Сталин, хотя та утверждала, что имя не в его честь дали, а в честь стали. Мол, чтобы у девочки характер стальной был. Не знаю, я бы застрелилась, лишь бы с таким именем не жить. Даже Джульетта, которую все звали Джулькой, и то лучше. Вообще в детских коллективах в то время лучше было иметь стандартное имя. Хотя мне Сашка Антипов каждый вечер голосил на гитаре «Мурку». «Мурка, ты мой котеночек… Маруся Климова, прости любимого». Повариха баба Таня называла меня Марусей. К Сталине Ивановне приклеилось прозвище Гестапо, которым ее наградил как раз Сашка Антипов. Потом ходили слухи, что не только следующие смены ее так называли. Прозвище осталось с ней на много лет и передавалось из уст в уста. Так же, как и прозвище начальницы лагеря. Ту звали Мумия.
Окрестили ее задолго до нас. Нам же достались уже легенды – говорили, что Мумии уже восемьдесят лет или даже больше. Нет, она не пьет пионерскую кровь, а высасывает детскую энергию одним взглядом. Мол, те, кто когда-то попадал в кабинет Мумии, потом выходили больные и зеленые. Обессиленные. Еле ноги волочили. Будто не дети, а старики какие-то. Потому что Мумия всю их детскую энергию забирала и подпитывалась ею.
В эти мифы верилось легко, поскольку начальницу лагеря все смены видели всего два раза – в день приезда и в день отъезда. Она стояла на сцене и отдавала приказ поднять флаг смены и опустить флаг смены. Получалось, что я ее видела чаще, чем все остальные, и меня донимали вопросами. Что я могла рассказать? Мумия была без возраста, особенно если смотреть издалека. Всегда тугой пучок, белая блузка, черная юбка и туфли на каблуках. Баба Таня говорила, что директриса в этом лагере с момента основания.
– Сама не уйдет, ее только вынесут отсюда вперед ногами, – смеялась повариха. – Дай бог ей здоровья, меня на работу взяла. Никто не брал, а она взяла. Сынок у нее неудачный получился… Жаль ее. Только работа и держит.
– А что с сыном?
– Так известно что. Снаркоманился и помер. Семнадцать лет всего мальчонке было. После его смерти она и замерла будто. Ходит, говорит, а неживая. Хватит разговоры разговаривать, давай, яблоки еще надо перемыть. Вон ящик стоит. А то обдристаетесь, мне потом отвечать.
Перед заездом новой смены, в середине и в конце, Сталина Ивановна усаживалась во дворе, и к ней выстраивалась очередь из пионеров. Она проверяла всех на вшей. Надо было встать на колени, чтобы ей было удобнее, и она вонзала свои когти в голову, а когти у нее были что надо – длинные, острые. Этими когтями она проводила по голове, делая очередной пробор. И это точно похлеще, чем пальцем по стеклу или «крабика», когда пальцами по коленной чашечке проводят – пробирает до костей. Но самое ужасное случалось, если Гестапо обнаруживала гнид. Она сдирала капсулу с волоса вместе с волосом, укладывала на ноготь и давила другим ногтем. С наслаждением. Вид при этом у нее был совсем нездоровый. Мы были убеждены, что она точно чокнутая или, как тогда говорили, «шизанутая». Потом, намазав дустовым мылом жертву и заставив ходить с пакетом на голове чуть ли не целый день, Гестапо лично смывала голову несчастной, а это, как правило, были девочки, и начинала вычесывать волосы гребнем на белое вафельное полотенце. Да, за это можно было бы сказать ей огромное спасибо, если бы не конец процедуры. Она начинала давить на полотенце вшей. И это занятие доставляло ей настоящее удовольствие. До сих пор вздрагиваю, вспоминая.
* * *
Мы даже не целовались после дискотек. Никакой интриги. Знаешь, что у Кольки пахнет изо рта, потому что он забыл зубную щетку и решил в принципе не чистить зубы. У Сашки такая поросль по всему телу, что понятно почему прозвище – Орангутанг. Леха – Гулливер. Ни одного волоска на теле. Взрослый, старший отряд, а ничего не растет. Даже борода. Худющий, высоченный. При волнении выдавал девичий румянец.
Чем мальчики отличаются от девочек? Да ничем. Мы это в лагере узнавали. Всем одинаково страшно и стыдно. Девочки прикрывают грудь, не важно – рано развившуюся или никак не развившуюся, «доска – два соска». Мальчики – мужское достоинство. Все одинаковые, поставленные в равные условия, когда можно только выживать, но не жить. Лишенные хоть какого-то уважения к нуждам. Когда в лагере на полдник полагался арбуз, абрикосы или другие фрукты, баба Таня всегда причитала: «Опять дристать начнут. А мне-то что делать? Положено выдать, я и выдаю. Надо ведра поставить по палатам». Арбузы всегда были нежно-розовыми, а абрикосы – недозрелыми. Я после бабушкиной северокавказской деревни знала, как выглядят настоящие фрукты, и никогда не ела их в лагере. А остальные…
Ночь проходила в беготне до ведра. Вожатые разрешали открыть окна, чтобы дать выход запаху испражнений. Но тот не выветривался. «Поносили» все. Баба Таня утром варила овсянку на воде без масла. На обед – рис с отварной куриной грудкой, лапша куриная. На свой страх и риск повариха меняла утвержденное меню. Каждый раз боялась, что заметят – лапшу вместо свекольника сварила, а рагу на грудку заменила, еще доложат куда следует.
– Посодют меня с вами, – причитала баба Таня, – точно посодют. А мне-то что делать? Каждый раз одно и то же.
Пока дети мучились поносом, вожатые лежали над такими же ведрами, но уже лицами. Домашнее вино, купленное тайно у местных умельцев, вызывало мгновенное опьянение и такое же мгновенное отравление. Блевали все, даже самые крепкие. Сталина привычно разводила марганцовку в трехлитровых банках.
Утром все ходили бледные и вялые. В лагере объявляли «день самоуправления», что означало – делайте что хотите. Все хотели одного – умереть. Гестапо скармливала и детям, и вожатым активированный уголь и заставляла выпить раствор марганцовки. Если вы когда-нибудь запивали таблетки активированного угля марганцовкой, вы меня поймете. Если нет, то у вас было счастливое детство.
Нас в душных автобусах вывозили на пляж – загаженный. Переодевались «под полотенчиком». Обязательно играли в пляжный волейбол над криво натянутой сеткой. Кто не мог ходить по гальке и камням, считались больными и нервными. Слабаками. Я с тех пор по горячим камням могу пройти, даже бровью не поведу. А вот наступить в воде на палку с воткнутым ржавым гвоздем, потом загреметь в городскую больницу – считалось геройством. Прививка от столбняка? Нет, не слышали. Всех тогда от оспы прививали – по шраму на предплечье, точнее, его наличию или отсутствию, я сейчас могу определить возраст человека. В больнице на чистых простынях, с душем, в котором всегда была вода, хоть горячая, хоть холодная, было хорошо. А больничная еда, не в обиду бабе Тане, казалась в миллион раз вкуснее. Я попала в больницу не со столбняком, а с потерей голоса. Причем тотальной. Не хрипела и не сипела, ни звука не могла издать. Даже Сталина тогда перепугалась. Впрочем, я до сих пор могу онеметь на нервной почве. Тогда про нервную почву у детей ничего не знали и не хотели знать, поэтому в больнице меня кормили аскорбинкой, гематогеном и устраивали прогревания – надо было дышать через трубку. Но поскольку эта трубка была чуть ли не одна на всех и ее забывали протереть после предыдущего пациента, я так ни разу и не смогла пройти процедуру. Меня начинало рвать, едва я видела трубку, которую требовалось засунуть глубоко в рот. Так что в больнице меня лечили не пойми от чего. Внезапная рвота не позволяла меня выписать. Если бы кто-нибудь спросил, я бы честно объяснила, что реагирую на трубку, которая прошла через несколько ртов, но меня никто не спрашивал – я ведь не говорила.
По возвращении из лагерей все дети направлялись в поликлинику за справкой – искали дизентерию. Остальное никого не интересовало.
Было ли что-то хорошее? Конечно, было. Ночные купания, «королевская ночь», когда все мазались зубной пастой, письма подружек – мы писали друг другу, находясь в разных городах. Отправляли свои фотографии. Рассказывали про школу. Дружно собирались встретиться на следующий год, на второй смене. Нет, на третьей. Я ждала этих писем, длинных и подробных. С обязательными приписками в конце: «Жду ответа, как соловей лета». Тогда еще существовал эпистолярный жанр. Письма никогда не выбрасывались. Я перематывала их лентами и хранила. Жаль, сейчас нельзя обмотать лентой чат в ватсапе. И жаль, что современные девочки, девушки могут легко закончить отношения одним движением – удалить чат. И первая любовь, детская, подростковая, не останется в памяти. И они никогда не узнают, каково это – получить письмо, в котором Сашка пишет, что полюбил другую девочку и это письмо – последнее. А потом сидеть и плакать над стопкой писем, не зная, выбросить их в мусорное ведро или сжечь. Выбросить, а спустя час рыться в мусорке, вытаскивая заветную стопку, перемотанную ленточкой, в которой зачитано до дыр каждое послание. Вытащить, обрыдаться и снова выбросить. А потом снова вытащить и оставить на память самое первое или третье, с признанием в вечной любви и засушенным цветком. Нет, то, которое пришло с ракушкой, уже расколотой. Ту ракушку Сашка нашел в вечер первого поцелуя и, оказывается, хранил. Оставить себе хоть осколочек той ракушки.
«Построились по парам. Даша несет флаг отряда. Не отстаем, не растягиваемся. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд!» Мы шли сонные, вялые, ополоумевшие от солнца, пляжного волейбола и вожделенного купания в теплой жиже, в которую превращалось море, засунутое в буйки. Нестерпимый запах. Нас заставляли дышать, потому что полезно. И это не тина, а сероводород.
Вожатые мазались грязью, считавшейся лечебной во всех возможных смыслах. Ходили черные, как негры, потом долго смывались. Ребята дурачились, а девушки верили, что станут красавицами. Покрывались прыщами или сыпью, но все равно снова мазались. Для чего? Да фиг знает. Но все мажутся. Вон тетки черные стоят на берегу, раскидав руки в стороны. В те годы многие загорали не лежа, а стоя. До сих пор не понимаю почему и, главное, зачем. Чтобы ровнее загар лег? Нигде такого нет, только на наших пляжах. И чтобы непременно сначала до красноты, до ожога, так, что не притронешься. Потом лежать в душном номере, намазавшись толстым слоем сметаны, и страдать. Покрыться волдырями, сдирать лопнувшие ошметки кожи. Это отдельное удовольствие – подхватить край и тянуть, чтобы ровная полоска сошла. Опять до красноты. Вернуться с каникул обугленной, как головешка, неровно, с белыми прогалинами на внутренней стороне рук и пятнами на ногах. Коленки всегда быстро загорают, как и ступни. А так, как ни вертись подобно шашлыку на мангале, все равно получишься шашлыком – где-то недожаренным, где-то подгоревшим. Лицо и руки – в пигментных пятнах. Наплевать. Зато по возвращении все обзавидуются: на море была, загар сразу видно, не на грядках и не в беготне по городу полученный. Детей на пляж без трусов выводили, чтобы целиком загорели. Шоколадка. Мать, которая отправила ребенка на море, – героиня. И не важно, что потом ребенок по ночам кошмарами мучается, от кишечной палочки лечится. Главное – «морюшко», пусть и загаженное. Солнышко. А про тепловой удар, когда ребенок без сознания валялся, уже все забыли. Зачем плохое вспоминать? И про глистов тоже не надо. Ну зарылось дите в песок, все зарываются, и ничего. Откуда в песке глисты-то? А то, что рвало его, так это точно от арбуза.
Все медуз ловят, и ничего. Почему у моего-то ожог? А как не ловить? Надо ж обязательно выловить, в руках подержать и на горячий песок бросить, чтобы медуза растаяла. Обязательное развлечение для детей. Без него – никак.
– Да шо тебе та медуза сделает? – слышала я крик бабушки. Внучка, девчушка лет восьми, панически боялась зайти в море, покрытое ковром из медуз. – Ты отгребай их руками и плыви.
А внизу, под ногами, – скользкие, покрытые водорослями, камни. Девчушка так и топталась на песке, не в силах зайти в воду хотя бы по колено. Бабушка кричала, что больше внучка на море не пойдет. Та, кажется, была только рада такому обещанию-наказанию.
На берегу рыдает малышка. Ей жалко медузу, которая на ее глазах расплавилась и исчезла.
– Что ты плачешь? Вон их сколько в море. Сейчас еще одну убьем, – говорит ей мать. Малышка рыдает пуще прежнего.
Сейчас хотя бы не заставляют детей полоскать горло морской водой. Меня выписали из больницы. Голос я обрела, но говорила тихо. Орать речовки не могла. Петь строевые песни категорически запретили. И Гестапо лично взялась за мое исцеление. Увидев, что я хорошо плаваю, она устроила мне персональную экзекуцию – плавала вместе со мной. Мы доплывали до буйков, и она требовала, чтобы я набирала воду в рот и прополаскивала горло. Я покорно полоскала, чтобы побыстрее вернуться на берег. Но Гестапо брала с собой пустую бутылку из-под пива и набирала в нее морскую воду. И я должна была целый день курлыкать этой водой с привкусом пива. Когда я заговорила в полный голос, Гестапо была счастлива. Она считала это своей личной победой. Я же просто решила избавиться от экзекуций. На отчетном концерте Гестапо сидела в первом ряду и чуть не плакала от счастья – я пела в хоре про крылатые качели.
Я помню Светку – мама ей в лагерь выдала только трусы от купальника. Не потому, что не было верха, а потому что «чего прикрывать, два прыща твоих, что ли?» А Светка – уже тринадцатилетняя, но не такая развитая, как Наташка – уже с полноценным вторым размером, знающая все про месячные, которые называла «мески». Лежала, страдала. Ее не гнали на пляж, а оставляли в лагере. Как же мы ей завидовали и тоже хотели, чтобы побыстрее эти «мески» начались. Наташка рассказывала страшилки – что волосы во всех местах вырастут. Даже усы. И на руках тоже.
– У тебя же нет усов, – заметила я.
– Мне повезло. А у моей одноклассницы Аньки выросли. А на руках, как на ногах – черные и длинные, – ответила авторитетно Наташка.
– И что делать? – ахнули все девочки.
– Как что? Вырывать! – ответила Наташка.
– Врешь ты все, дура, – хмыкнула отчаянно Светка.
Все согласились – врет, конечно же. Я промолчала, потому что знала – бывают волосы и на руках, и на животе. Даже усики у некоторых растут. Как в бабушкином селе у многих женщин. И да, вырывали. Ходили к тете Лине – она лучше всех владела искусством депиляции. Скручивала две толстые нитки и с их помощью быстро избавляла от лишней растительности на теле.
Светка же сидела на пляже одетая и тайком лила слезы. Вожатой отвечала, что не умеет плавать и не хочет. Не могла признаться, что у нее нет верха от купальника. Мы ей предлагали свои, но она мотала головой – не надо, тогда вы не будете купаться.
Это сейчас я везу дочери четыре купальника на две недели – и слитный, и раздельный, спортивный для бассейна, для пляжа открытый. Тогда у нас у всех был один купальник. Мне мой сшила бабушка. Я его очень любила и не хотела, чтобы у меня выросла грудь. Тогда бы купальник стал мал. Мой купальник был не как у всех девочек. Красивый. Лифчик с оборками.
Мальчикам было проще – купались в обычных «семейниках». А Петьке – обладателю модных настоящих плавок, привезенных из Финляндии, – доставалось по полной. Он только раз появился в этих плавках, так его засмеяли и наградили кличкой Петька-Облипон. Конечно, от зависти. Все о таких плавках мечтали. Но проще было Петьку обсмеять, чтобы не «выставлялся».
Я все помню. К сожалению. А что забыла, память тут же подкидывает.
Экскурсии, когда ты четыре часа трясешься по разбитым дорогам в душном раскаленном автобусе. От окна печет, если села на солнечную сторону. Занавеску закрывать нельзя, не положено. Да и не хочется – она липкая, грязная, со следами соплей и не пойми чего еще. Потом куда-то идешь, не понимая зачем. Хочется присесть на лавочку или прямо на бордюр, но нельзя, не положено. Хоть в обморок грохнись – поднимут и поведут под белы рученьки. Потому что по плану у отряда экскурсия, а план срывать нельзя. Голос экскурсовода переходит в истошный крик – она тоже устала. Ей все до чертиков надоело. Особенно эти детские группы. Одуряющая жара, солнцепек. Липнущие к телу майка и шорты. Вода – только в уличных фонтанчиках. Хватаешь воду ртом. Долго. Пока не оттолкнут следующие жаждущие. Все равно не напьешься. Все знают – перед экскурсиями лучше не пить и не есть – туалетов нет, придется терпеть. В музейный не пустит уборщица: «Засрете тут все, не намоешься после вас. Не дети, а дебилы. Дома тоже ссыте мимо? Смывать за собой вас не учили? Одного пусти, все попрутся». Выход был один – попросить женщину, милую и добрую с виду, чтобы провела в туалет. Чтобы сказала уборщице, что я с ней, а не из лагеря.
Все хотели спать. Всегда, постоянно. Но даже садиться на кровать не в тихий час и не после отбоя категорически запрещалось. Впрочем, желание присесть быстро пропадало. Одеяла даже летом в лагере выдавали шерстяные. Пропитанные потом предыдущих поколений пионеров. Перед сном мы вынимали одеяло из пододеяльников. А утром снова вдевали, чтобы заправить кровать по всем правилам. Быстро учились делать это двумя движениями, иначе весь отряд получит строгий выговор за то, что одеяло вытаскивали.
– Вы вытаскиваете и рвете, а мне что? На списание? Или из своих платить за порчу постельного? – кричала на нас сестра-хозяйка Милена Николаевна. Ее все называли Мегера. – Увижу, кто порвет, пусть родители платят.
Пододеяльники были не просто порваны, а продраны и подлежали списанию еще лет десять назад.
– Уголком подушку ставить надо, – продолжала кричать Мегера, показывая, как именно требуется укладывать подушку.
– Какая разница? – обязательно спрашивал кто-то из девочек или мальчиков.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































