Текст книги "Когда мама – это ты"
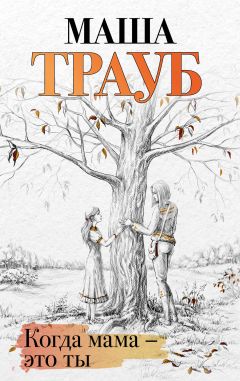
Автор книги: Маша Трауб
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
– В жизни пригодится, – хмыкала Мегера. – В армии и тюряге проще будет. Вот попадете туда, меня добрым словом вспомните.
Мы ложились на пол, открывали окно. И лежали на сквозняке. Кондиционеры? Мокрые простыни, развешенные на кровати. Главное, успеть сдернуть, если с обходом шла Мегера.
Она не скрывала своей ненависти – и к лагерю как месту работы, и к детям. Да и ко всему, что двигалось и издавало звуки.
– Устроили пансионат, – вопила она, требуя немедленно застелить простыни. – На мокрых поспите. Зато не вспотеете.
Счастье, если заболел и попал в лазарет, где тихо, чисто и туалет рядом с палатой. Всегда прохладно. И можно спать в любое время. Или сидеть на кровати. Тайком сбегать в библиотеку, взять книжку и читать, когда никто не видит. Врач разрешала, медсестра делала вид, что не видит, как я прячу книгу под подушку. Но если Старшуха, старшая пионервожатая, придет с проверкой и застукает, тут же выпишут:
– Раз читать можешь, значит, выздоровела. Глаза ломать она в состоянии, а на зарядку, как все, – так больная.
Ее так все и звали – Старшуха. Имя-отчество никто не запоминал. Она не умела говорить спокойно и тихо. Вопила на весь лагерь. Так, что в ушах звенело от ее крика. Книги она ненавидела. Признавала только стенгазеты. Леньку Поленова, которого тут же нарекли художником, назначила ответственным. Ленька хоть и занимался в художественной школе, никакого отношения к художнику Поленову не имел. Однофамилец. Сам страдал. Ленька отказывался, говорил, что не умеет пока портреты. Умеет только яблоко с тенью и вазу.
– Так зачем портреты? Ты карикатуры рисуй в стенгазете, как в журнале «Крокодил», – велела Старшуха.
Ленька, конечно, изобразил нечто похожее и предъявил, отчаянно потея и отрывая на пальцах заусенцы.
– Так и я так могу, палка, палка, огуречик, – хмыкнула разочарованно Старшуха.
После этого Поленова нарекли Поленом и отстранили от стенгазет, к его неимоверному счастью.
* * *
Больше тридцати лет прошло. Сидя в кондиционированном автобусе, я проезжала до боли знакомые места – Саки, Евпатория. Господи, как же мы ржали над названиями. Истерично, на все лады склоняли. Когда совсем не оставалось терпения, когда до смерти хотелось домой, оставалось только шутить. А еще были в моем детстве модные и считавшиеся элитными Гурзуф и Ялта, Феодосия и Керчь, Судак и Балаклава.
– Вы, наверное, в первый раз у нас? – спрашивают постоянно.
– Да, в первый раз, – отвечаю я, чтобы соврать самой себе.
Я все знаю про воду, которую нельзя пить из-под крана, – кишечная палочка гарантирована. И про местное домашнее вино – хотите жить, идите в магазин и покупайте в бутылках. Хотя и это не залог счастливого пробуждения.
Когда мой двадцатилетний сын отправился с друзьями в Крым, я насильно заставила его уложить в рюкзак все виды активированного угля и таблетки от всех известных медицине видов отравления.
– Пожалуйста, только не пей кагор, портвейн, вино из канистр и шампанское, – заклинала я его.
– Мам, ну ты-то как-то выжила, – рассмеялся сын.
– Сама удивляюсь, – призналась я.
Менталитет не изменится ни с поколением зет, ни с поколением икс, ни со следующим, не важно, какой буквой его нарекут. Все живут одним днем, одним сезоном. Дальше – хоть трава не расти. Медицинская помощь? Организм сам поймет, что наступит шиндец, и мобилизуется. Мой организм. Остальным я выдаю таблетки из огромного пакета – привезла из Москвы сразу от всех болезней. Потому что на месте от всех болезней есть только ромашка.
Наши дни. Я опять вижу те же дорожки, те же буйки. Море, поделенное на квадраты, прямоугольники. Вся прибрежная полоса в буйках. Для кого эти бесконечные заборы, заграждения, ворота? Даже море поделили. Как можно поделить воду? Еще как можно. Не для спасения утопающих и безопасности проживающих. Те пусть плывут куда хотят. Важно обозначить владения на песке, вбить колышки. Этот пляж принадлежит такому-то пансионату, этот клочок – уже другому. И буйки на воде обозначают владения. Один гребок – и ты уже на чужой территории. Смешно. Убирают пляж, если и убирают, тоже строго на своем участке. А что там творится, если отойти на метр, не важно. Как если бы в квартире наводили порядок, а мусор выбрасывали на лестничную клетку. Это ж уже не наша ответственность, а не пойми чья. А то, что воняет под носом, никого не волнует.
Заброшенные остовы строений. Когда начали стройку? В прошлом веке. Тогда же и бросили. Корпуса-призраки. Заросшие бурьяном огромные территории. Пляжи с будками для прохода и смывшимися под дождями объявлениями, прикрученными давно и намертво. «Вход по пропускам. Время приема солнечных ванн… время приема воздушных ванн… санитарный час…» Санитарный час на море. Что это вообще такое? Нет, не уборка пляжа, потому что там ничего нельзя – только смирно и по часам «принимать ванны». Не есть, не пить, не курить, упаси боже. К этим пляжам нет доступа. Все забито, намертво заколочено. По пляжу тоже не пройти – прибрежная полоса завалена стухшими водорослями, камнями, выброшенными, кажется, со стройки. Здесь же – едва видимая тропинка и расчищенный кусок пляжа с остатками костра. Так и есть – пионеры, то есть уже современные дети, тащатся на прощальный костер. Каждый несет в руках палки. Роняют по дороге. Одинокая странная палатка, которую и не приметишь. Ни дорог, ни отдыхающих, ни отеля поблизости. Как эта палатка здесь вообще очутилась? Вода, мороженое, соки. К ней кидаются вожатые, им из-под полы выдают пиво, вино в пластиковых бутылках. Судя по запахам – и еду какую-то. Да, эта палатка точно не прогорит.
– Заказывайте, что вам привезти? – окликает меня мужчина, поскольку я застыла на дороге.
– А что можете? – спрашиваю я.
– Да в принципе все, – пожимает плечами мужчина.
– А дальше там жизнь есть? – я показываю на тупик. Очередной забор, наваленные камни. Дорожка упирается прямо в них.
– Есть, только дороже, – отвечает мужчина. – Оно вам надо?
Не надо, но я перелезаю через наваленные камни и иду дальше.
На пирсе, огромном, заброшенном, построенном когда-то для больших кораблей, а не для маленьких снующих «ракет», обосновались бакланы. Страшные, черные. Сидят и смотрят в одну сторону. Не двигаются. Даже не каркают. Мертвый пирс с птицами-чучелами. Жуткое зрелище на самом деле. Стая или две. Сколько их там? Двести, триста? Сидят только по утрам, потом улетают. Летят, раззявив клювы. Страшно. И оторвать взгляд невозможно. Я застываю на месте и смотрю. Хичкок? Нет. Это птицы-смертники, лишь ожидающие своего часа. Смирились с неизбежностью и ничего не хотят. Даже рыбы, которая прыгает им в рот. Они летят, потому что положено лететь. По графику. Планируя над морем. Но жизни в этом полете нет. Они не дерутся, не перекрикиваются, не заводят брачных танцев, не бьются за место. Они уже давно мертвые. Как и пансионаты, от которых ничего не осталось. В одном окне горит свет, а в остальном здании – темнота. И страшно представить, кто живет в этой комнате, в этом здании: приговоренные к смерти или уже умершие, ставшие призраками.
Идешь на пляж и вдруг слышишь истошный, истерический смех. Злой, издевательский. От этого смеха хочется побыстрее унести ноги. Сума-сшедшая, идущая следом? Нет, птица, летящая над головой. Лучше бы нагадила, чтобы подтвердить примету – помет на голову к счастью и деньгам. Чайка. Белая. Худющая. Летит и истошно хохочет. «Человеческим голосом», – сказала моя дочь.
Эту чайку не хочется накормить, она несет страх и отчаяние.
– Чайки же говорят «дай, дай», – сказала дочь, и я поняла, что она имеет в виду мульт-фильм про рыбку-клоуна Немо, где смешные чайки говорили «дай, дай». – А эта кричит «ай-ай-ай», будто ей больно.
Только сбежали от чайки, как на нас выскочил мужчина с двумя белыми голубями.
– Погладь, – сунул он голубей Симе под нос.
Она отшатнулась.
– Странная девочка, – удивился мужчина, сам страшный, в грязной майке, загоревший до состояния угля.
– Ничего не странная. – Я тоже шарахнулась от него в сторону. – У вас птицы на орнитоз проверены?
– Москали, – прокомментировал мужик и выругался. – У себя орнитоз поищи.
Мне даже отвечать не захотелось. Мужик говорил это, констатируя факт, не желая нахамить. Просто поддержал разговор. И ушел, обиженный, рассчитывая на продолжение диалога.
Да, мы отличаемся. Скоростью движения, например.
– А можно побыстрее, пожалуйста? – Я добежала до магазина купить «баклажку», как здесь выражаются, воды. Шесть литров. Мне надо успеть вернуться и забрать дочь с тренировки. Продавщица двигается медленно, нехотя, переговариваясь с товарками про какого-то Андрюху.
– Чё как ошпаренная-то? – Это уже мне.
– Привыкла, – отвечаю я, решив не скандалить.
– Бедная, – вдруг заботливо смотрит продавщица и уточняет не без интереса. Остальные замолчали и тоже слушают: – Кто так ухайдокал-то?
– Жизнь, – честно признаюсь я. В этих местах вранье чувствуют за километр.
Продавщица кивает с пониманием и советует взять другую воду, а не ту, которую я выбрала.
– У этой запах, будто нассали в нее. Где только наливают? – объясняет она. – А чё в аппарате не берешь?
– Каком аппарате? – не понимаю я.
– Вон стоит. Три рубля литр. Подставляй и набирай. Нормальная вода.
– Хорошо, спасибо.
– Выдыхай, бобер, – отвечает продавщица и неожиданно выставляет на прилавок бутылку вина. Я покорно беру, стараясь не думать о том, из чего сделано то вино. Но цена вдруг оказывается выше средней. Я смотрю на этикетку – мне это вино еще в Москве советовали. – Бери, хорошее, не пожалеешь. Вот это, – она махнула на полки рукой, – или обосрешься, или обблюешься. Будут домашнее предлагать – не бери. Это пусть пионеры бухают, а нам надо здоровье беречь. Чай, не девочки, – хохотнула она грустно.
Вино оказалось вкусным и таким, как я люблю. Здесь все так – начинается со скандала, заканчивается по любви. Даже нет, по состраданию. Здесь всегда готовы пожалеть тех, кому плохо. Бесполезно качать права, кричать про обязанности и прочее. Надо пожаловаться – на жизнь, мужа, любовника, работу, не важно. Лучше, конечно, на все сразу. Но на здоровье лучше не жаловаться. Не поймут. Вот жизнь беспросветная задолбала – это аргумент. Голова болит или давление – таблетку выпей. От этого есть таблетки. А от жизни еще не придумали. Мужика одного оставила, так сама дура. Конечно, загуляет. А с другой стороны, ну и от них нужен продых. Пусть хоть обгуляется, зато две недели не видеть его. Это я уже на следующий день услышала. Видимо, в моем молчании, в выражении лица было что-то такое, что вызвало у продавщицы отклик.
Жанна. Красивая невероятно. Ну почему такая красота пропадает в таком захолустье? Она двигалась между полками, как в танце. Бывает такой природный артистизм и врожденная грация. Она так на стремянку за бутылкой залезала, будто по винтовой лестнице во дворце поднималась. Женщина, которой можно было дать и тридцать, и пятьдесят. Огромные глаза, высокие скулы и шрам – толстая змея от уха до середины шеи. Жанна его не стеснялась, даже гордилась.
– Это мой покромсал, – пояснила она, когда я невольно задержала взгляд.
– Простите, – сказала я.
– А чего простите-то? Пусть молодые девки смотрят да умнее будут. Меня ж еле откачали. Зашили, собаки, плохо. Да и нет у нас специалистов – красоту наводить. Заштопали, как умели. Но спасибо, что спасли. Урок мне на всю жизнь.
– За что он так с вами? – спросила я, почувствовав, что Жанна ждет вопроса.
– Так ни за что. За что мужики баб калечат да руки им отрубают? Привиделось, что я на кого-то посмотрела. Ну и пьяный был, ясное дело. Вот все спрашивают, чё не отбилась, я ж бойкая, любого пьянчугу отбрею. Могу и бутылкой по голове засандалить, если буйный. А вот бывает так, что в ступор впадаешь и ничего сделать не можешь. Только лежать и удары его терпеть. Руки и ноги ватные, тело – будто не твое. Не подчиняется оно тебе. Страх нападает дикий. Вот он меня и полоснул. Не, убивать не хотел. Проучить. А когда кровищу увидел, так сам соседей и позвал. Потом ходил, прощение вымаливал, я ж на него заявление написала.
– Его посадили?
– Зачем посадили? Заявление я забрала. Ну придурок, чё с него взять. Не маньяк какой-то, не насильник, не убийца. Зачем его в тюрягу-то? Ходит себе, землю пылит. Женился, ребенка родил.
– А новую жену он тоже бьет?
– Может, и бьет, а может, и нет. Кто ж его знает? Не моя забота.
Вот такая логика. С одной стороны, предостеречь молодых женщин от мужей-извергов, демонстрируя шрам. С другой – полное равнодушие к тому, что этот изверг может делать со своей второй женой.
* * *
– А почем погладить птичек? – подошла к мужчине с голубями женщина с двумя детьми. Громкая, голос, как труба. Дети, парни-погодки – беснующиеся, вопящие, – с наслаждением давили улиток, которых было много, очень много. Особенно в раскуроченном железном основании разбитого фонаря. Мальчишки доставали из него улиток горстями, бросали на землю и прыгали на них, стараясь задавить за один раз как можно больше. Старшему надоело прыгать, он взял улитку, выбрав покрупнее, оторвал панцирь и смотрел, что будет дальше – поползет, не поползет.
– Я кому сказала не давить улиток! – прикрикнула на них мать. – Живодеры. Щас у меня оба получите пиндюлей под зад. Идите птичек погладьте.
– Сто рублей. А они им головы не свернут? – испугался владелец голубей. Даже сонные птицы, кажется, вздрогнули и решили сорваться с руки хозяина от греха подальше.
– Могут, – расхохоталась женщина-труба.
– Ма-а-ам, давай пончик купим, – заскулил старший сын, показывая на надувной круг в виде пончика. Там были разные – и в форме мороженого, и в виде крокодила.
– Я те щас куплю! Задрал уже. Так чё? Будете гладить или как? Женщина, а вы тут стояли? – Это уже ко мне. Я приросла к асфальту.
– Нет, мы не будем, – поспешила отказаться я и сбежала.
Мы привыкли бежать даже во время прогулок. Невозможно гулять вдоль моря. Лучше быстрым шагом, измеряя пройденные шаги телефоном, фитнес-часами. Устанавливать цель и сверяться – достигла или нет. Но и прогулки – пройденные четырнадцать, пятнадцать тысяч шагов – не спасали от накатывающей депрессии, безнадеги и ощущения нереальности происходящего. Машина времени в действии. Только я не просила отправлять меня в то время.
Налево лучше не ходить. Я тут же погружалась в детство. Шашлыки на мангале, овощи, разложенные на одноразовых тарелках, шатающиеся пластиковые столы и стулья, покрытые многолетней грязью, – уличное кафе-шашлычная. Вокалистка даже не средних лет, поющая про любовь на засранной, заблеванной веранде. Разливное пиво. «Пивасик», «винчик». Запах шашлыка из давно стухшего мяса, смешанный с запахом блевотины и дешевого пива. Девушки, парадно наряженные для вечернего променада. Ресницы у всех, как у одной, – щедро наращенные, три-дэ эффект. Каблуки-копыта, естественно. Мини-юбки, чтобы показать все и сразу. Грудь, упакованная в пуш-ап. Мягкие, белые оголенные животы. Молодые, привлекательные или не очень тела, доступные по первому зову. Все настолько откровенное, как шашлык, – понятно с первого взгляда, каким будет вкус. Певица поет про любовь. Уже без надрыва. В голосе усталость, тоска. Но поет чисто, не фальшивит, значит, нашего поколения, не привыкшего работать «на отшибись». Отрабатывает. Явно за плечами профессиональная школа. Я останавливаюсь, слушаю. Точно, конса, консерватория, в анамнезе. Но не сложилось, что-то пошло не так.
Ругань на площадке, где стоят таксисты. Женщина, судя по всему, вызвала специальное, с бустером для ребенка.
– У вас же ремней нет! – возмущается клиентка. – Как мы поедем?
– Это я уже не поеду. Вы мне еще штраф должны! – Таксист тут же заходит на скандал. – Все ездят и не выеживаются.
– Как ездят? Ни на бустере, ни на заднем сиденье у вас нет ремней. Как ребенка пристегивать? – не понимает женщина.
– Нормально ездят! Так чё, едете или штраф платить будете?
– Не поеду. Я же специально вызывала, ждала вас больше часа. Именно с бустером. Вы же берете на двести рублей дороже, чем остальные. – Молодая мать отчаянно пытается понять происходящее. – Тут ехать три минуты, а у вас в тарифе стоит семьсот рублей. Как такое возможно? И ремней безопасности нет. – Она смотрит в телефон, пытаясь разобраться, как пожаловаться на таксиста и где привычные звезды агрегаторов: «оцените поездку, водитель был в маске?» Никаких оценок, никаких масок. – Я не поеду. Вызову другое такси. У вас тут есть «Гетт» или «Сити-мобил»?
Водитель покрутил пальцем у виска, решив не связываться с ненормальной. Ага, «Гетт» ей подавай.
– Я обязательно оставлю отрицательный отзыв, это, в конце концов, вопрос безопасности. Вы же детей возите, – продолжала молодая мать.
– Женщина, кукурузку купите! – окликнула ее продавщица с пляжа. – Две всего осталось. Как раз вам и сыночку.
– Нет, спасибо, – отмахнулась та.
– Возьмите, не пожалеете. У меня не только соль, но и сахар есть. Хотите, сахарком присыплю? Я ж знаю, что дети сладкую теперь едят, вот и ношу на всякий случай.
– Ладно, давайте. Одну с солью, другую с сахаром. – Молодой матери нужно было время, чтобы понять, как действовать дальше.
– Вот и правильно, – обрадовалась продавщица, – и вам хорошо, и мне. Не люблю товар возвращать. Держите. А если вот здесь пойдете, по пляжу, через пять минут окажетесь, где вам надо. Наши-то, дельцы, по центру начнут колесить, еще и в пробку попадете. А тут напрямую, потом подниметесь – и все. Чего так убиваться-то?
Я в очередной раз убедилась – здесь умеют сострадать. Несчастным и подскажут, и помогут, и накормят. Не бесплатно, конечно, но все же. А работать – нет, не умеют и не хотят.
Мой давний приятель, оказавшийся летом на другом конце Черного моря впервые в жизни, сказал, что чувствовал себя маленьким мальчиком. Особенно в магазине. Будто он подросток, который пришел купить сигареты или бутылку дешевого вина.
– Слушай, со мной так все разговаривали, как в детстве в булочной. Мне года четыре было. Я взял булку и уронил. Подошла продавщица и начала отчитывать. Я от страха описался. До сих пор помню, как стою, а надо мной нависают продавщица и кассирша, а маму из-за них даже не видно. И они на меня так смотрят, будто я преступление какое совершил. Вот и здесь так же. Заходишь, а на тебя уже смотрят так, будто ты или обоссался при всех, или сейчас бутылку с водой из холодильника украдешь. И тетки такие же. Один в один.
– Твой сын пополнил словарный запас? – хохотнула я.
– Даже не начинай, – простонал приятель. – Мы его потом к бабушке отвезли. А теща у меня филолог. Она каждый день звонила и кричала, что мы привезли ей не внука шестилетнего, а урку. «И какая была необходимость погружать ребенка в подобный социум?» Можно подумать, я хотел в него погружаться! Но жена требовала моря.
Я опять вспомнила лагерь. Кажется, это были Саки. Вика – дочь большого начальника, отправленная в лагерь, как сейчас сказали бы, для социализации. Нашитые личной портнихой наряды, модный купальник – мини-бикини, не сшитый, а купленный. Трусы с завязками по бокам. Вика никогда не купалась и не раздевалась. Сидела на полотенце и смотрела, как плавает ее отряд. Только один раз разделась – ее заставила Старшуха. Насильно. Стояла над ней и комментировала:
– Что у тебя там? Три сиськи или ноги кривые? Нечего отбиваться от коллектива. У нас тут все равны. Раз приехала, живи по уставу лагеря. Мне тут отщепенцы не нужны.
У Вики был мягкий белый животик. Она вся была мягкая и белая. Тогда-то мы, девочки, и увидели ее купальник – ахнули от восторга, онемели от зависти. Вика же решила, что все дело в ней, а не в купальнике. Мы – вечно голодные, поджарые, с накачанным прессом, легко раздевающиеся, не стесняющиеся своего тела, очень отличались от нее, откормленной, стеснительной, холеной, умазанной кремом. С пушком, виднеющимся над трусами. Наверное, именно этого она и стеснялась – заметной волосяной дорожки, ведущей от пупка вниз.
Но мы смотрели не на растительность, а на купальник. А еще на головной убор. Боже, у Вики была шляпа, настоящая, плетеная, с лентой. Подходящая под роскошный купальник. Один цвет. У нас-то даже панамок не имелось, не то что шляп. А Вике мама велела головной убор не снимать, чтобы не напекло и лицо, не дай бог, не загорело. Вика говорила, что лицо не должно быть загорелым, а почему – не помнила. Но маму слушалась – шляпу не снимала и сидела в тени. А мы… если напекло – нырни с головой. Еще на панаму тратиться. Трусы на голову натяни и ходи. Про лицо мы слушали внимательно. Потому что нос красный, подбородок черный. Под глазами – белое, а на лбу и на щеках выступившие конопушки. Они появлялись даже у тех, у кого их сроду не было. «Сроду-роду», как говорила Старшуха. Руки тоже были черными, но не до конца, а ровно до того места, где начинались рукава футболок. Животы, конечно, белые, ноги – черные. Грудь и спина – красные.
Вика тогда, раздеваясь, доплакалась до настоящей истерики. Ее трясло. Мы не могли ее успокоить, как ни пытались. Наконец, она провалилась в спасительный обморок. Старшуха велела принести воды и полить:
– Цирк тут устроила.
Но никто с места не двинулся. Поливать Вику грязной соленой водой мы точно не собирались. Наконец на помощь пришел вожатый, отвечавший за мальчишек. Он кинулся, подхватил Вику, велел мальчишкам сбегать за водой из фонтанчика и предупредить водителя. Потом на руках донес Вику до автобуса и потребовал немедленно везти в лазарет. Да, к счастью, ничего страшного не произошло – нервное перенапряжение, тепловой удар. Старшуха, вызванная в кабинет директрисы, которая подробно объяснила, кого она довела до срыва и что ей за это будет, остаток смены вела себя тише воды, ниже травы. Даже по палатам не ходила, не проверяла, кто не спит после отбоя. Вику оставили в лазарете, пока она сама не пожелает вернуться в отряд, на свободном режиме, от греха подальше. Девочки носили ее наряды, явно сшитые по выкройкам из «Бурды». И, конечно, красились ее косметикой. Негласное правило лагеря – пока ты в лазарете, твое имущество становится общим.
* * *
Заброшенный маяк. Заколоченная, заваренная намертво дверь. Кому он светил, когда работал? Наверняка тем кораблям, которые приставали к пирсу. Или так и не пристали, а остались лишь в планах. Как не были заселены новые корпуса пансионата. Здесь, прямо напротив. Когда-то новые. А сейчас, спустя тридцать лет, облезшие, с крохотными балконами, наверняка считавшимися модными и современными. Новое здание было обнесено сеткой-рабицей, в некоторых местах с зазубринами сверху, вроде колючей проволоки, чтобы никто не смел перелезть. А зачем лезть? Что там осталось? Иногда вспыхивает светом одинокое окно и появляется фигура. Сторож? Нет, кто-то живет. Вот еще один балкон – «живой». Полотенца сушатся. И вдруг – звук разбитого стекла. Явно окна. И тут же – поток отборного мата. Чуть дальше – дырка в сетке, как без дырки-то? Всегда должна быть, хоть в заборе, хоть в сетке – короткий путь на волю. Через сетку оттуда выскакивают мальчишки-подростки лет по тринадцать и бегут сломя голову. Вслед несется брань. Куда они бегут? Все равно придется возвращаться. Кто согласился жить в этих заброшенных зданиях? Наверняка не бесплатно. И сколько тогда стоит заселение? Да, именно это слово. «Заселяемся», «выселяемся», «сдаем номер».
Километры загаженных владений – проще сжечь, чем вычистить. А раньше – вход только по пропускам, санаторным книжкам, которые дороже паспорта. По ним и на пляж – предъявить медсестре при входе, – и в столовую – администратору показать, которая смотрит так, будто ты лично ее объесть пришла. Везде – на входе, выходе – предъявите, ждите. Сдайте, получите. «После 21:00 выход запрещен». Режимная зона, а не здравница. Пансионат для сумасшедших, которых нужно контролировать, а то ведь так и норовят сделать не то, что положено. Кем положено? Не важно. Положено, и все тут. Все так живут, подчиняются и не ропщут. А если не нравится, так и не притесь сюда.
Синдром толпы – все подчиняются, не заметив, насколько быстро, одномоментно меняется сознание. Ты больше не сам по себе, не личность, а часть коллектива, жилец, один из многих. Ты никто и звать тебя никак. У тебя есть только номер проживания. Никто не спрашивает фамилию, только номер. Как в пионерском лагере – ты не Петя Иванов и не Маша Сидорова, а «из какого отряда?».
Это обезличивание мгновенно отражается на психике – всем хочется ходить парами, даже в магазин. Противостоять? Можно, но тяжело. Или нужно иметь прививку от толпы, причем с детства, или характер. Все вдруг – что тридцать лет назад, что сейчас – дружно ищут себе пару, пусть временную подругу. С ней – и на пляж, и в магазин. Списаться – «вы выходите?» «куда пропали?», «где встречаемся?». Самостоятельные взрослые женщины вдруг становятся не способны сходить в одиночестве в магазин за водой и пройти десять минут до пляжа. И дружат не по схожести интересов или общности тем для разговоров. А по тому, кто готов быть ведомым и лидером в паре. Одна предлагает сходить в магазин, другая соглашается, хотя и необходимости особой нет. Просто «Рассказ Служанки» какой-то… Почему синдром толпы вдруг накрывает умных и образованных? И почему тот, кто не соглашается, вдруг становится изгоем и вступает в действие правило: «Против кого дружите, девочки?» Да, здесь непременно нужно иметь хотя бы умозрительного врага, против кого-то дружить. Стадное чувство захлестывает, оно по-своему прекрасно, гарантирует некую безопасность – проще смешаться с толпой и не высовываться. Коллектив – не сила, а порочная связь. Она пронизывает нутро, становится привлекательной и занимает все сознание: «А почему меня не позвали?», «Почему на меня так посмотрели?», «А они шушукались точно про меня».
На отдельном листке в красивой папке, лежащей на столе в номере, – цены за разбитую чашку, утерянную ложку, порванную простыню. Сколько нужно заплатить, чтобы никогда в жизни сюда не возвращаться? Чтобы перебить и разорвать все, что есть в этом номере, немытое, засаленное, с пятнами, пылью, плесенью, запахом. Больше ни за что, никогда, в очередной раз клянешься самому себе. Но идешь, как дурак, и бросаешь монетку в море на прощание. Все так делают. Все идут. И бросают дружно. Ритуал. А почему вы не пошли и не бросили? Как объяснить?
То, от чего бежал все эти годы, вдруг проверяет тебя на прочность. То, что культивировал в себе с того самого лета, в пятом классе – не быть как все, не идти строем, не кричать то, что кричат остальные, и удалось, почти к пятидесяти годам, заслужил, завоевал право послать всех, идти налево, направо, лишь бы не в ногу, плыть против течения, вдруг оказывается хлипким. Все едут на экскурсию. Почему вы отказываетесь? Вы подводите весь коллектив. Если вы присоединитесь, цена будет на двести рублей меньше со всей группы. Не хотите? Почему? Что ответить? Потому что… С какого места начинать объяснять? С пятого класса?
– Сколько заплатить, чтобы не ехать? – спрашиваю я, зная, что спровоцирую обиду.
– Вас никто не заставляет, – конечно, в голосе организаторши звучит обида, – но вы многое теряете. Там прекрасные виды для фоток. Могли бы в «Инстаграм» выложить.
– Не сомневаюсь, – говорю я.
Да, сейчас все ездят ради «фоток» в «Инстаграме». И экскурсовод говорит не «насладитесь видом со смотровой площадки», а «у вас есть возможность сделать фотки».
Я опять борюсь с желанием воткнуть кому-нибудь ручку в глаз. «Фотки, спасибки, встречаемся на бассейне, по ходу, короче». И это – из уст экскурсоводов, организаторов экскурсий.
А еще неистребимое – «снять с питания». Если уезжаешь, тебя «снимают с питания». Экскурсия предполагает сухой паек, но и его нужно идти и «заказывать». Стоять и просить, будто подачку. Его выписывают, будто одолжение делают. Даже не знаю, что хуже: получить засохший бутерброд с липкой ветчиной или остаться без обеда, отвратительного, несъедобного – опять салат из ошметков того, что осталось со вчера или с позавчера, замазанное густо майонезом, тоже старым, судя по цвету. Питание в этих местах становится жизненно важным пунктом распорядка дня. На завтраки, обеды и ужины не опаздывают, приходят заранее и толкутся, скандалят в очереди с подносами-разносами. «Вас тут не стояло». Хотя можно дойти до ближайшего магазина и купить фрукты, йогурты. Но нет, сознание, подкорка головного мозга отчаянно сопротивляется. Нельзя сниматься с обеда. А булки? Как же булки? Выдадут утром? А если нет? Ты эту булку и есть не будешь, но главное – получить, завернуть в салфетку и унести. Животное желание, не поддающееся никакому разумному объяснению. Пусть сохнет в номере, отправится в мусорку, но взять надо непременно. Вырвать с подноса.
Все знакомо. Лучше бы не было. Некоторые радуются омлету с нестерпимым привкусом картофельного крахмала. Стойкому, трясущемуся на тарелке квадратику. Перловке, которой засыпают и мясо, и маскируют недостаток овсянки. А еще пшенке. Куда же без нее. Главная каша моего детства. На гарнир, на утро, на десерт. Современные дети елозят ложкой в тарелке и есть отказываются.
Все несъеденное сгребается в здоровенные бадьи. И потом куда выносится? Мне всегда жалко продукты. Ну почему, если к выброшенным салатам никто никогда не притрагивается, их все равно будут готовить? Изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие.
Подгнившие, мятые со всех боков огурцы засаливают. Я помню, что на засолку всегда отбираются мелкие, тугие, стойкие огурчики, которые потом получают «хрумкими». А здесь – вялый огурец, прикрытый вялым же пучком петрушки. Со слоем грязи сверху – на засолку ведь не моют, зачем? Малосольными их назвать сложно. Да, соль отбивает душок гнилости, но есть нельзя. На них даже смотреть без боли невозможно. Недоеденные огурцы отправляются в свою третью жизнь – в солянку. Туда же опять ошметки ветчины, подгнившие помидоры. И свинина под майонезом – позавчерашний обед – тоже. Боюсь представить, какая жизнь у этого куска свинины. Пятая? Точно соскребли майонез – вкус чувствуется. Зачем выдавать по три недозрелые абрикосины или по куску розового безвкусного арбуза? Чтобы все обдристались? Повариха тетя Катя, вторя своим предшественницам и коллегам, так и говорит: «Опять обдристаются». Но все берут, как булки. Раз положено, значит, надо брать. Можно пройти двести метров и выбрать любой арбуз. Можно дать парню из овощной лавки пятьдесят рублей, и он привезет настоящий арбуз, сладкий. Но нет. Все едят этот, розовый, напичканный химикатами.
Есть при этом хочется до одури. Голод заставляет бежать в столовую пораньше, чтобы встать первыми в очереди и получить плюху рагу. Господи, если это рагу, то я трюфель. Хочется кричать: «Почему ничего не меняется? По-че-му?» Повариха, перенявшая вахту от собственной матери, то же самое ела и видела в своем детстве. Почему она все это продолжает готовить? По технологическим картам, замусоленным, заляпанным, устаревшим еще в прошлом веке. Кто заставляет ее нарезать аккуратными кубиками отварную картошку, синюю, с черными глазками, не пошедшую на суп или на гарнир, прикрывать ее кукурузой из банки и щедро посыпать заветренным горошком? Сыр, самый дешевый, уже подплесневелый, туда же, на крупной терке горкой. И плюхать майонез сверху? Да, ее этому научила мать, а ту когда-то – ее мать. Наверное. Но почему нельзя отказаться? Сказать, что не будет так готовить, и просто выложить на тарелку свежий нарезанный огурец? В конце концов, накормить директора пансионата нормальной едой и убедить его ввести новое меню. К его же выгоде.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































