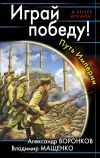Текст книги "Теорема Столыпина"

Автор книги: Михаил Давыдов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Естественно, продолжает Анненков, что на первый план сразу же вышло желание понять внутренний смысл нашей истории, чтобы получить «представление о месте, которое мы занимаем в среде европейских народов», и о том, что нужно сделать для того, чтобы это место было «во всех отношениях почетным. Все зашевелилось»212.
Однако у многих, подобно Погодину, не было ни малейших сомнений, в том, что Россия уже занимает самое почетное место в подлунном мире.
Это как бы подразумевалось той достаточно планомерной и последовательной критикой жизни Запада, которую мы встречаем у отдельных современников.
Так, В. П. Титов, дипломат, автор популярной повести «Уединенный домик на Васильевском», в 1836 г. писал В. Ф. Одоевскому, что «Германия похожа на старичка очень опытного, очень почтенного, но который на старости лет иногда завирается, ходит с костылем, тяжеловато шаркая плисовыми туфлями, и сам чувствует свою дряхлость».
Титов считает, что Россия должна вспомнить свою самобытность. У петровских реформ был свой исторический смысл, однако «нам» пора «возвращаться постепенно к самим себе».
Запад тоже понимает необходимость выйти на новый путь, но не может этого сделать, потому что носит тяжелые «кандалы», мешающие свободно идти. Это во-первых, католицизм, породивший «протестантство – недоноска, полурелигию», а во-вторых, «феодальность, ведущая к представительности», т. е. парламенту.
Счастье России в том, что у нее нет ни протестантизма, ни феодальности. Это сообщает ей «ковкость» и облегчает возвращение к старине.
«Наша церковь построена просто, патриархально; она не имеет на душе таких грехов, как римская. Отношения наши к правительству, взятые в своем начале, суть отношения семейные, детей к главе семейства. Между ними не нужно письменных договоров и власть не принуждена ни бороться, ни торговаться с партиями и цехами.
Следственно, дай Бог, чтобы все это так и осталось; России бесполезны радикальные реформы, которых Европа ищет в поте лице своего и не находит. Для частных улучшений дорога не закрыта (у нас в России – М. Д.)»213.
А сам Одоевский в конце 1830-х гг. убежден, что «ни социальная жизнь Запада, основанная на экономическом рабстве, ни его политический строй с господством охлократии не могут возбуждать нашей зависти. Франция – политический вулкан, Англия – сплошная торговая контора, Америка – страна рабства и меркантилизма, Испания – очаг нечеловеческой жестокости»214.
Внешне Запад остается христианским, но на деле он погряз в язычестве. Там повсеместно царят меркантильные заботы и желудочные интересы, там «ухо загрубело от стука паровой машины; на пальцах мозоли от ассигнаций, акций и прочей подобной бумаги». В этих условиях говорить об искусстве то же самое, «что рассказывать о запахе кактуса (человеку) лишенному обоняния»215. О назначении искусства там давно забыли.
Франция страна революций, пролившая реки человеческой крови, находится в «беспрестанном нервическом припадке». Ее духовную жизнь растлевает меркантилизм, страна «дряхлеет и клонится к упадку»216.
К ней заслуженно присоединится и Англия, где «все принесено в жертву золоту», где «фабрикант «заставляет ребенка работать 20 часов в сутки для своей наживы». Да, англичане «прекрасно делают перочинные ножики», «но худо то, что они успехи своей промышленности купили ценою человеческого достоинства». Рабочий у них стал машиной217.
Но в минуту испытаний мир увидит, «какою паровою машиною они скрепят распадающиеся члены полусгнившего состава? Увидим, в чем состоит последнее торжество вещественной пользы, увидим страшный урок народам, продающим свою душу за деньги»218.
Америка воспроизводит все пороки Англии, возможно, еще сильнее и ярче.
Одоевский убежден, что Запад ждут тяжелые испытания, если он не поймет, что находится в тупике, и не обновит свою жизнь контактами с Россией.
Столь же категоричен и М. М. Погодин: «Да, будущая судьба мира зависит от России… Какая блистательная слава!
.. Кто взглянет беспристрастно на европейские государства, тот, при всем уважении к их знаменитым учреждениям, при всей благодарности к их заслугам для человечества, при всем благоговении к их истории, согласится, что они отжили свой век, или по крайней мере истратили свои лучшие силы, то есть, что они не произведут уже ничего выше представленного ими в чем бы то ни было: в религии, в законе, в науке, в искусстве.
…Разврат во Франции, леность в Италии, жестокость в Испании, эгоизм в Англии, явления общие, принадлежащие к отличительным признакам, неужели совместны с понятиями о счастии гражданском, не только человеческом, об идеале общества, о граде Божием?
Златой телец – деньги, которому поклоняется вся Европа без исключения, неужели есть высший градус нового европейского просвещения, христианского просвещения? Повторяю, где же добро святое?»219.
Весьма масштабно выступил в 1841 г. профессор Московского университета Шевырев, которому мы обязаны оборотом «гнилой Запад»220.
«Драма современной истории», по его мнению, состоит в противостоянии России и Запада.
Оно продолжает самые «знаменитые единоборства всемирной истории» – между Персией и Грецией, Грецией и Римом, Римом и германцами: «Запад и Россия стоят друг перед другом, лицом к лицу. Увлечет ли нас он в своем всемирном стремлении? Пойдем ли мы в придачу к его образованию? Составим ли какое лишнее дополнение к его истории?
Или устоим в своей самобытности? Образуем мир особый по началам своим, а не тем же европейским? Вынесем из Европы шестую часть мира… зерно будущему развитию человечества?
Вот вопрос – вопрос великой… Решать его – во благо России и человечества – дело поколений нам современных и грядущих»221.
Затем Шевырев характеризует положение культуры и религии в отдельных странах, что является для него главным критерием их нынешнего состояния.
В отличие от Одоевского он старается быть объективным, однако идея отыгранной европейцами роли ясно звучит и у него. Так, «Италия совершила свое дело. Ее искусство стало собственностью всего образованного человечества. Она эстетически воспитала Европу – и всякий миг благородных ее наслаждений, столько украшающих жизнь нашу, есть дар бескорыстной Италии»222. Но в настоящем ее культура неподвижна.
Хотя Англия «корыстно присвоила себе все блага существенные житейского мира; утопая сама в богатстве жизни, она хочет опутать мир узами своей торговли и промышленности»223 он все же находит слова восхищения для английской промышленности, для достижений ее техники. Однако после Вальтера Скотта и Байрона она ничего не дала человечеству.
Шевырев обильно цитирует французского публициста Ф. Шаля, прямо заявившего, что «народы европейские, как будто с единодушного согласия, нисходят до какого-то ничтожества полукитайского, до какой-то слабости всеобщей и неизбежной» и повторяет вслед за ним, что «Европа умирает!», что Запад «изнемогает»224.
Для России важнее всего ситуация во Франции и Германии.
Обе страны «были сценами двух величайших событий, к которым подводится вся история нового Запада, или правильнее: двух переломных болезней, соответствующих друг другу. Эти болезни были – реформация в Германии, революция во Франции: болезнь одна и та же, только в двух разных видах».
Со стороны можно подумать, что болезнь уже ушла, что произошел перелом недуга, и обе страны стали вновь развиваться нормально.
Но это неверно. Болезни породили «вредные соки», которые продолжают отравлять обе страны, давая «признаки будущего саморазрушения».
Мы, русские, «в наших искренних, дружеских, тесных сношениях с Западом… не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окруженным атмосферою опасного дыхания.
Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства… и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет!
Он увлек нас роскошью своей образованности; он возит нас на своих окрыленных пароходах, катает по железным дорогам; угождает без нашего труда всем прихотям нашей чувственности расточает перед нами остроумие мысли, наслаждения искусства…
Мы рады, что попали на пир готовый к такому богатому хозяину… Но мы не замечаем, что в этих яствах таится сок, которого не вынесет свежая природа наша… Мы не предвидим, что пресыщенный хозяин развратит ум и сердце наше; что мы выдем от него опьянелые не по летам, с тяжким впечатлением от оргии, нам непонятной…»225.
Так, во Франции «великой недуг породил разврат личной свободы», который дезорганизует все государство. Франция горда завоеванной политической свободой, однако каковы ее плоды? Не говоря о том, что «развитие ее промышленности стесняется год от году более своеволием низших классов народа», чего добились французы этим приобретением в сфере религии и культуры?
По мнению Шевырева, немногого. Они «злоупотреблением личной свободы уничтожили в себе чувство религии, обездушили искусство и обессмыслили науку», а в литературе не дали ничего, кроме Бальзака и Гюго.
Беда Германии – религиозный раскол, и германскую литературу и искусство автор разносит в прах, как и французскую.
Грядущее, считает Шевырев, за Россией, которая «сохранила в себе чистыми три коренные чувства, в которых семя и залог» ее будущего: «древнее чувство религиозное», «чувство государственного единства», т. к. «царь и народ составляют одно неразрывное целое» и «сознание нашей народности»226.
Вполне внятный манифест «теории официальной народности».
Список подобных высказываний легко продолжить.
Итак, многими интеллектуалами той эпохи Россия и Запад воспринимаются как две если не прямо, то потенциально враждебные силы, причем в характере претензий к оппоненту русские люди вполне солидарны:
1. Кризис веры и духовности. Для русских людей это настолько важно, что нам сегодня это не очень просто понять. Александр I еще в 1815 г. заметил, что «во Франции живет 30 миллионов скотов, одаренных литературно. Да и может ли быть что-то там, где нет веры?»227.
2. Господство «вещественной цивилизации», нацеленной на материальные блага, которая забыла, для чего живет человек. Это привело к торжеству эгоизма и корыстолюбия и закономерно отодвинуло идеалистические компонент бытия – религию, культуру и искусство на задний план, что оценивалось как явный симптом деградации.
Олицетворяла эту цивилизацию в первую очередь Англия, однако схожие процессы фиксируются и во Франции, и в Германии.
3. Политическая нестабильность Европы, воспринимаемая как очевидный признак ее близкого крушения. Мечущийся в тщетных попытках решить свои проблемы Запад противопоставлялся России, стоявшей незыблемо «яко гора Сион среди всемирных треволнений»228.
Пока Европу раздирали социальные противоречия, Россия безмятежно вкушала величавый покой, обладая самой сильной армией и патриархальными нравственными устоями, которые призваны были устыдить погрязшую в эгоизме Европу и дать ей пример настоящих взаимоотношений между людьми.
При этом нередко звучит мысль о желательности изолировать Россию от тлетворного влияния Запада, о разрыве культурных контактов.
4. В разных вариантах (и не в не самой дипломатичной форме) фигурирует мысль об усталости, апатии, упадке, и близкой смерти «старой Европы», на смену которой неизбежно придет «молодая» Россия. Не Турция же, и не Америка со своим рабством!
Подход тут был антропоморфный – дескать, да, европейцы добились всего, чего могли, все уже совершили, и теперь медленно, но неизбежно будут угасать. Такого рода мысли иногда кратко, иногда развернуто высказывались в то время разными людьми в разных вариантах, так что в их распространенности сомневаться не приходится.
Эти идеи вкупе с «геополитическим» осмыслением окружающего мира после 1815 г. во многом объясняют появление русского мессианизма.
Он мог быть религиозно-мистическим, как у бывших любомудров, славянофилов и Чаадаева[61]61
Специально изучавший эти сюжеты Сакулин приходит к выводу, что «сам Шеллинг и другие немецкие мыслители прямо или косвенно наталкивали на идею о возможном мессианизме России»; речь идет прежде всего о Баадере, который проповедовал превосходство православия и с которым, как и с Шеллингом, некоторые русские интеллектуалы были хорошо знакомы лично.
Исследователь отмечает: «Мы вправе утверждать, что известная часть русского образованного общества 30-40-х гг. обнаруживает сильное тяготение в сторону иррационального и что религиозные искания в ее настроении главенствующее положение. Более того, мистика образует целое течение в умственной жизни этой эпохи, составляя продолжение и развитие традиций эпохи предшествующей. У Чаадаева и Киреевского она служит даже основой их мировоззрения и идеологии». То же относится к Одоевскому и близким к нему людям: «Вопрос о русской самобытности вообще сливался в их представлении с грандиозной идеей о нашей мировой миссии» (Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма… Т. 1. С. 381–382).
[Закрыть], а мог быть атеистическим, как у Белинского и Герцена.
Выражалось это мироощущение у всех по-разному. Так, Белинский, как видно из эпиграфа к этой главе, сам того не зная, однажды заложил штамп советской пропаганды, позавидовав потомкам.
Бывали варианты и поплоше. Так, журнал «Маяк» утверждал, что Россия не будет повторять путь, пройденный Европой: «Нет, мы пойдем своим путем. Теперь уже твой черед, обольстительный Запад, узнать поближе святую Русь и от нее заимствовать истинные стихии народной жизни»229.
Славянофилы
Кульминации эти настроения достигли у славянофилов, которые дали развернутое обоснование противоположности России и Запада в виде более или менее законченной системы[62]62
Тема это настолько громадная, что я коснусь лишь некоторых тезисов, важных для нашей книги.
[Закрыть].
Здесь уместно заметить, что термины «славянофилы» и «западники» спекулятивно-провокативные.
Первый как бы подразумевает безусловный патриотизм, а второй – недостаточный, поскольку из него явно следует приверженность Западу, что бы это не означало, а неявно – недовольство Россией, неважно почему.
Между тем тут речь не о любви к Родине, а о разных подходах к понятию «культура».
Славянофилы, по определению Чичерина, ожесточенно восставали «против реформ Петра, сблизивших нас с Европою; в классах, причастных европейскому образованию, они видели отщепенцев от Русского народа, а в русском мужике идеал всех совершенств. Плоды европейской науки отвергали с презрением как несовместные с православными взглядами, а древнюю русскую историю строили на основании фантастических представлений о каком-то идеальном согласии. В настоящее время трудно поверить, что все эти детские мечтания могли сочиняться и разделяться умными и образованными людьми, каковы несомненно были первые славянофилы». «Это была настоящая секта. В основании лежали возвышенные и верные начала: глубокое нравственно-религиозное чувство и пламенный патриотизм, но то и другое искажалось преувеличением, узостью и исключительностью»230.
К западникам относились люди самых разных взглядов – православные и атеисты, идеалисты и позитивисты, социалисты и либералы и т. д., которых объединяла не какая-то общая теория, как славянофилов, а «уважение к науке и просвещению» и понимание их важности для преодоления отсталости России.
Источником знаний была Европа, и поэтому они приветствовали начавшееся при Петре I сближение с нею, считая это «великим и счастливым событием в русской истории», хотя и не все из них, подобно Белинскому, были готовы на каждой площади и улице поставить ему «алтарь». При этом они не закрывали глаза на «детские болезни» процесса приобщения «младенческой страны» к более высокому типу цивилизации, но считали, что вылечить их могло время и более глубокое постижение и усвоение западной культуры, но вовсе не реставрация и культивирование допетровских порядков.
Напомню, что для славянофилов Россия и Запад – это два противоположных мира, две принципиально отличные друг от друга цивилизации.
Первая при этом превосходит вторую, поскольку в России возвышенное доминирует над земным, духовное над материальным, чувства над расчетом, эмоциональное над рассудочным, цельность восприятия мира над его аналитическим разложением на компоненты, «вера и предания» над «формальным разумом», а в конечном счете – коллективизм над индивидуализмом.
В каком-то смысле, упрощая, можно сказать, что для славянофилов Россия и Запад соотносятся как брак на небесах и брак по расчету с контрактом (вспомним хотя бы сравнение Михайловским-Данилевским русских и иностранных офицеров).
Противоположность цивилизаций заложена историей. Россия избежала действия трех ключевых факторов, сформировавших Европу, – католицизма, греко-римского наследия (в первую очередь римского права) и германского завоевания.
Поэтому Россия, благодаря православию как истинному христианству и его воплощению – общине, в целом избавлена от таких пороков Запада, как эгоизм отдельной личности, как рационализм, расчетливость, рассудочность, корыстолюбие, беззастенчивое господство сильных над слабыми и т. д. – всего того, что породило социальные конфликты, поставившие Европу на грань крушения.
Соответственно, Запад отрицается славянофилами как мир индивидуализма и конкуренции, породивших гибельный «социальный вопрос» (т. е. противоречие между трудом и капиталом), и, напротив, утверждается первенство России как носительницы культуры, основанной на общинном, коллективистском начале, а значит, более высокой в морально-нравственном отношении.
Они считали, как мы знаем, что в Европе в основе государственности лежал, выражаясь современным языком, оккупационный режим, т. е. вражда покоренных народов к поработителям и стремление последних утвердить свою власть.
Добровольное же призвание Рюрика новгородцами породило, как говорилось, известную гармонию, ведь власть «явилась у нас желанной, не враждебной, но защитной и утвердилась с согласия народного». Поэтому и государство основано на «мире и согласии».
Если на Западе власть утвердилась по праву сильного, то в России по тому, что народ осознал ее необходимость. Она пришла по воле народа, «как званый гость», поэтому русская система взаимоотношений между людьми в корне отличается от западноевропейской.
Отсюда – различный ход истории и различное понимание свободы на Западе и на Руси.
В Европе завоевание привело к подчинению народа государству, т. е. к внешней правде, к закону, который позволяет держать людей в узде. И однажды «начавшись насилием», господством сильного над слабыми, Европа должна была «развиваться переворотами», в том числе и революциями, приведшими ее к нынешнему коллапсу.
На Руси народ и государство добровольно разделили сферы влияния, свои функции и права.
К. С. Аксаков так характеризует это размежевание: «Отношения царя и народа определяются: правительству – сила власти, земле – сила мнения. На Земском Соборе торжественно признаются эти две силы, согласно движущие Россию: власть государственная и мысль народная»231; «Внешний закон, внешняя правда в обширном и вместе определенном смысле, есть государственное устройство, государство одним словом»232; «Человеку, как общественному лицу и как народу, предстоит путь внутренней правды, совести, свободы, или путь правды внешней, закона, неволи. Первый путь есть путь общественный, или лучше, земский; второй путь есть путь государственный. Первый путь есть путь истины, путь вполне достойный человека»233.
Народ (земля) и государство выступают у Аксакова как два своего рода полюса магнита, как два автономных актора истории. Русский народ после призвания продолжает жить обособленно от государства, своей собственной жизнью, идя «путем внутренней правды». Государство осуществляет правительственные функции, прислушиваясь к мнению народа, не связанного с ним никакими обязательствами, и не вмешивается в его жизнь.
В адресованной Александру II «Записке о внутреннем состоянии России» (1855 г.) Аксаков писал: «Правительству – неограниченная свобода правления, исключительно ему принадлежащая, народу – полная свобода жизни и внешней и внутренней, которую охраняет правительство. Правительству – право действия и, следовательно, закона; народу – право мнения и, следовательно, слова. Вот русское гражданское устройство!»234.
Избрание Романовых в 1613 г. было новым призванием власти, народ вновь не захотел «государствовать», это исказило бы «чистоту народного начала». Не случайно, славянофилы так любили десятилетие, когда Земский собор 1613 г. практически не распускался, потому что новая власть после многолетней Гражданской войны не обрела еще авторитета, и собор, чье мнение в таких условиях было весомо, активно участвовал в нормализации жизни страны.
Однако продолжавшееся столетиями размежевание функций и прав между народом и государством ликвидировал Петр I. Он сделал то, что сделал народ на Западе, только с обратным знаком. Там народ незаконно поставил себя над государством, взяв власть в свои руки путем учреждения парламента и конституции, а Петр I подчинил народ государству и утвердил внешний закон над «внутренней правдой». Европеизация исказила основное начало русской истории и подчинила Россию чуждой культуре. Отсюда – негативное отношение славянофилов к Петру.
Различия между «завоеванием» на Западе и «призванием» на Руси породили также и различное понимание свободы: «Рабское чувство покоренного легло в основании западного государства; свободное чувство разумно и добровольно призвавшего власть легло в основании государства русского. Раб бунтует против власти, им не понимаемой, без воли его на него наложенной и его непонимающей. Человек свободный не бунтует против власти, им понятой и добровольно призванной»235.
Поэтому Запад, где государство основано на насилии и вражде, переходя от рабства к бунту, «принимает бунт за свободу, хвалится ею и видит рабство в России».
Напротив, Россия «хранит у себя признанную ею самою власть, хранит ее добровольно, свободно, и поэтому в бунтовщике видит только раба с другой стороны, который так же унижается перед новым идолом бунта, как перед старым идолом власти; ибо бунтовать может только раб, а свободный человек не бунтует»236.
Эти мысли очень важны. В рамках этой логики вечное российское рабство, о котором так много писали европейцы, начиная с Герберштейна, оказывается истинной свободой. Ими же определяется и правовая концепция славянофилов, с которой мы в общих чертах уже знакомы.
Как правило, в историографии более или менее подробным изложением взглядов славянофилов на отличия между Россией и Западом все и заканчивается.
Однако не говорится главного: славянофильство было формой «национального русского христианского утопического социализма», по определению историка С. С. Дмитриева237, впервые заявившего об этом еще в 1940 г.
Между тем только в этом контексте все подчеркиваемые ими различия между Россией и Европой обретают, на мой взгляд, настоящий смысл. Что, кстати, радикально меняет привычную родословную социализма в России.
Однако прежде, чем коснуться этой темы, попытаемся рассмотреть противопоставление России и Запада, исходя из оппозиции системоцентризм – персоноцентризм.
По мнению поставившего данную проблему А. В. Оболонского238, к этим двум «противоположным традициям, двум взаимоисключающим взглядам на мир» сводятся – на уровне идеальных типов – все известные нам человеческие цивилизации, невзирая на их громадное многообразие. Ведь две указанные «традиции» («антропологии», «этики») имеют огромное влияние практически на все области жизни того или иного общества.
Глобально эти взгляды разделяет диаметрально противоположный подход к окружающему миру: в первом случае высшая ценность – Система, какой бы она ни была, во втором – Человек.
В персоноцентристской шкале «индивидуум является высшей точкой», или по Протагору, «мерой всех вещей». Все явления окружающей действительности трактуются с точки зрения человеческой личности.
Соответственно здесь доминирует тип мышления, ориентированный на эту личность, признающий и даже исходящий из идеи «неповторимости духовной сущности, автономности и самоценности каждого человека», причем важность отдельного индивида отнюдь не определяется мерой его значимости в политической, социальной, культурной и прочих сферах.
Он важен самим фактом своего существования.
Напротив, в системоцентричной шкале человека как бы нет или он выступает как нечто второстепенное, подсобное, которое может сыграть большую или меньшую роль в «достижения неких надличностных целей», необходимых для системы.
Большей частью речь идет о «растворении человеческого “Я” в интересах Империи, Царственной Особы, Культа, Обычая, Идеологии или просто Государства».
Общим знаменателем здесь выступает «отсутствие представления о самоценности человеческой индивидуальности», о том, что человек рождается не для того, чтобы стать винтиком или гайкой в механизме какой-либо системы. Индивид при таком подходе всегда средство и никогда не цель.
Это и понятно, поскольку в данной традиции безусловным приоритетом являются интересы Целого, как бы оно не именовалось, и в первую очередь его стабильность. Естественно, что «ориентация на воспроизводство одних и тех же условий определяет неразвитость и неприятие индивидуалистского сознания, тенденцию к доходящему до полного самоотречения отождествлению своих интересов с интересами социального целого – рода, племени, общины или более широких образований.
Внутреннее жизненное равновесие для члена такого коллектива достижимо лишь через полную гармонию с Системой, которая, в свою очередь, сохраняет устойчивость лишь благодаря соответствующему поведению своих членов».
Понятно, что исторически первым был системоцентризм, а в ходе буржуазных революций XVI–XIX вв. в ряде стран Европы и Северной Америки о себе все громче стал заявлять и со временем утвердился персоноцентризм[63]63
По мнению А. В. Оболонского, «первые заметные вспышки персоноцентристского мышления мы видим в античном мире».
[Закрыть].
Однако процесс перехода от системо– к персоноцентризму, к торжеству либерализма, к правам человека протекал очень сложно и противоречиво.
Думаю, не требует специального обоснования тезис о том, что Россия со времен Ивана III была, безусловно, системоцентричной страной. Достаточно вспомнить приводившуюся выше мысль К. П. Победоносцева о том, что хотя в русской истории развитие самостоятельной личности «остановилось и замедлилось», однако население в своей массе имеет прочный прожиточный минимум в виде земельного надела, а также «в постоянной обязательной связи своей с государством». Понятно, что с известной поправкой это относится и к дворянству до его раскрепощения.
Нетрудно видеть, что построения славянофилов и их единомышленников системоцентричны, что вполне естественно.