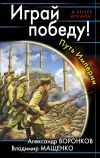Текст книги "Теорема Столыпина"

Автор книги: Михаил Давыдов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
О чем звонил «Колокол»?
В обществе юном, которое не привыкло еще выдерживать внутренние бури и не успело приобрести мужественных добродетелей гражданской жизни, страстная политическая пропаганда вреднее, нежели где-либо. У нас общество должно купить себе право на свободу разумным самообладанием, а вы к чему его приучаете? К раздражительности, к нетерпению, к неустойчивым требованиям, к неразборчивости средств. Своими желчными выходками, своими не знающими меры шутками и сарказмами, которые носят на себе заманчивый покров независимости суждений, вы потакаете тому легкомысленному отношению к политическим вопросам, которое и так уже слишком у нас в ходу.
Б. Н. Чичерин. «Письмо издателю Колокола»
На людей, чьи поступки до такой степени зависят от настроения, нельзя возлагать никакой серьезной ответственности.
Стефан Цвейг
Дальнейшая судьба идей славянофилов в большой мере связана с яркой, местами обаятельной и даже феерической, однако абсолютно безответственной фигурой основателя крестьянского (общинного) социализма, т. е. левого народничества, А. И. Герцена.
Герцен исключительно важен для нашей истории, поскольку именно с ним в огромной степени связано развитие не только революционных идей, но и русского общества в целом.
Внебрачный сын богатого дворянина И. А. Яковлева к 30-ти годам он дважды побывал в ссылке – сначала как один из лидеров студенческого кружка в Московском университете, а затем как критик работы полиции. Вернувшись в 1842 г. в Москву, он стал активным западником, выделяясь явным тяготением к социализму и к революционному радикализму.
В 1846 г. после смерти отца, оставившего ему вполне приличное наследство, он сумел получить иностранный паспорт и в январе 1847 г. с семьей и матерью уехал за границу – как оказалось, навсегда.
«С отъездом Герцена на Запад», – пишет историк Мартин Малиа, – «началась величайшая авантюра в его жизни: эмиграция превратила его из мелкого журналиста, пишущего корявые гегельянские трактаты и второсортную социальную беллетристику для московских интеллектуалов, в крупную революционную фигуру». Благодаря свободе слова он первым из русских стал «разрабатывать и распространять свою особенную национальную теорию революции.
Если бы он не сумел уехать из России именно в тот момент, его место в истории было бы действительно скромным – он был бы радикальным Грановским или двойником Белинского. Еще год, и было бы слишком поздно, ведь, начиная с 1848 года и до смерти Николая I, было чрезвычайно сложно покинуть Россию и практически невозможно для человека с таким прошлым, как у Герцена»262.
Его публицистическая деятельность в Париже с самого начала была исполнена антибуржуазным, а шире – антизападным пафосом, причем в плане беззастенчивого поношения Европы он перещеголял чуть ли не всех славянофилов. Поэтому традиционный взгляд на него как на западника требует уточнения.
Считается, что итогами прокатившихся по Европе в 1848–1849 гг. революций, особенно французской, которую он наблюдал вблизи, Герцен оказался смертельно разочарован, и именно это чувство лежит у истоков народничества. Это та самая неудовлетворенность итогами буржуазно-демократических революций на Западе, о которой говорится в начале этой книги.
Во множестве текстов, авторы которых верят «Былому и думам», утверждается, что потеряв веру в потомков Дантона и Робеспьера, которые не оправдали его высоких ожиданий и оказались мещанами, он якобы и изобрел свой «общинный социализм».
Ряд специалистов, однако, убедительно показывает, что это «разочарование», которому в истории русской революционной мысли придается едва ли меньшее значение, чем открытию Коперника в истории науки, было имитацией, литературной постановкой. Западом он был недоволен еще в Москве.
Тот же Малиа справедливо считает, что «никакая мыслимая Европа не смогла бы удовлетворить» тем идеалам, с которыми он пересек границу. Более того, «Герцен отреагировал бы гораздо сильнее, чем он сделал это, если бы революция увенчалась успехом и установила бы благие либеральные республики везде западнее России, или если бы революции не случилось вообще»263.
Судьбоносные теории рождаются по-разному. Это я к тому, что теория, в конечном счете искалечившая историю России, а попутно и неисчислимое множество судеб во всем мире, – таково мое твердое убеждение – родилась не в результате просветления личности масштаба Франциска Ассизского, Мартина Лютера или протопопа Аввакума.
Получается, что она – результат всего-то мистификации ну очень свободолюбивого и взбалмошного русского барина, грезившего о материализации своей версии «мечтательного бреда», как называл социализм Достоевский, и обманутого в этих ожиданиях, человека крупного, в своем роде очень яркого и весьма одаренного литературно, но не более того, и уж никак не годящегося на роль апостола.
Думаю, что этот факт, наряду с тем, что крестьяне Петрашевского сожгли построенный им для них фаланстер a la Fourier, – один из эпиграфов к судьбе социализма в России.
Разочарование такого эпического масштаба подразумевало либо крайнюю депрессию, либо поиск нового идеала.
Считается, что, так до конца и не смирившись с нравственным падением европейцев в 1848–1849 гг., Герцен прочел два первых тома опуса Гакстгаузена, с которым он в 1843 г. общался в Москве. Перед его взором, как он сообщает, забрезжила «едва заметная полоска на востоке, намекающая на дальнее утро, перед наступлением которого разразится не одна туча»[67]67
Читая подобные строки Герцена, лично я всегда сожалею о том, что он не стал путешественником. Ведь Ливингстон всего на год моложе его! Какими африканскими пейзажами, какими описаниями восходов и закатов мы обогатились бы!..
[Закрыть].
После этого он быстро и весьма беззастенчиво переформатировал идеи славянофилов и Гакстгаузена и, убрав из них христианскую составляющую, выдвинул теорию «общинного социализма», сыгравшую огромную роль в идейном развитии русского общества.
Теперь он – вопреки тому, что думал в 1843–1844 гг. – был согласен, что в русской уравнительно-передельной общине уже воплощены те идеалы эгалитаризма, демократии и пр., о водворении которых в обществе «грезят» социалисты Запада.
Поэтому эта община не только станет основой будущего социалистического строя в России, но и спасет мир в целом – на меньшее он, подобно славянофилам, согласен не был.
Теперь он был солидарен с ними в том, что ни тяжелейшая русская история, ни века крепостного права не отразились на душевных качествах народа. Поэтому только русский мужик является потенциальным носителем новой, не мещанской и не буржуазной жизни. Крестьянский мир в потенциале содержит в себе возможность «гармонического сочетания принципа личности и принципа общинности, социальности»264. Воистину – Руссо живее всех живых!
Однако его модель спасения человечества отличалась от славянофильской.
Уже к 1848 г. Герцен был законченным анархистом, что, в общем, немудрено при николаевском прессинге, и его идеалом была свободная федерация самоуправляющихся общин, «коммун».
Только она могла разрешить главное из существующих, по его мнению, противоречий – между личностью и обществом. Как и большинство социалистов, он пытался убедить человечество, в том, что в коллективе возможно свободное гармоничное развитие личности (отцу в свое время явно следовало отдать его в кадетский корпус!).
И поэтому Герцен хотел не трансформации, а ликвидации государства в принципе – как явления мироздания.
Подобно большинству русских людей, писавших на подобные темы, он справедливо решил, что «умирающей», «пережившей себя» Европе такого «дивного нового мира» не построить. В частности, потому, что она – эпицентр мировой буржуазности и мещанства, которым в герценовском светлом будущем места нет. Он и здесь совпадал со славянофилами.
Европейцы, слишком привязанные к своему прошлому, к своей системе жизни, к обеспеченным правам личности и многому другому – в принципе не могут спасти мир от этой беды, поскольку даже здешние пролетарии (не говоря о буржуазии) сплошь мещане. Другими словами, вместо того, чтобы 25 часов в сутки думать о вечном и высоком, о преображении человечества в отсутствие государства, они всего лишь хотят завтра жить лучше, чем сегодня, а о счастье рода людского вспоминают только на митингах.
И это было пошло и низко в глазах весьма состоятельного джентльмена А. И. Герцена, аристократа духа, в жизни не державшего в руках ничего тяжелее охотничьего ружья и, возможно, саквояжа.
Надо сказать, что в ту пору антимещанство уже было очень в тренде; Герцен чутко улавливал модные интеллектуальные тенденции. Так, «показательным героем 1850-х годов был Гюстав Флобер, который описывал, как буржуазные «бакалейщики» своими костюмами, своей нарочитой респектабельностью доводили его буквально до физических страданий. Флобер, который не упускал случая назвать себя «Гюставус Флоберус Буржуанена-видящий» (Gustavus Flaubertus Bourgeoisophobus), писал в своем обычном тоне Жорж Санд: «Аксиома: ненависть к буржуазии – начало пути к добродетели»265.
Итак, поскольку человечество, условно говоря, приговорено к социализму, то именно синтез западных социалистических идей с русским общинным миром обеспечит победу социализма и оживит дряхлеющую западную цивилизацию.
Отныне он убежден, что Россия обновит Европу своей «молодой кровью».
Тут уместно заметить, что хотя его тонкую натуру «оскорбляло» мещанство европейцев, толк в деньгах он знал, в отличие от Бакунина с Огаревым.
Напомню его в своем роде уникальную по изяществу операцию с Николаем I, которого он вынудил вернуть свое наследство. Царь, дважды ссылавший его, но зачем-то выпустивший за границу, в 1849 г. наложил секвестр на его имущество. Тогда Герцен фиктивно продал последнее Джеймсу Ротшильду, а тот сообщил царю, что ему не стоит ждать денежного займа, пока он не снимет арест с состояния Герцена и не перешлет в Париж его денежный эквивалент. Царь вынужден был подчиниться266. Легко вообразить, как торжествовали Герцен с Ротшильдом и что чувствовал император всероссийский.
При содействии Ротшильда Герцен даже стал богаче, он вложил часть капитала в заметно подорожавшую, благодаря стройкам барона Османа (уничтожившего Париж «Трех мушкетеров») парижскую недвижимость. Другую часть он вложил в весьма прибыльные американские облигации. Наконец, он не брезговал заниматься спекуляциями, которые, благодаря помощи Ротшильда, имели удачный исход.
Все это не уменьшало его ненависти к европейскому «мещанству», которую он сумел передать поколениям наших соотечественников.
Небольшая ремарка.
Повествование у нас не строго хронологическое, и я вынужденно должен продолжить сюжет о Герцене, хотя он в основном разворачивается после 1855 г. Этого требует структура текста.
10 июня 1853 г. в Лондоне Вольная русская типография выпустила первую прокламацию («Юрьев день! Юрьев день!»), а через 4 дня Николай I повелел занять Дунайские княжества – началась Крымская (Восточная) война.
В течение двух лет Герцен, наряду со своей беллетристикой и воспоминаниями, печатал социалистическую публицистику, в которой без устали и весьма изобретательно охаивал «гнилой Запад», на контрасте непременно превознося социалистические перспективы России и уравнительно-передельной общины, спасшей «русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии»267.
Не могу не заметить, что его блестящий стиль странным образом сообщает этим текстам не вполне обычный привкус какого-то элитарно изощренного занудства, которого, к примеру, в силу примитивности были лишены аналогичные и также успешно наводящие тоску поношения «мирового империализма» в советской печати сто лет спустя.
Характерно, что уже в первой брошюре «Юрьев день! Юрьев день!» он объявляет читателям, что ради эмансипации готов на все: «Страшна и пугачевщина, но, скажем откровенно, если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено. Страшные преступления влекут за собой страшные последствия… Наше сердце обливается кровью при мысли о невинных жертвах, мы вперед их оплакиваем, но, склоняя голову, скажем: пусть совершается страшная судьба, которую предупредить не умели или не хотели»268.
Кроме того, он аккуратно печатал адресованные ему письма видных европейских революционеров (из разряда «привет-привет»), а также информировал читателей о таком, например, актуальном для России сюжете (да еще и в разгар Крымской войны!), как празднование в Лондоне годовщины революции 1848 г. и т. д.
После смерти Николая I Герцен решил издавать «Полярную звезду», которую претенциозно квалифицировал как «обозрение освобождающейся Руси».
Надо сказать, что дебют его как издателя не вызвал восторгов его старых друзей. За исключением его воспоминаний («Былого и дум»), публикуемые тексты никак не устраивали русских читателей, поскольку тематически они были совершенно чужды большинству из них.
T. Н. Грановскому давно не нравилось то, что он писал в эмиграции. В октябре 1855 г., накануне своей внезапной смерти, Грановский сообщил К. Д. Кавелину, что доктор П. Л. Пикулин, две недели гостивший у Герцена, привез много рассказов о нем и первую книгу нового альманаха: «Утешительного и хорошего мало. Личность осталась та же, не стареющая, горячая, благородная, остроумная, но деятельность ничтожная и понимание вещей самое детское. Для издания таких мелочей не стоило заводить типографию…
И что за охота пришла человеку разыгрывать перед Европой московского славянофила, клеветать на Петра Великого и уверять французских réfugiés (здесь – политических эмигрантов) в существовании сильной либеральной партии в России? У меня чешутся руки отвечать ему печатно в его же издании (которое называется «Полярною звездою»). Не знаю, сделается ли это»269.
В конце 1855 года Кавелин и Чичерин отправили Герцену совместное письмо за подписью «Русский либерал».
В литературе это письмо, как правило, упоминается лишь в качестве своего рода первотолчка к изданию Герценом «Голосов из России», а между тем оно заслуживает более пристального внимания, ибо в некотором смысле это первая печатная декларация отечественного либерализма.
Первую часть письма написал Кавелин, вторую – Чичерин. Содержательно и стилистически текст действительно распадается надвое. В первой части дается общая характеристика положения страны в контексте 40-летней репрессивной (запретительной) политики правительства. Вторая содержит анализ герценовской пропаганды в свете реальных проблем страны.
Герцен не привык получать подобных корреспонденций, что видно из его слегка растерянного по тону предисловия к публикации.
Письмо, пишет он, «умное и дельное (хотя я и не согласен с ним) и которое решительно ничего бы не потеряло – если б вежливость выражений была наравне с их откровенностью. Я оставил неблагородное слово «фарса», унизительные обвинения, что «я разыгрываю комедию»; я оставил также страшное недоверие ко мне, выразившееся в просьбе не искажать рукописи.
Не думаю, чтоб неизвестный мне автор хотел меня оскорбить – и отношу эти «крепкие слова» и выражения к нашей непривычке говорить без ценсорского надзора. Да если б – и тогда истинное удовольствие, которое мне доставляет печатание первых рукописей, присланных из России, совершенно искупает несколько гневный тон выговора, сделанного мне строгим петербургским начальством»270. Ирония тут, конечно, герценовская, но некоторая как бы ошарашенность, не слишком обычная для его текстов, также присутствует.
Явление Чичерина
Нам нужно независимое общественное мнение – это едва ли не первая наша потребность, но общественное мнение, умудренное, стойкое, с серьезным взглядом на вещи, с крепким закалом политической мысли, общественное мнение, которое могло бы служить правительству и опорою в благих начинаниях, и благоразумною задержкою при ложном направлении.
Чичерин. «Письмо издателю Колокола»
И здесь самое время несколько ближе познакомиться с неоднократно упоминавшимся на страницах этой книги Б. Н. Чичериным (1828–1903), на мой взгляд, одним из самых удивительных умов, которых родила Россия за последние лет триста (XIX в.). Разумеется, я лишь вкратце коснусь тех аспектов жизни этой эпической личности, которые важны для нашего изложения.
Чичерин был ярким представителем той части русского общества, которую не устраивала узость и догматизм славянофилов и Герцена, отторжение культурного значения Запада, а также общегражданских прав и ценностей. Чичерин и его единомышленники видели, что самобытность в трактовке славянофилов и Герцена – это банальная отсталость, и верили в то, что будущее Империи состоит в развитии европейских начал, культуры и науки, в образовании, просвещении народа, и в постепенной трансформации страны в правовое государство.
Сын богатого тамбовского помещика, он в 1849 г. закончил юридический факультет Московского университета.
При этом в конце 1853 г. факультет отверг его выпускную работу «Областные учреждения России в XVII веке». Декан Баршев сказал ему, что он представил администрацию «в слишком непривлекательном виде», а профессор Орнатский назвал диссертацию «пасквилем и ругательством на Древнюю Русь»[68]68
Характерно замечание Чичерина: «Что было делать? Не мог же я извращать источники и видеть в древнерусской администрации вовсе не то, что в ней было, а что хотелось в ней видеть профессорам юридического факультета».
[Закрыть]. Защита состоялась только в 1857 г., когда ослабели цензурные строгости.
Годом раньше в «Русском вестнике» появилась его ставшая знаменитой статья «Обзор истории развития сельской общины в России» (см. ниже).
С 1861 г. занимал должность профессора государственного права в родном университете.
В конце 1862 г. Александр II пригласил его преподавать эту дисциплину наследнику Николаю Александровичу[69]69
Первое предложение Чичерину было сделано еще в 1859 г.
[Закрыть], к великой беде России умершему в 1865 г. Цесаревич, по словам Чичерина, обещал быть самым образованным и либеральным монархом не только в русской истории, но и в мире.
В 1866 г. Чичерин опубликовал докторскую диссертацию «О народном представительстве».
В 1868 г. вместе с рядом профессоров вышел в отставку в знак протеста против курса, проводившегося новым министром народного просвещения Д. А. Толстым.
После этого он стал активным земским деятелем, работал в так называемой «Барановской» комиссии по изучению железнодорожного дела в России и писал непревзойденные научные труды, до сих пор сохраняющие свое значение.
В 1882 г. Москва избрала его своим городским головой, но уже в 1883 г. Александр III приказал ему подать в отставку из-за речи, произнесенной во время коронационных торжеств, в которой Чичерин выразил надежду на сотрудничество власти с земским движением. Царь расценил это как призыв к конституции. Московская городская дума сделала Чичерина почетным гражданином столицы.
По возвращении в свое имение Караул он продолжил научные занятия, выйдя за привычные рамки философии, юриспруденции и истории.
Его гениальность вполне проявилась в том, что, начав в конце шестого десятка жизни изучать физику, химию и высшую математику, он открыл планетарную модель атома271. За четверть века, замечу, до опытов Эрнеста Резерфорда и теории Нильса Бора!
Опираясь на таблицу Д. И. Менделеева и анализируя изменения плотности химических элементов, Чичерин пришел к выводу, что «…все различие атомов зависит от количества и распределения содержания в них материи…», в атоме «…центральные элементы электроположительны, а периферические электроотрицательны…», то есть «… атом, с своим центральным ядром и вращающимися около него телами, представляет аналогию с солнечною системою. Атом есть микрокосм, вселенная в малом виде».
Работы Чичерина были опубликованы в 1888–1889 гг. в «Журнале Русского физико-химического общества», почетным членом которого он был избран по рекомендации Менделеева. Впрочем, реальной поддержки в широком продвижении своей теории Б. Н. от него не получил.
В 1889 г. увидела свет его двухтомная монография «Система химических элементов».
Он писал вплоть до конца своей жизни. На рубеже веков вышел его знаменитый «Курс государственной науки», а в 1901 г. – во многом пророческий текст «Россия накануне XX столетия». Вышел, естественно, в Берлине.
Вернемся, однако, в середину XIX в.
Чичерин считал себя учеником T. Н. Грановского и К. Д. Кавелина, был убежденным западником и участвовал в их дискуссиях со славянофилами.
Кстати, любопытна первая реакция на их идеи его, 16-летнего провинциального юноши, приехавшего в Москву готовиться к поступлению в университет: «Разумеется, я не мог еще тогда понять сущности философских вопросов, о которых шла речь. Но вся проповедь славянофилов представлялась мне чем-то странным и несообразным; она шла наперекор всем понятиям, которые могли развиться в моей юношеской душе.
Я пламенно любил отечество и был искренним сыном православной церкви; с этой стороны, казалось бы, это учение могло бы меня подкупить. Но меня хотели уверить, что весь верхний слой русского общества, подчинившийся влиянию петровских преобразований, презирает все русское и слепо поклоняется всему иностранному, что, может быть, и встречалось в некоторых петербургских гостиных, но чего я, живя внутри России, от роду не видал.
Меня уверяли, что высший идеал человечества – те крестьяне, среди которых я жил и которых знал с детства, а это казалось мне совершенно нелепым.
Мне внушали ненависть ко всему тому, чем я гордился в русской истории, к гению Петра, к славному царствованию Екатерины, к великим подвигам Александра. Просветитель России, победитель шведов выдавался за исказителя народных начал, а идеалом царя в «Библиотеке для воспитания» Хомяков выставлял слабоумного Федора Ивановича за то, что он не пропускал ни одной церковной службы и сам звонил в колокола.
Утверждали, что нам нечего учиться свободе у Западной Европы, и в доказательство ссылались на допетровскую Русь, которая сверху донизу установила всеобщее рабство. Вместо Пушкина, Жуковского, Лермонтова меня обращали к Кириллу Туровскому и Даниилу Заточнику, которые ничем не могли меня одушевить.
А с другой стороны, то образование, которое я привык уважать с детства, та наука, которую я жаждал изучить, ожидая найти в ней неисчерпаемые сокровища знания, выставлялись как опасная ложь, которой надо остерегаться, как яда. Взамен обещалась какая-то никому неведомая русская наука, ныне еще не существующая, но долженствующая когда-нибудь развиться из начал, сохранившихся неприкосновенными в крестьянской среде.
Все это так мало соответствовало истинным потребностям и положению русского общества, до такой степени противоречило указаниям самого простого здравого смысла, что для людей посторонних, приезжих, как мы, из провинции, не отуманенных словопрениями московских салонов, славянофильская партия представлялась какой-то странной сектой, сборищем лиц, которые в часы досуга, от нечего делать, занимались измышлением разных софизмов, поддерживая их перед публикой для упражнения в умственной гимнастике и для доказательства своего фехтовального искусства. Так это представлялось не только нам, еще незрелым юношам, но и моим родителям»272.
Как говорилось, в 1856 г. Чичерин опубликовал работу, в которой показал, что древность передельной общины и ее уникальность, столь важные для построений славянофилов и Гакстгаузена, является мифом.
К этому времени академическая наука уже знала, что такая же форма общины была и у других народов, что она вообще характерна для древнейшего родового быта и постепенно разлагается вместе с этим общественным строем. Надо сказать, что сам Чичерин после чтения Гакстгаузена был вполне убежден в том, что эта община, которая исчезла на Западе под воздействием развития цивилизации, в России сохранилась как рудимент далекой старины.
Однако изучение древнерусских памятников показало ему то, чего никто не ожидал. Из них следовало, что крестьяне в средневековой России были собственниками своих участков, распоряжались ими по своей воле – продавали, передавали по наследству, завещали в монастыри на помин души (мы уже знаем, что у черносошных крестьян русского Севера и однодворцев такой порядок землевладения сохранялся до конца XVIII в., а кое где и до эпохи Николая I).
Та уравнительно-передельная община, которую в середине XIX в. славянофилы принимали за институт, существовавший со времен Киевской Руси, была плодом податной реформы Петра I и Межевых инструкций. При этом Чичерин показал, что община не была застывшей формой общежития, что она эволюционировала.
Чичерин пишет: «Без малейшей предвзятой мысли я изложил результаты своих чисто фактических исследований, которые привели меня к заключению, что нынешняя наша сельская община – вовсе не исконная принадлежность русского народа, а явилась произведением крепостного права и подушной подати.
Произошел гвалт. Славянофилы ополчились на меня как на человека, оклеветавшего Древнюю Русь»273.
Начавшаяся в 1856 г. публицистическая деятельность Чичерина имела очень важное значение для пробуждения русской мысли.
С одной стороны, он публиковал научные работы по социальной истории, а также по истории государства и права России и Западной Европы, имевшие резонанс в обществе, а с другой, активно участвовал в работе Вольной типографии Герцена, написав ряд важных текстов для «Голосов из России», а также либеральных изданий того времени.
Чичерин оказался самым настоящим «возмутителем спокойствия», всеобщим раздражителем – нам сейчас даже трудно представить, до какой степени.
С его именем связаны первые значимые идейные конфликты внутри русского общества, особенно в первое десятилетие нового царствования. С ним яростно полемизировали славянофилы, Герцен, Чернышевский и их сторонники, вроде Шелгунова, а позже и их идейные наследники – вплоть до Н. А. Бердяева и П. Б. Струве. Его читал и даже конспектировал Маркс.
И как его только не обзывали! «Русский немец», «гувернементалист», «зануда-профессор», «важный преждевременный старец»…
«Старцу», замечу, в 1858 г. исполнилось 30 лет.
Что же не устраивало его противников?
Почему его противники так нервничали?
Начну, пожалуй, с конца.
Мало того, что у него были радикально иные взгляды на ключевые проблемы страны, – думаю, что оппонентов раздражала манера их изложения.
Бернард Шоу однажды написал великому скрипачу Яше Хейфецу – пожалуйста, возьмите хотя бы одну неверную ноту, чтобы мы понимали, что вы живой человек.
Я убежден, что нечто похожее чувствовали противники Чичерина, и по-человечески их где-то можно понять. Он просто бесил их своим, по определению С. Н. Сыромятникова, «эллински ясным умом», своей невозмутимостью и изумительной, неотразимой логикой своих построений.
У него был удивительный дар мыслить четко, он умел мастерски препарировать самые сложные проблемы и доносить их до читателей в понятном виде. При этом свою точку зрения он всегда отстаивал твердо и бескомпромиссно.
Конечно, эта его уникальная способность раздражала – уж Герцена-то с Чернышевским, не говоря о славянофилах, он зацепил всерьез.
Оппонентам оставалось придираться по мелочам, отбиваться, условно говоря, краплеными картами, упрекая Чичерина в недостатке темперамента, в досрочной старости и т. п., хотя его тексты излучают такую мощь, такую силу живой мысли, что им, как и Бернарду Шоу в случае с Хейфецом, в данном случае стоит посочувствовать.
Теперь о взглядах.
Прежде всего – у сторонников общины он выбивал из рук такой важный козырь, как идею о ее изначальности в русской истории, а значит, и моральную санкцию на ее сохранение в дальнейшем.
Однако важнее было то, что для многих в принципе были неприемлемы его подходы к начавшемуся масштабному реформированию страны, в основе которых лежала идея союза правительства и здоровой части образованного класса.
Напомню, что Чичерин – главный теоретик государственной школы в русской историографии, к которой относятся также его преподаватель К. Д. Кавелин и С. М. Соловьев. Их объединяло убеждение в основополагающей роли государства в русской истории.
Теория всеобщего закрепощения сословий разработана в первую очередь именно Чичериным, и мы в общих чертах уже представляем, каким он видел ход русской истории.
Отмечу лишь, что он отвергает трактовку славянофилами идеи Погодина о призвании варягов. На становление же Русского государства, на формирование государственной власти повлияло ордынское иго, поработившее народ и приучившее его к покорности: «В России образцом служила восточная деспотия».
Поэтому и проблему «Россия – Запад» он ставит совершенно иначе, чем славянофилы. Если в Европе господствовало начало права, то в России – начало власти, начало силы. Там государство создавалось «снизу», благодаря стараниям общества, а у нас – усилиями самого государства, которое все насаждало «сверху». С учетом условий, в которых оказалась Русь после 1240 г., это было естественно и абсолютно неизбежно.
Государство обременило все сословия тяжелыми повинностями и закрепостило их, получив такую силу, которой никогда не имело на Западе. При этом «подчинение дикой орде оторвало Россию от Европы и подавило в ней всякие зачатки умственного движения. Мы на два века отстали от других европейских народов». В конце XV в. возродилось государство, но не та интеллектуальная жизнь, которая была ему необходима для развития и без которой не могло быть и речи о равноправии России с другими странами.
Это предопределило громадное значение петровских реформ, вновь сделавших Россию членом европейской семьи. Страна тем самым не отрекалась от своей самобытности, она восстанавливала «порванную нить», поскольку всей своей историей она принадлежала Европе, шла тем же путем, исходя из тех же начал. Чтобы двигаться дальше, ей необходимо было усвоить западное просвещение.
Когда Российская империя окрепла, началось обратное раскрепощение и уравнение сословий в правах. Окончательно этот громадный процесс будет завершен с окончанием освобождения крестьян, и тогда сословный порядок будет заменен общегражданским. Что, кстати говоря, и произошло после 1906 г.
Ясно, что в этой схеме главный актор русской истории и воистину «единственный европеец» – государство, независимое от общества. Однако для дальнейшего прогресса страны в середине XIX в. необходимо единение государства и общественности.
Оппоненты Чичерина – а это значительная часть русского общества – думали иначе. Они считали, что роль правительства, напротив, надо минимизировать. И тут огромную роль, помимо пришедшей с Запада интеллектуальной моды на «невмешательство» правительств в «жизнь народов», сыграла всеобщая ненависть к бюрократии Николая I.
Чичерин вполне разделял эти чувства современников, однако считал, что сделать этого не удастся. Можно не любить государство, можно и нужно его критиковать, однако русскую историю не переписать, она такая, какая есть, и надо понимать, что реформы возможны только по его инициативе и при его участии. Например, об освобождении крестьян у нас говорили много и долго, но от слов к делу перешел только Александр II.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!