Текст книги "Маневры памяти (сборник)"
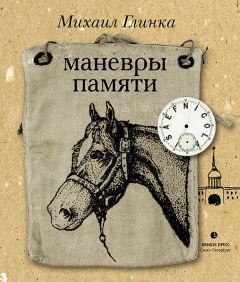
Автор книги: Михаил Глинка
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Первому из дядиных друзей я позвонил Льву Львовичу Ракову.
Как человек, создавший Музей обороны Ленинграда, он был связан для меня с самыми первыми из тех моих детских романтических фантазий, которые сейчас я могу вспомнить. Они были абсолютно милитаристскими.
С сентября 1945-го я пошел во второй класс 203-й школы на Кирочной улице, от которой до Музея обороны в Соляном переулке было бегом минут семь. А если знать проходные дворы, так и пять. Нашей целью была немецкая трофейная бронетехника, которой был тогда забит сквер перед музеем. Сколько раз я сидел верхом на пятнистых холодных орудиях в этом сквере? Сколько вертел и без меня уже отполированные другими ребятами рукоятки, защелки, штурвальчики наводки… А еще был настоящий самолет, висевший под потолком в главном зале музея, пирамида немецких касок и несметное количество разного оружия, стоящего вдоль стен и лежащего в витринах. Конечно, в первые школьные годы этот музей ни с каким именем конкретно у меня не связывался, но сейчас, когда я уже был демобилизованным офицером, постоянно звучащее в кругу дяди имя знаменитого директора давно уже не существующего музея манило меня. И хотя мне было уже не десять лет, но, читатель, вспомните себя… Разве впечатления детства не встают перед нами иногда не менее ярко, чем реальность? И еще, конечно, в дядином кругу как бы витало в воздухе, что Раков директором был особым, и отнюдь не просто администратором. Он придумал, он осуществил, да еще как… Странно, но про страшное «Ленинградское дело» и про индивидуальную судьбу самого Льва Львовича я при этом, можно сказать, не знал тогда почти ничего. Почему? Да все по тому же… Из своих двадцати пяти лет больше половины я провел в погонах. Льва Львовича арестовали, когда я уже третий год учился в закрытом Нахимовском училище, его освободили, когда я Нахимовское заканчивал. Затем у меня было пять лет инженерного, еще более закрытого училища, потом атомные лодки, высшая форма секретности. Дядю это мое все более глубокое погружение в мир ему предельно чуждый, возможно, и заботило, но над тем, как складывается моя жизнь, он более не был властен. Мне была определена колея, и я следовал ее извивам. Дядя же следовал тому, что диктовал ему опыт тридцатых – сороковых. Должно быть, он считал, что, пока я ношу погоны, ненужные размышления мне ни к чему, чтобы не было соблазна делиться ими с теми, с кем учусь или служу. Но вот неожиданно я вернулся в гражданскую жизнь. Что я знал о ней? Что понимал? Ответить затруднюсь.
Трубку Лев Львович взял сам. Я представился, но по некоторой паузе собеседника стало понятно, что он пытается вспомнить, кто бы это мог быть. Пришлось привычно назваться племянником Владислава Михайловича.
– Ну, как же, как же… – сказал Лев Львович. – Превосходно вас знаю… Михаил… отчество ваше, насколько помнится..?
Я сообщил отчество, ответил на вопросы о дядином здоровье.
– Ну-с, так чем могу быть полезен, любезный друг? – спросил Лев Львович. – Полагаю, вы звоните не просто так? Должно быть, есть причина?
Я ответил, что причина действительно есть.
– Готов вас выслушать, это ведь не очень долго, не так ли?
Я сказал, что, если это возможно, я просил бы его о короткой встрече. Буквально на несколько минут.
– Теряюсь в предположениях… – сказал Лев Львович, и голос его слегка подмерз. – Быть может, хоть в самых общих словах, поясните…
Что я мог объяснить? Слова мои были предельно бессвязны.
– Ну, что же… – очевидно, утратив надежду что-либо понять, сказал Лев Львович. – Если вы не против… Конец будущей недели вас, надеюсь, устроит?
Какими выражениями мне удалось передать ему, что меня это не устроит, объяснить не берусь. Голос Льва Львовича подмерз еще заметнее. У меня, вероятно, что-то совершенно не терпящее отлагательств, предположил он. Физически страдая, я утвердительно блеял.
Не будь я «племянником», на том бы, вероятно, все и кончилось. Но имя дяди работало. От разговора этого недолгого я взмок, но день и час для короткого посещения мне все-таки были назначены.
Я приехал. О квартирке Раковых в Матвеевом переулке (наискосок от Мариинки), если посмотреть на эту квартирку просто как на жилой объем, по нынешним понятиям и говорить-то не стоит. Темноватая, нелепая, во дворовом флигеле… (Впоследствии я узнал, что Раковы поменялись сюда с Благодатной улицы, где Льву Львовичу выдали квадратные метры после освобождения из тюрьмы.) Квартирка, повторяю, доброго слова не стоила. Но, однажды здесь побывав, как уже упоминал, я был околдован стоявшими повсюду макетами кораблей и оловянными солдатиками. К тому же ни о чем, относящемся к миру дядиных знакомых, никакого объективного мнения иметь тогда я не мог.
Лев Львович был в свободном сером костюме. Светлая, но не белая рубашка, темный, кажется, блекло-синий галстук, с чуть расслабленным узлом, черные туфли. Я был другого, младшего поколения, мой визит предполагался предельно кратким. К тому же, и это было очевидно, я практически навязался. Но я был гостем! И в этот раз, и в следующий, и еще множество раз впоследствии я имел возможность наблюдать в действии одни и те же обязательные и неизменные для этого дома правила. Квартира прибрана, хозяин выбрит и причесан, а костюм его свидетельствует уважение к гостю: никаких домашних шлепанцев, пижам, свитеров, заношенных воротничков, брюк с мешками на коленях. Никаких предметов одежды и туалета на спинках стульев, диване, вообще висящих или лежащих там, где принимают гостя. Но это уж я так, на будущее… Лев Львович стоял передо мной, высокий, сдержанно улыбающийся, несомненно, хоть я и бессовестно напросился, приветливый.
После первых фраз я сообщил Льву Львовичу, что принес ему некую книгу. Он поднял брови. Я вынул из сумки изделие, точнее, одну его треть. Лицо Льва Львовича, хотя не дрогнул ни один мускул, стало другим. Глаза его смотрели на меня без всякого выражения.
– Кто вам это дал? – сказал он. – Вы сказали – книга. Но это же не книга…
– Про войну в Испании, – сказал я. – По-моему, вам будет интересно…
– Мне? Почему именно мне?
Несколькими годами спустя Марина Сергеевна, жена Льва Львовича, как-то, вспомнив, как я к ним тогда заявился, сказала:
– Вы были ужасны, Мишка (так она всегда меня потом называла). Ужасны. Я все видела из другой комнаты. Выглядели вы просто провокатором. Я поражалась, почему Лёвушка вас сразу не выставит…
Лев Львович продолжал смотреть на меня без всякого выражения.
– Ваши действия предельно странны… Предельно. Но… – он сделал паузу. – Вы ведь – родной племянник Владислава Михайловича! Не может же быть, чтобы…
Признаться, я тогда не очень понимал, что делаю. Повторяю, о том, как, за что и сколько он сидел, я тогда подробно не знал. Не знал и того, что за близость с ним высылали и Марину Сергеевну. Дядя не очень делился со мной этими сведениями.
Удивительно, но Лев Львович меня тогда все-таки не выгнал. Несколько раз, повернув голову в сторону комнаты, откуда так и не вышла Марина Сергеевна, он повторил имя дяди и мое звание – «племянник». Точнее – «все-таки его племянник». И треть «Колокола» осталась у Раковых.
Позвонить я набрался смелости через неделю.
– Приезжайте, – коротко сказал Лев Львович.
Руку мою при рукопожатии он немного задержал в своей. Глаза его остановились на моей сумке.
– Привезли? – спросил он. – Но надеюсь, пятнадцать-то минут у вас есть? Конечно, у нас это еще долго не напечатают…
И он заговорил о той части книги, которую прочел, и которая обрывалась как раз рассказом Пилар о расправе на ратушной площади. Это был самосуд жителей маленького городка, где все друг друга знают, над своими же согражданами. Давние обиды, бытовая зависть, алкогольное безумие, безжалостный главарь, который умеет всех связать кровью, пролитой сообща… Гражданская война.
Я не заметил, как прошло часа полтора. Лев Львович Раков был в своей жизни лектором, научным сотрудником, ученым секретарем Эрмитажа. Он был директором Музея обороны и директором Публичной библиотеки. В паузе меж музейными делами он был последовательно офицером, номенклатурной единицей высокой категории, а потом и заключенным. Но всегда и везде во всех своих ипостасях он оставался СТРАСТНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ. Притом читателем таким, которому необходимо было обменяться мнением о прочитанном с другим читателем той же книги.
Обменяться мнением о «Колоколе» он мог только со мной. Выбора у него не было.
– Мариночка, а не выпить ли нам чаю? – сказал он.
Звонок, с которого я отмеряю начало иных для себя, нежели до того, 1960-х, раздался дня через два.
– Где же вы? – спросил он. – Куда же вы пропали?
Когда я пытаюсь для себя определить, какое положение при Льве Львовиче мне выпало занимать те восемь лет, что оставалось ему жить, то с формулировкой у меня ничего не выходит… Собеседник? В какой-то степени это так. Но стоит ли всерьез говорить о том, что мое мнение о чем бы то ни было могло быть этому человеку действительно интересным?
Я гулял с ним, отвозил и привозил книги, помогал Марине Сергеевне переставлять мебель (раз в три-четыре месяца обязательно!), помогал Раковым переезжать на лето в парк Лесотехнической академии (где семья дочери Виталия Бианки предоставляла им на лето две комнаты), чинил его американский патефон…
Несколько раз, когда силы позволяли Льву Львовичу еще бывать в театре, он просил меня сопровождать его. В частности, помню, мы были на премьере спектакля (кажется, «Деревья умирают стоя») в Театре комедии, где для него были оставлены почетные места. В антракте ко Льву Львовичу подошел главный режиссер – Николай Павлович Акимов. Я стоял рядом и слушал. Лев Львович рассказывал Николаю Павловичу о том, как в партийном лектории, расположившемся в дворцовом особняке, недавно «модернизировали» плафонную роспись огромного зала. Этот зал и старую его роспись Лев Львович знает с 1920-х годов – среди гирлянд цветов и розовых облаков по углам потолка там летали раньше парами голенькие розовые амуры, теперь же, в соответствии с новыми указаниями, амуров для приличия одели в пионерскую форму и лишили крыльев… Болтая ножками, пионеры парят в невесомости. Красные галстуки их развеваются. Прямо Артек в облаках… Вероятно, в качестве иллюстрации явления невесомости…
То была первая половина шестидесятых, слово «невесомость» после полета Гагарина было у всех на слуху.
На вечерний физфак я все-таки поступил, но намерений учиться там у меня хватило лишь на месяц. Уяснив окончательно, что с профессией перепутал, не особенно задержался я и в замечательном Институте полупроводников.
Тем временем два толстых журнала опубликовали мои первые рассказы, хвалебный отзыв Юрия Германа об одном из них напечатали «Вопросы литературы», «Ленфильм» под нажимом того же Ю. Германа купил рассказ для инсценировки… Но Лев Львович с присущим ему тактом сумел дать мне понять, что если я выбрал это занятие всерьез, то радоваться, по меньшей мере, рано.
– Вам не случалось замечать, со сколь разным вниманием слушают никуда не уезжавших и того, кто откуда-то вернулся? – спросил он меня как-то. – Ведь происходящее дома ясней всего видишь издалека…
К тому времени я уже умел отличать те из слов Льва Львовича, к которым потом не раз возвратишься. Мог бы и просто сказать, что писать мне, вообще говоря, еще не о чем. Но Лев Львович был человек светский.
Я пытался пойти плавать, но за границу не выпустили – за мной тянулся шлейф службы на атомных лодках. Я огорчился, но не очень, поскольку тут подвернулась поездка на Украину – запускать воздушные шары с исследовательскими зондами. Вернувшись, я напридумывал вокруг этих шаров и запусков полтораста страниц любовно-детективного сюжета. Выдумывал я эти страницы, абсолютно не подозревая, чем эти выдумки не только для меня, но и для тех, кого начальство сочтет прототипами действующих в повести лиц, могут обернуться. Но время было таким, что все, ради чего задирали голову, отдавало космосом, и в журнале «Звезда», который я уже начал считать своим, повесть напечатали в одном из ближайших номеров. Столько денег, сколько я получил при этом, я никогда еще не держал в руках. Мы с женой привыкли жить от зарплаты до зарплаты впритык, а тут явно должно было хватить месяца на три.
Потом я отправился на Байкал, определился там на научный катер, и мой очерк о том, что творится вокруг построенного на линии сейсмического разлома бумажного комбината, приняла в «Новом мире» знаменитая в то время Анна Берзер. Принять-то приняла, но тут тему Байкала прихлопнули, на чем моим первым журнальным удачам, а вернее бы сказать обманчивым радостям, пришел конец.
За публикацию моего рассказа в «Звезде» гаркнул на главного редактора секретарь обкома Толстиков, и, хотя это случилось на закрытом обкомовском совещании, сценаристу Наташе Рязанцевой, которая по договору с «Ленфильмом» взялась за работу над сценарием по моему рассказу, дали понять, что снимать ничего не предвидится. Другой мой рассказ из той же «Звезды» обложила «Литературка». Ладно бы еще холодной водой окатывали лишь официальные инстанции, но выяснилось, что мой текст о запусках задел множество людей частных. Достаточным оказалось уже то, что число людей в той экспедиции совпало с числом персонажей в повести…
Уже вовсе не для сбора впечатлений, а потому что надо было на что-то жить, я нанялся палубным матросом-рабочим на тресковый сейнер, идущий из Мурманска в полярную ночь к Медвежьим островам; с той же целью возил в теплушке оборудование «Ленфильма» опять на тот же Байкал (при этом почти заманил в эту теплушку и Иосифа Бродского); а для того, чтобы получить допуск к вождению экскурсий по Никитскому ботаническому саду, пришлось сдавать такой экзамен, какого в жизни мне сдавать еще не приходилось…
– Но вы же сами выбрали такую жизнь? – говорил Лев Львович при каждой встрече, и глаза его блестели. – Достается? Но ведь вы, несомненно, знаете рецепт лекарства? Как так, не знаете? Читать! Читать и читать. Мы все время должны читать…
Шинельные стихи
Лев Львович Раков (1904–1970), директор Публичной библиотеки (а также Музея обороны Ленинграда), был с детства и до конца дней влюблен во флот и все военно-морское. Ребенком он уже знал названия всех броненосцев и крейсеров русского флота, подростком хорошо ориентировался в истории морских сражений, когда стал юношей, не было, вероятно, такой статьи на темы флота из «Военной энциклопедии» Сытина (заглохла на букве «П» в 1917-м), содержание которой он не мог бы добавочно прокомментировать. За несколько секунд он мог изобразить силуэт практически любого крупного корабля «Антанты» или Германии, в деталях знал о Моонзундской операции, знал, конечно, и все, что можно было по крупицам собрать о взбунтовавшихся в 21-м линкорах Кронштадта. Хотя кто тогда, впрочем, и сейчас, мог бы сказать, что ему действительно известно все, происходившее там?
Уже в конце жизни Лев Львович говорил, что, по его убеждению, основу глубоких знаний дает лишь ранняя страсть. Он добавлял, что самая сильная страсть – отроческая. Что именно в отрочестве наша память подобна сырой штукатурке, когда любой мазок краски не только оставляет след на поверхности, но еще и впитывается в глубину. Пытливый ум подростка, оказавшись в гуще жизненных переплетений, стремится понять окружающее, и один из путей к такому пониманию – систематизация. Компоновать имеющее общие черты, собирать сходное… Первым и простейшим путем к самоутверждению поэтому неосознанно может стать коллекционирование. За недостающую в уже собранной серии почтовую марку, за наклейку спичечного коробка или коллекционного солдатика ты готов, кажется, отдать все что угодно. Вожделенное (какой бы дребеденью это ни было) начинает тебе сниться. При этом все побочные сведения, которые ты получаешь в процессе поисков – даты, имена, любые детали и мелочи, даже самым косвенным образом относящиеся к предмету твоей страсти, впитываются бессознательно и усваиваются в любых дозах, откуда бы это ни приходило. Беседовать с тобой вскоре станет интересно даже специалисту. И уже вскоре, каким бы узким ни был твой первоначальный интерес, знания твои начнут расползаться вширь…
– Выискивая сведения о водоизмещении канонерской лодки «Кореец», – говорил Лев Львович, – очень трудно не услышать о Цусиме. Узнав о Цусиме, нельзя не добраться до Портсмутского мира. А после этого кто же сможет удержаться от того, чтобы не выяснить, за что Сергея Юльевича Витте прозвали «графом Полусахалинским»?
В 1921 году семнадцатилетним юношей Лев Раков попытался поступить в военно-морское училище. Однако недавний Кронштадт, должно быть, тут сыграл свою роль и в судьбе Льва Ракова. В училище его не приняли.
Мотивировок отказов тогда не скрывали. Причиной явилось происхождение юноши. Со стороны отца тут было все в порядке, отец в 1898 году был в Минске одним из активных организаторов I съезда РСДРП, но со стороны матери просвечивало политическое несоответствие – мать была из старой дворянской семьи.
Был ли такой отказ для юноши ударом? Вероятно. И ясно одно – Лев его не ожидал. Он был обескуражен, сбит с толку. Он считал флот своей страной с детства. В этой стране книжных тропических штормов и сверкающего безмолвия айсбергов, воображаемой беспрекословности повиновения и великой вольницы мореплавателей, легендарного мужества одиночек и общего бессилия предвидеть Морскую Случайность, в этой стране, где воображаемый ад работы у угольных топок так близко соседствовал с опять-таки воображаемым миром лакированных офицерских кают, Лев Раков уже и долго прожил, и много отплавал. Его гимназические альбомы для рисования, его комната, его детские мечты – все когда-то дышало флотом и будущей жизнью на корабле. Но, возможно, и об этом он сам и знал, и не знал – жизнь эта, сейчас бы сказали – виртуальная, уже была им по существу отжита. К окончанию школы Лев Раков уже множество всего прочитал, а многое уже и увидел. А из того, чего сам не видел, до многого добирался в своих размышлениях. Он видел матросов первых послереволюционных лет. Расправы порой происходили прямо на улицах. От военных же флотов мало что осталось. У стенок Кронштадта, правда, еще сохранилось несколько самых больших кораблей. Но те, кто их видел, говорили, что корабли на глазах ржавеют, после недавнего политического бунта команд на них нет, на кораблях маячит лишь новая охрана. После октябрьского переворота прошло всего четыре года, но жизнь менялась так быстро, что уже было ясно – никаких Крузенштернов и Невельских, Литке и Седовых не будет больше никогда. В курсантах, которых Лев Раков увидел в училище, когда пытался сдать свои документы, не было ни намека на тех гардемаринов, одним из которых он мечтал когда-то стать. Из жизни улетало что-то, без чего флот для юноши переставал быть флотом…
Нет, поступи он в это училище, он почти наверняка успешно бы его закончил. Как показала последующая его жизнь, потребность не только участвовать в государственной службе (каковым бы он сам это государство ни считал), но и стараться выдвинуться на ней были у него, видимо, врожденными. Однако на эту первую заявку был получен пахнущий политикой отказ. Протестовать? В какой форме? Раков никогда не был человеком активного политического протеста (будущая жизнь подтвердила это) – скорее, человеком горьких осознаний. Он ощутил, что им пренебрегли, его отодвинули. Так поступило с ним государство. Для того чтобы командовать кораблями, у государства были другие, более подходящие люди, которым оно, государство, доверяло не в пример больше. То есть близкие социально. Лев Раков, ему это дали понять впрямую, в их число не входил. И мечты мальчика, который ползая по ковру, расставлял на его разноцветном море свинцовые утюжки дредноутов и канонерок, так и остались там – на том его игрушечном море послецусимского и досараевского прошлого, которое было его детством.
Длинное стихотворение «Полковник и “Богатырь”», полное трогательной и ностальгической, но все же сатиры, которое было написано Львом Львовичем Раковым тридцатью годами позже во Владимирском централе (приговор – 25 лет по «Ленинградскому делу», фактически же за создание Музея обороны Ленинграда), может быть примером того, как истинно романтическая натура нежно прощается с увлечением отрочества.
Флот же, любимые корабли как таковые были здесь ни при чем. Ракову ли было этого не понять – и до самого конца жизни (из двадцати пяти лет, к счастью, он пробыл в тюрьме лишь четыре года) в любой из квартир Льва Львовича стоят на столиках, шкафах и подоконниках стеклянные аквариумы. В них нет воды, это маленькие сухие доки. И в этих доках живут, время от времени ремонтируясь и достраиваясь, модели кораблей, строителем которых является сам хозяин.
ПОЛКОВНИК И «БОГАТЫРЬ»
Поздно ночью жители Либавы
Кораблей увидели огни,
От походов, дней трудов и славы
Отдыхать в Либаву шли они.
К утру встали по местам привычным
Неуклюжий транспорт «Анадырь»,
Миноносцы «Смелый» и «Отличный»
И надменный крейсер «Богатырь».
Крейсер был надменен не напрасно,
В целом флоте славился один
Драгоценным погребом прекрасных,
Самых редких заграничных вин.
В этот день на крейсер гостя ждали.
Командир просил его принять,
Как на флоте прежде принимали:
Чтобы гость не мог ни сесть, ни встать.
Командирский катер у причала
Дорогого гостя поджидал.
Море влажной свежестью дышало.
О беде никто не помышлял
И кают-компании хозяин,
Старший офицер «Богатыря»
Капитан второго ранга Кляйн
Списки вин просматривал с утра.
Был буфет бутылками заставлен,
Не забыт был также нашатырь.
«Богатырь» радушием прославлен —
Гость попомнит крейсер «Богатырь»!
Гость полковник, статный и плечистый,
Командир гусарского полка,
Молодец усатый и речистый,
Стол окинул взглядом знатока,
И кают-компании хозяин,
Образцовый старший офицер
Капитан второго ранга Кляйн
Просит гостя подавать пример.
Стол, как сад, как рай. В средине круга
Стран заморских разноцветный дар…
«Пьем сегодня за здоровье друга,
За победы доблестных гусар!»
Впечатлен вниманьем и заботой,
Гость встает, ответный тост готов:
«За победы доблестного флота,
За здоровье славных моряков!»
Как обед закончился – неясно,
Как начался ужин – не понять,
Сосчитать бокалы – труд напрасный,
Труд напрасный – марки вин считать.
Били склянки, пир не прекращался,
Гость и ел, и пил, и запивал,
От аи к зубровке возвращался,
И усталых рюмкой подбодрял,
Командир со старшим офицером
Поздно ночью обсуждают план,
Чтоб таким иль этаким маневром,
Но чтоб гость к утру был сыт и пьян —
Офицеров разделить на смены,
Каждый пьет по часу-полтора,
С каждой сменой винам перемена,
И такой порядок – до утра!
Кто стучится ночью, угадайте,
В двери лакированных кают?
«Ваше благородие, вставайте!
Старший офицер к себе зовут!»
Переступит полусонный мичман
За кают-компании порог,
И полковник прокричит: «Отлично!
Ваш приятель что-то занемог!»
Поутру, белее, чем бумага,
Командир старпому говорит:
«Гостя пригласить к подъему флага
День весьма неясный предстоит!»
Вам ясна тревога командира —
Затянулась странная борьба —
Здесь и слава нашего мундира,
И родного корабля судьба…
Гость явился выбритый и свежий,
От бессонной ночи – ни следа.
И походка, и улыбка – те же,
И рука у козырька тверда.
А когда по рейду покататься
Командир пытался искусить,
Гость сказал: «Не смею отказаться,
Но сперва не худо б закусить!»
Завтрак жертвы новые уносит,
Завтрак явно перешел в обед,
Словно жажда, гость бокалов просит,
Чтоб залить горячий жир котлет.
Спаржа, стерлядь, устрицы и утки,
Водки, вина, балыки, икра,
Тьма спускалась. Шла вторые сутки
Страшная, неравная игра.
Били склянки. Пир не прерывался.
Гость и ел, и пил, и подливал,
От аи к зубровке возвращался,
И усталых рюмкой подбодрял.
Ночь прошла в волненьях и смущеньи —
Дьявольский, неслыханный аврал,
Лишь полковник в дивном настроеньи
И шутил, и пил, и подливал.
На подъеме флага все стояли
В страхе несчастливой полосы,
Будто друга в море опускали,
Только гость покручивал усы.
Всех окинув ясным, теплым взором,
Он промолвил: «Тяпнем по одной?»
Посмотрел на всех с немым укором
И промолвил: «Мне пора домой!»
И стояли по местам обычным
Неуклюжий транспорт «Анадырь»,
Миноносцы «Смелый» и «Отличный»,
И надменный прежде «Богатырь».
Моряки видали в море виды,
Но никто доселе не забыл
Горечь неожиданной обиды,
Как полковник крейсер перепил.
Приведенные стихи сам Лев Раков ни малейшим достижением в поэзии не считал. Человек, которому поэт Михаил Кузмин посвятил один из своих сборников, Раков знал, что такое высокая поэзия. «Полковник и “Богатырь”» были, по его собственному определению, стихами «шинельными», то есть написанными без предъявления к ним каких бы то ни было литературных требований, и на мою просьбу записать их ответил снисходительной улыбкой. Не могу вспомнить, записаны ли они вообще. В моей памяти они лежат потому, что я слышал их раза два-три, но полной уверенности, что точно воспроизвожу ту или иную строчку, у меня нет.
Лев Львович Раков не стал моряком, зато он начинал как блестящий университетский лектор, затем стал замечательным ученым-музейщиком, специалистом по русской истории, потом крупным администратором, далее, как водилось у нас, арестантом, а во второй (или в третьей?) своей жизни – драматургом и автором еще не изданных книг по истории русской форменной одежды. А если бы он стал моряком?
Но история, как кто-то нам, помнится, уже говорил, не знает сослагательных наклонений.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































