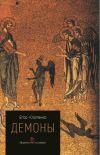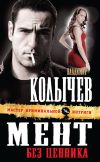Читать книгу "Маневры памяти (сборник)"
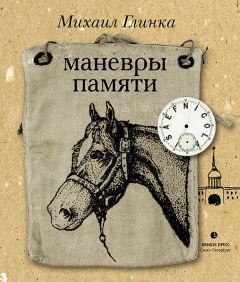
Автор книги: Михаил Глинка
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
XVIII
В первый же наш банный день командир роты, что не было в порядке вещей, отправился вместе с нами не только до раздевалки, но так же, как все мы – разделся догола и – туда, где тазы, души, краны. В полуподвале было тепло, почти жарко, предыдущий взвод (это были тоже пятикурсники, но с другого факультета) заканчивал мытье. Свободных шаек было мало, и повезло не всем. А на одной из скамеек сидел здоровячок с двумя шайками по бокам – в одной вода слегка замыленная, во второй – чистая, на смену.
– Я у вас возьму один тазик? – вежливо сказал, берясь за ручку этой шайки, наш новый и при этом голый командир роты.
– Я тебе возьму!
Бреверн аккуратно поднял шайку за две ручки и еще аккуратней вылил чужую ему воду на бетонный пол. Вода побежала по полу к стоку. Владелец шайки вскочил, надвинулся и стал выкрикивать слова, привести которые не имею возможности. Бреверн рядом с ним, если говорить о комплекции, выглядел неважно.
– Откричались?
Тот, еще что-то выкрикивая, поднял руку. Не то чтобы замахнулся, но обозначил.
– Так, – сказал наш новый командир роты. – Прибывшие из Ленинграда – сюда! Взять товарища под белы руки! Взяли? – и, уже обращаясь к фигуранту: – Перед вами – старший офицер. И вы чуть не испортили себе будущую службу, – и нам: – Молодца – под холодный душ – и держать… Тридцати секунд, думаю, хватит!
Однокурсники парня еще только стали к нам подходить, а этого уже и ополоснули, и отпустили. И – такое ощущение, вроде все рассосалось. Сообща хохотнули. Но капитана третьего ранга с телосложением худощавого юноши запомнили, наверно, все.
– Как? Как фамилия твоего командира роты, ты сказал? – переспросил меня дядя, когда я позвонил ему по телефону в Ленинград, еще перед тем, как нас отправили на последнюю нашу практику в Северодвинск. И потом, будто даже слегка ошарашенный, дядя попросил повторить фамилию по буквам.
– Бочка. Рыба. Еда. Время. Еда… – наверно, я говорил что-то вроде этого.
– А ты поинтересуйся – только аккуратно, Бреверны-де-Лагарди ему не родственники?
Дядя, как я, кажется, уже раньше сообщил читателю, служил в Эрмитаже, где занимался более всего русской военной историей.
– Был такой Александр Иванович, – добавил дядя, – из эстляндских дворян, в 1850-х командовавший кавалергардским полком…
В тот же день, постаравшись, чтобы вопрос мой никто другой не услышал, я нашел возможность задать его командиру роты, а он в ответ довольно сухо, если не жестко, спросил, с какими целями я его об этом спрашиваю. Я сказал ему о дяде, о том, где дядя работает, чем занимается, и о том, что к дяде обращаются с вопросами постановщики спектаклей и фильмов на исторические темы. Непосредственно в это время у дяди что-то завязывалось с Сергеем Бондарчуком (отцом нынешнего Бондарчука), который начинал собирать волокна будущей режиссуры «Войны и мира» и которому нужны были для этого специалисты по знаниям в области военной формы и гражданского платья начала XIX века. А еще – военного снаряжения, оружия, обычаев, манер и т. д. и т. п. При этом дядя, как уже о нем многие говорили, становился все более известным специалистом по распознаванию портретируемых на старых портретах. И командир роты, вдруг назвав меня на «ты», спросил, не дам ли я ему номер дядиного телефона.
Из дальнейшего мне известно не все. Но знаю, что когда у дяди тем летом была путевка в ялтинский Дом творчества писателей (дяде было тогда слегка за 55, и он еще не боялся жары), то они с Бреверном там в Крыму впервые и встретились. А кто к кому первым поехал, не помню. И они стали писать друг другу письма. А потом, уже после моего выпуска (это октябрь 1959) у них такая наладилась переписка, прямо как из русской эпистолярной классики – что ни неделя, то письмо. Иногда возникало ощущение, что они когда-то давно словно были дружны, а теперь снова нашли друг друга.
У Владимира Эдуардовича был идеальный, красивейший почерк. Если то, что я сейчас пишу, удастся когда-нибудь издать с картинками, образец строки, написанный рукой моего севастопольского командира роты, может стать украшением страницы.
XIX
Не знаю, было ли это продолжением того, что возникло между моим дядей и моим командиром роты, но как-то, уже совсем незадолго до выпуска, недели, может, за две или за три Владимир Эдуардович сказал мне, чтобы я, подумав (минут сорок, сказал он), сообщил бы ему, кто (человек пять-семь) больше подходит для конструкторского бюро или научно-исследовательского института, чем для службы на подводной лодке.
– Себя не называй, – сказал он. Что это означало, я так и не узнал.
Не через полчаса, но на следующий день я назвал ему несколько фамилий. Он кивнул. Однако, забегая вперед, скажу, что никакого результата по данному обстоятельству не случилось. Хотя Владимир Эдуардович тут ни при чем. Просто грянуло такое строительство подводных лодок, что практически всех нас расписали по конкретным экипажам. Одни лодки уже плавали, другие еще строились. И разница была лишь в том, кого – на Север, кого – на Дальний Восток.
До окончания училища никаких особенно запомнившихся разговоров с нашим командиром роты больше не припомню.
Другое дело – после. Моя офицерская военно-морская служба длилась не очень долго, и жизнь покатилась по совсем иным рельсам, но среди того, что все-таки оставалось и в душе, да и в не прекращающихся отношениях от недавнего прошлого – была семья севастопольских, а затем и ставших московскими Бревернов. Это были – Владимир Эдуардович, его жена Нора и их сын Андрей, который и родился-то в феврале пятьдесят девятого – через несколько месяцев после того, как наша полурота очутилась в Севастопольском училище.
Отношения моего бывшего командира роты с моим дядей продолжались после моего выпуска уже независимо от меня, более того – бывало так (и это длилось не месяц-два, а иногда даже и до года), что оба мной бывали недовольны. Недовольны и тем, что я пишу, и тем, из чего вообще состоит моя жизнь, и… Да мало ли еще чем. Но потом все как-то успокаивалось. Дядька был строг, но в конце концов отходчив. Пачка писем к нему Владимира Эдуардовича, напомню – идеальный, удивительный почерк – теперь у меня. Помню дядину реакцию на известие о том, что Владимира Эдуардовича выпирают в отставку.
– Не ведают, что творят, – сказал он. – Такого офицера…
В феврале 1983 года, прожив меньше недели после того дня, когда ему исполнилось восемьдесят, на операционном столе дядя умер. То, что это произошло в Крыму, для меня почти символично.[21]21
Крым для нашей фамилии место не чуждое. И не только потому, что автор этой книги закончил свои путешествия по военно-морским учебным заведениям Севастопольским училищем подводного плавания, а еще и потому, что дед моего отца и дяди, то есть мой прадед – генерал-лейтенант по адмиралтейству Павел Константинович Глинка (1844–1902) был председателем Севастопольского военно-морского суда, а его двоюродный брат – Волыно-Подольский губернатор Василий Матвеевич Глинка (1836–1904) был 18-летним юнкером во время обороны Севастополя (1854) на той же артиллерийской батарее, что и Л. Н. Толстой.
[Закрыть]
XX
Некоторые штрихи биографии моего севастопольского командира роты я узнал от Андрея, его сына, только через несколько лет после смерти его отца. Андрей, я видел его младенцем, сорокалетний, а потом уже близкий к пятидесятилетию, одолеваемый несколькими серьезными недугами, присылал мне разные сведения… теперь, новое время, новая, отдающая виртуальностью реальность, – присылал мне файлы по истории своей семьи. И фотографии. Из присланного слагался объемно некоторый фильм. Пожалуй, даже сюжетный.
Отец Владимира Эдуардовича, молодой офицер из прибалтийских дворян, в предреволюционные годы сразу же отмечен и отличен в боевых условиях Первой мировой. С первых же дней после революции, как инициативный, грамотный и, вероятно, уже уверенно и твердо принявший сторону новой власти командир, он за несколько первых лет после 1917-го делает необыкновенную, даже по революционным меркам, военную карьеру. Но проходят 1920-е, идут 1930-е, и вокруг меняется все… Меняется внутренняя политика, становятся другими понятия о чести, представления о заслугах. Набирает обороты так называемая чистка кадров. И уже нет никаких общих ценностей, отношения между многими людьми начинают приобретать характер сбора компромата, и тут в ход идет буквально все… Начинаются страшные года конца 1930-х. Есть целые прослойки общества, где речь идет уже не о достойной службе, не о сохранении имущества, должности или заработка, а о попытках попросту сохранить жизнь. Человеку, образом жизни которого всегда была самостоятельность, а таков был отец Владимира Эдуардовича – Иоганнес-Эдуард, места остается все меньше. Стремительный карьерный рост в первые годы после 1917-го теперь для многих если и не оборачивается, то уже реально грозит волчьими ямами политических репрессий (они же зачастую, если и не чаще всего, индивидуально-мстительные). Отец Владимира не может не понимать происходящего – круг сужается. Идут 1937-й, затем 1938-й годы. Вероятно, да нет, не вероятно, а наверняка он живет при постоянном чувстве близкой опасности. Психика его уже не может оставаться здоровой. Ночами, стоя у двери, он слушает звуки на лестнице. Должно быть, именно это страшное ожидание в конце концов и приводит его, привыкшего в своей жизни к решающему все проблемы поступку, к ужасным выводам. Ведь чего он, никогда ничего не боявшийся, боится сейчас? Что его арестуют? Что его, в конце концов, убьют? Но смерть пугает его значительно меньше, чем… Чем что? И отвечает, чем знать, умирая, что оставляет в этой жизни, которая уже и не жизнь, свою жену… Лучше уж…
И дальше можно лишь предположить тот омут психики, в который погружается мятущаяся душа в обществе, построенном так, как оно было построено у нас к концу тридцатых. И тут я позволю себе процитировать фрагмент того материала, что получил в письме из Москвы от Анд рея Владимировича Бреверна – сына своего бывшего командира роты в Севастопольском училище. Письмо свежее – май 2017 года. В нем явно сквозит исповедальность. Быть может, это потому, что сам пишущий это письмо в свои пятьдесят с небольшим находится сейчас в ожидании операции – сердце, сосуды… Я понимаю, что не щажу его, едва стоящего на ногах, своими вопросами. Заставляю колотиться, раскачиваю его и без того больное сердце. Но, во-первых, Андрей сам выразил желание увидеть строки, дающие представление о личности его отца, а во-вторых, он (и это более чем понятно) желал бы как последний и, возможно, теперь уже единственный из их семейной ветви Бревернов[22]22
Не будучи ни специалистом, ни даже достаточно опытным дилетантом в области генеалогии, автор не считает для себя возможным делать результирующих заключений по поводу родословных обстоятельств, составляющих историю данной фамилии.
[Закрыть] (или Бревернов-де-Лагарди[23]23
Смотри содержание предыдущей сноски, которое автор считает необходимым в данном случае сделать еще вдвое более осторожным.
[Закрыть]), кто может что-то и достоверно помнить, и что-то сказать, и проконтролировать написанное. И я, как автор этой страницы, безусловно его понимаю. Да и как иначе? Речь идет о его отце.
Рыжий младенец, которого я, будучи уже взрослым, видел пятьдесят восемь лет назад в детской коляске, вдруг сравнялся возрастными проблемами со мной – человеком предыдущего по отношению к нему поколения, более того – стал уязвимей. У меня появилось ощущение, что его просто обгладывают воспоминания. Приведу из этих страниц два отрывка. Андрей, иного быть не могло, мучился, когда это писал:
«Папа рассказывал, что в доме, где они жили, в 1938–1939 каждый день, каждую ночь, арестовывали кого-нибудь из бывших офицеров. Часто слышались выстрелы – бывало, что отстреливались и застреливались, потому что знали – все равно убьют или замучают в застенках. Дед начал страшно пить. По ночам, когда чекисты приезжали за соседями, он стоял с браунингом у двери и все время повторял «восемь им – девятую себе». В нетрезвом состоянии был страшен. (…). Однажды, в ту роковую ночь, стал душить жену. Папа говорил, что «…язык уже вываливался, и мать хрипела. Андрюша, я несколько раз ударил его финским ножом (…)…Потом я прибежал в милицию, воткнул окровавленную финку в стол и сказал – дождались??? Сколько раз я вас просил – помогите, уймите его…
Я думаю, до дедушки просто не дошла очередь по линии репрессий…»
За этот поступок Владимира не судили, судили его за другой – когда он сделал попытку убить провокатора (1941 год), пытавшегося шантажировать его тем, что, зная немецкий язык, Владимир читает сброшенные с самолетов немецкие листовки. В лагере, куда Владимир за это попал, он заболел тяжелой формой дизентерии, к тому же почти сразу стал мишенью злобы и мести уголовников, с которыми не поладил и был уже намеченной ими жертвой. Спастись ему помог только совет бывалых зэков, которые дали знать о готовящейся расправе начальству лагеря. Дальше опять текст письма Андрея, сына моего командира роты.
«…Его (то есть отца. – М. Г.) вызвало начальство лагеря, и там состоялся следующий разговор (пишу со слов отца).
– Бреверн, ты тут скоро загнешься – вон, еле ноги таскаешь от дизентерии, без ведра шагу ступить не можешь, 38 кило весу в тебе… Но за тебя попросили военные, некто – Кац. Мы тебе предлагаем следующее. Если согласишься, сегодня вечером вот в этом месте ограждения «колючки» (ткнули пальцем в карту на столе) будет дырка. Добираться до этого места будешь, когда стемнеет. Полезешь в дырку. Мы тебя высветим прожекторами и откроем огонь (в тебя не попадем), поймаем и потом перед всем строем будем судить. Приговор тебе будет – штрафбат. Пойдешь на фронт. Там еще, может, и уцелеешь, а здесь тебе все одно – скорый конец. Вот это все, что мы можем для тебя сделать по просьбе Каца. Согласен?
– Согласен.
Вот так все и произошло. Насколько мне известно, мой дед и Кац – дружили. В приложенной фотографии (я, как мне помнится, Вам ее показывал, Вы еще обратили внимание на лица…), в первом ряду сидят мой дед (в центре) и Кац слева от него (в очках). Так что этому Кацу моя семья обязана в определенном смысле… Я пытался разыскать на просторах интернета его потомков, но – безуспешно.
Ваш Андрей
Хотелось бы с Вами повидаться перед операцией, но это, по ряду причин, вряд ли возможно. У меня большие риски (из-за венозной недостаточности). В молитвах прошу Бога, чтобы я остался дееспособен, и надеюсь на это».
Лотерея, но все же не смерть от дизентерии и не перерезанное бритвой горло. И он полез под проволоку, попал в штрафбат, а затем сжег огнеметом, рискуя всякий раз превратиться в факел, четыре ДОТа. Из сорока огнеметчиков уцелел он один. За это его освободили из штрафбата и даже дали медаль «За боевые заслуги». Потом, подо Ржевом, напоролся на немецкую противопехотную мину – тяжелая контузия, вынесло половину зубов.
После лечения была летная школа – но не выдержал центрифуги.
А потом все же, как хотел, попал на флот матросом. Служил на Севере. Встречал караваны PQ, Мурманск, Полярный, Ваенга. В 1945–46-м был в Германии, его использовали как переводчика. В училище поступил уже после войны.
XXI
Я бывал у Бревернов не всякий раз, как приезжал в Москву, но все же так, что мы были обоюдно в курсе жизненных обстоятельств – они моих и дядиных, пока он был жив, я – их передряг. А без передряг не обходилось – Владимир Эдуардович хоть и носил теперь пиджачную пару, оставался, как мне кажется, до конца жизни только офицером. И на стене в его комнате висела старая рапира. Не спортивная с шариком вместо острия, а настоящая. Сказать, что к постоянной жизни в Москве Бреверны после Севастополя не приноровились – тоже нельзя. В Москве все разнообразней, доступней и легче, чем не в Москве. Но… Но чего-то им – и ему, и Норе – стало явно не хватать. При этом – главного. Возможно, будущего.
Однажды, заехав к ним, это было, наверно, уже в начале 1980-х, я не увидел рапиры на том месте, где уже привык ее видеть, и спросил о ней.
Нора загадочно усмехнулась.
– Видишь, – сказала она, повернувшись к мужу, – я ж тебе говорила, что все помнят. Ну, расскажи Мише… И об этой чарующей детали…
И я услышал о том, как к ним в квартиру проник ночной вор, считая, видимо, что в квартире никого нет, и как Владимир Эдуардович, которого стала мучить бессонница, услыхав шорохи в дверном замке, снял со стены рапиру и ждал гостя, не зажигая света, и включил свет лишь тогда, когда пришелец уже был в прихожей, и как вор уползал затем из квартиры на коленях и мой бывший командир роты ткнул его рапирой на прощание в зад. «Чарующей» же деталью, о которой сказала Нора, была, оказывается, операция промежуточная – поставив гостя в «коленно-локтевое положение», Владимир Эдуардович вдруг приказал тому вывернуть все карманы. И на пол посыпались какие-то ключи, отмычки, документ какой-то…
– Понимаешь, – отчужденно и глухо, словно не о себе, сказал мой командир роты, – бессонница. Голова никакая. Понимал только, что нужен завершающий штрих.
– Я, конечно, проснулась, – совсем не смеясь, сказала Нора, – но уже тогда, когда Владимир закрывал дверь за этим парнем. И когда он мне все рассказал, вдруг смотрит на меня как-то озадаченно и говорит – а если этот тип около нашего дома сейчас упадет? Придут-то к кому? И мы сразу собрали все, что тот на пол из карманов выложил, и Володя выбросил это в форточку. У нас зимой под окном сугроб. А утром и рапиру куда-то унес.
Мне показалось, да что там показалось, ясно было, что Нора чего-то от меня ждет. Ждет какой-то реакции на услышанное, возможно, шутки, и, конечно, чтобы поддержал… А мне вдруг чуть не до того, что перехватило горло, стало обидно за своего командира роты. За то, что жизнь опять и опять, возможно, готовила ему, такому нестандартному – свою примитивную ловушку в каком-то очередном из своих, видимо, бесчисленных вариантов унижения. А что хорошее тут могло его поджидать? Это его, с его биографией?
Но я тут даже не про это. Не про рапиру с ее в данном случае особым применением, а все о том же – о том, что раз за разом эти прыгучие тени судьбы, готовые стать роковыми, не унимаясь, продолжают и продолжают скакать вблизи моего бывшего и давно уже немолодого командира роты. Их будто тянет к нему, тянет вцепиться именно в него, в его жизнь, теперь уже внешне такую спокойную и гражданскую. Но почему? Почему именно на него идет такая облава этих спецслучайностей? Возникали бы они, скажем, в транспорте или в магазине, так можно бы было предположить какой-то объяснительный повод – допустим, дерзкие бреверновские глаза, особые какие-нибудь феромоны его индивидуальной биологии? Но почему именно к нему лезет ночью квартирный вор? Будто приглашает участвовать в какой-то заранее заданной игре – цель которой… Так, может, она и достигнута? Но кем?
«Угораздило же меня…» – писал Пушкин.
Владимира Эдуардовича угораздило родиться с несомненным, наследственным даром офицера и психолога – как бы иначе, не имей он такого дара, удалось бы ему вылечить нас, пятикурсников, уже не верящих никому и оскорбленных за все то, что получили за свое честолюбивое стремление стать кораблестроителями? И это еще после всего, что досталось на этом свете ему самому. Но в сравнении с нашим севастопольским сюжетом это противостояние заурядной ночной уголовщине так, видимо, трансформировало в его сознании и без того уже скукожившийся горизонт его существования… А тут еще этот почти опереточный сюжет с холодным оружием, не прадедушкиным, но оказавшимся таким ложащимся в руку в этой ночной ситуации… И, случись что дальше, конечно, пришлось бы оправдываться, если вообще не попасть под суд… Хотя за что? За что, действительно? И получалось, что за все. За то, что жизнь, не унимаясь, продолжает испытывать его на изгиб и на излом. Даже в гражданском уже, и в столичном, как будто, быте. И в этой жизни к нему, почему-то именно к нему, будто мало ему в жизни всего досталось, чуть не в постель лезет уголовник. Но, отстояв свое жилище, он спохватывается и… И избавляется, но от чего? От лежащего на полу в прихожей содержимого карманов ночного вора. И еще – и это почти символика – того, кажется, уже последнего из предметов, связывавших его жизнь с прадедушками, что жили за несколько поколений до него…
– Ну, она хоть не фамильная? – спросил я.
– Да нет, – ответил он, понимая, что я спросил о рапире, и мне показалось, что Нора бросила в его сторону быстрый и вопросительный взгляд. – И даже не дореволюционная, – добавил он.
Но даже тогда я не знал еще и половины того, что впоследствии рассказал мне его сын. О попытке вербовать отца в доносчики, о штрафбате и лагере, об огнемете и караванах PQ.
Но проблемы его гражданской жизни мельчали, как мелело – может, то знак вовсе не несчастья, а как раз преддверие некоего очеловечения – мелело время. И ту рапиру, которую мой командир роты куда-то окончательно унес, заменили… ее гравированные на красномедных пластинках изображения. Да, именно изображения. Когда в очередной раз, и до этого раза опять прошел, может, год, а может, и два-три, я опять появился у Бревернов – он подарил мне очередную красномедную пластинку. Изображение было несколько иным, но изображаемое – тем же.
Да, в Москве, и это было очевидно, наш командир роты оказался в кругу проблем и положений совершенно иного типа, чем те, что он решал когда-то в Севастополе. И, приходя с работы, он гравировал медяшки.
– Отправить в отставку такого офицера?! – вспоминал я слова своего любимого дядьки. – Офицера с такими качествами командира?? Он же ведь в вас душу вдунул!
Остается добавить, что удалось ему это (я здесь про душу) в те короткие месяцы, что нам до выпуска остались.
И наш командир роты – тут я наверно повторяюсь – был, стал, явился – той особенной личностью, если не тем специнструментом, который в той ситуации, возможно, единственный и смог решить эту элементарную головоломку. Возможно, на горизонте опять оказался какой-нибудь из давних и чудом уцелевших друзей его отца, быть может, ему самому удалось достучаться до кого-то из военную власть имущих. О том, чего ему для нас удалось добиться, уже было сказано выше. Нам, оказывается, и нужно-то было чуть больше свободы. И всего-то. И мы это получили из его рук. И это казалось нам небывалой победой. Следствием такого рода льготы является управляемость.
Но для разумного решения даже в самых экстремальных ситуациях порой и требуется-то сущая малость. Вспомним кренящуюся палубу «Новороссийска» и неподвижно стоящий на ней строй матросов, ожерелье спасательных судов вокруг и берег в ста метрах, до которого большая часть этих чего-то ждущих ребят никогда не доплывет.