Текст книги "Босфор"
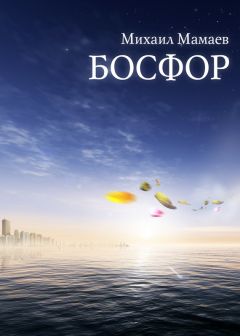
Автор книги: Михаил Мамаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Когда запутываешься на столько, что выпутаться уже нельзя, остается делать вид, что тебе и так хорошо.
А может, не делать вид, а действительно изо всех сил радоваться, хотя бы тому, что просто жив.
Я подумал о Ламье, о Наташе, о Жане, о Нике с Халюком, о Тунче, о Жале, о Марусе…
Они храбрятся.
Улыбаются как можно чаще.
Сыплют направо и налево шутками.
Делают вид, что жизнь прекрасна.
На самом деле, это они все время тренируются.
Как упорные жизнелюбы-силачи со своими гирями.
Только гирями им служат счастливые выражения лиц.
Мне стало их безумно жаль.
И в первый раз в жизни я заплакал.
Глупые слезы поднимались из глубины и расплавляли, разъедали родной кусочек олова со штыком…
10
Я жил с Ламьей еще неделю.
Мы почти не разговаривали, не выходили из дома, не отвечали на телефонные звонки. Каждый понимал, затишье означает лишь, что время переводит дух, прежде чем рвануть вперед и разметать, растоптать наш карточный домик. Парадокс – пока мы жили в нем, он был незыблем, как английский Пуританизм или Антарктида. И выйти из него было страшно.
Теперь каждый из нас как бы собирал вещи.
Неистовство продолжалось.
Мы часами барахтались в постели.
Я что-то бормотал, смеялся, кричал, ругался…
Каждый раз готов был уйти навсегда.
Не хватало решимости.
Как будто за спиной включали компрессор, затягивавший в прошлое.
Замирал в дверях, ощущая спиной, словно огромным безумным глазом и ухом в одном лице, как Ламья затаила дыхание.
Как светлый локон дрожит у порозовевшей щеки.
Как длинные пальцы нервно теребят пуговицу халата.
Как не привлекает ничьего внимания забытая мною книга на трюмо. Кажется, Селинджер, или Хемингуэй. А может, Довлатов или Ремарк. Но только не Гессе или Кафка. И уж тем более не Коэльо или Ричард Бах…
Как накаляется добела уголек сигареты в припухших зацелованных и зашептанных губах, озаряя лицо бледным светом переживания.
Занавеска парила в окне, ловя малейшее движение воздуха и настроения.
Телефон из последних сил сдерживал желание мира услышать голоса, живущие в этой квартире.
Его резкий зуммер мог разорвать чье-то сердце.
И я чувствовал, как покачивается карточный домик.
Однажды – не знаю, что на меня нашло – взял тряпку и стал мыть полы, пылесосить ковер, вытирать пыль. И даже вымыл окна.
Ламья смотрела, как в цирке ребенок смотрит на животное, выполняющее трудный трюк. Но я работал без дрессировщика. Любой дрессировщик, возникни он рядом, был бы немедленно разорван в клочья.
На следующий день ушел.
Когда взялся за ручку двери, над головой разлетелась тарелка.
Обернулся.
Ламья стояла посреди комнаты, неподвижная, как соляной столб.
Не хотел делать ей больно. Видит Бог, мне самому было скверно.
Подобрал два небольших осколка. Один положил на полочку у двери, другой сунул в карман. Как на съемочной площадке в первый день. На счастье. Хотя какое уж тут счастье?!
11
Вернулся в бар и поселился наверху, в подсобке. Омер-бей позволил работать во все дни недели, только за меньшую плату. Персонала и так было достаточно.
Отношение ко мне в Мимозе изменилось. То ли ребята обижались, что иностранец отбивает хлеб. То ли осуждали, что живу на грязном матраце, как фанатик-революционер или бомж.
Я уже бойко болтал по-турецки. Но в одиночестве сам с собой говорил по-русски. Это делало меня сильнее.
Несколько раз навещал Жан. Выпивал у стойки стакан рома или виски.
Забегала поболтать Маруся.
Однажды днем увидел Ламью. Она разговаривала с Омер-беем.
Ламья предложила Омер-бею сделать эротик-шоу.
– Опытная девочка, – сказал он, когда она ушла. – Год работала в Гамбурге стриптизершей. Думаю, сделает хорошую программу.
Это было новостью. Ламья не рассказывала мне про стриптиз в Гамбурге.
Ламья набрала девушек. Целый месяц репетировали по утрам, с восьми до десяти, когда в баре никого не было.
Премьеру назначили на 1-е апреля – Праздник весны. Ближе к назначенному дню Омер-бей разослал приглашения.
12
В день премьеры улицу перед входом запрудили машины. Образовалась глухая пробка. Пришлось вызвать дорожную полицию.
У дверей столпились цветочники. Аромат весенних цветов был так силен, что казалось – бар Мимоза переделали в цветочный магазин.
Мы перемыли стаканы, надраили стойку, нарезали горы морковных палочек, надавили такое количество лимонного сока, как если бы собирались растворить в нем пол Стамбула.
Загремела музыка.
Лучи прожекторов заметались по залу.
Подошел Дениз. Он сладенько улыбнулся. Как мешок сахара высыпал на голову. Попросил налить виски.
– Ты не слишком серьезен? – спросил он.
– Я сосредоточен. Это самые ответственные секунды для меня в эту ночь.
– А ты верен новой профессии, – промурлыкал он, словно ему в глотку загнали электрический вибратор. – Или я тебя совсем не удовлетворяю? В смысле, мало плачу?
– Просто мне нравится видеть, как люди напиваются и начинают нести вздор, – ответил я.
Маруся держала под руку Мурата. Я взглядом указал на вход. Там стоял Жан.
– Ерунда, – по-русски крикнула Маруся. – Сделай-ка нам с Муркой по пятьдесят граммов моей любимой.
Я налил водки.
Маруся выпила и поволокла Мурата к танцевальной площадке.
Жан подошел к стойке с двумя парнями.
– Вот, лучший бармен в Стамбуле, – представил он меня. – Тоже из России.
Ребятам было лет по двадцать. Они мило улыбались и таращились по сторонам, как девицы на выданье.
– Очень хорошие художники! – крикнул Жан. – Угадай, где я их нашел?
– Где?
– На Гранд-базаре!
– Милые мальчики, – сказал я, чтобы доставить Жану удовольствие.
Он понял по-своему.
– Можем поехать куда-нибудь, когда здесь закончится.
У Жана был зарезервирован стол. Он взял друзей под руки и повел к месту.
Он был похож на пингвина.
За одним из столов я разглядел Жале. Она кокетничала с молодым человеком в костюме-тройке, не выпуская его руки. Кажется, она сама расплачивалась за коктейли.
Я приготовил фруктовый коктейль с водкой, как любила Жале, и послал ей.
Официант объяснил, от кого угощение.
Жале благодарно помахала рукой.
В два красные прожектора осветили зал.
На сцене появились четыре фигуры.
Три из них были по пояс голые.
Сплошь выкрашенные золотой краской, они напоминали цацки ацтеков…
Прожектора обожгли обнаженные женские торсы, превратив в солнечные зайчики, такие яркие, что трудно рассмотреть без темных очков…
Я почувствовал странное беспокойство.
Так бывает.
Сердце вдруг собьется с обычного ритма.
Тело превратится в пружину.
И рука потянется к ножу или пистолету…
Без причины.
Одна из танцовщиц была одета в смокинг и играла в мужчину.
В смокинге на голое тело.
Я ее узнал.
Танец Ламьи кричал:
Миром правит мужская похоть.
Мужчина, хочешь власти?
Стань женщиной!
Женщина, хочешь власти?
Будь мужчиной!
Красивое тело – золото!
Заставь хотеть себя и получишь власть…
Это алхимия успеха!
Зал ревел от восторга. Танец был про них.
Вдруг у одной из девушек рассыпались длинные русые волосы. Она тряхнула ими и стала похожа на золотую ведьму.
– Наташа! – вскрикнул я.
Танцовщицы кинулись в зал. Люди расступались, освобождая дорогу для танца. Тут и там щелкали фотоаппараты газетчиков.
Все перестало существовать для меня. Осталась одна Наташа. Она двигалась, как огромная золотая кошка, легкая и каждый миг готовая к прыжку. Обильный макияж пытался спрятать Наташу от меня. Его сделали с расчетом, чтобы танцовщицы выглядели на одно лицо. Как близнецы или куклы.
Появилось странное чувство. Как будто этот танец о моем будущем. Он намекал, что жизнь – это лица, лица, лица, бесконечная пляска масок, среди которых затерялось одно лицо, главное. Оно предназначено только тебе, независимо от глобального потепления и отношений сербов с хорватами, от того, упадет когда-нибудь Пизанская башня, и одолеет ли человечество СПИД… Предназначено как величайшее благо и величайшая кара. Оно всегда где-то поблизости, это родное лицо, вне зависимости, хочешь ты или нет, и есть ли силы признаться, что без него уже не можешь… Чем быстрее признаешься, тем в меньшей степени успеешь свихнуться.
Наташа собрала волосы и снова стала как все. Девушки двигались так стремительно, что я то и дело терял Наташу. И находил, только уже не был уверен, что это она. Как будто со мной играли в наперстки моим будущим. Выиграть было нельзя.
– Что ты делаешь? – крикнул я. – Ты себе здесь все испортишь!
В Турции было так: если ты манекенщица, лучше не участвовать в эротических шоу. Могут перестать давать работу и даже выгнать из агентства, если агентство престижное. Наташа это знала.
Тем временем танцовщицы уже двигались перед стойкой.
Мужчины ревели, как будто им только-только объяснили, зачем они нужны, а потом сразу же оскопили. Женщины снисходительно посматривали на них и делали вид, что тридцать минут назад сами танцевали что-то подобное, только в сто раз лучше.
Вдруг одна из девушек легко вспорхнула на стойку, схватила меня за фартук, сильным движением притянула.
– Наташа, – пробормотал я. – Что ты делаешь?
Она не выпускала. В этом неистовом жесте бушевали и ненависть за предательство, и страстное желание быть с мужчиной, и готовность все забыть…
Краем глаза заметил, что один фотограф пристроился и навел фотоаппарат. Рванулся к нему и оттолкнул. Желая удержаться, он схватился за мой фартук. Не успел я и глазом моргнуть, как он уже щелкал, щелкал, щелкал.
Наташа позировала верхом на стойке. Она откинулась на руки, бесстыдно повернулась голым торсом к камере и смеялась. Она была пьяна.
Я кинулся к фотографу. Он отскочил и умудрился запечатлеть мой выпад. Тогда, ослепленный в прямом и переносном смысле, ударил его в лицо. Камера грохнулась на пол. Прежде чем кто-либо успел сообразить, я схватил ее, вырвал пленку и швырнул о стену. Фотограф заорал, бросился на меня, но я ударил его снова.
Люди стояли плотным кольцом. Никто не собирался вмешиваться. Я не удивился, если бы они расторопно подставили стулья и расселись, чтобы не мешать смотреть тем, кто сзади.
Вспышки не прекращались. Фотографы продолжали работать. Как будто драка была частью танца. Это окончательно взбесило.
Я стал кидаться на вспышки.
Бык в кольце арены.
В корриде, где убивают, не позволяя умереть.
Удар сзади бросил не пол.
Второй, третий…
Били ногами.
Сгруппировался.
Когда удары прекратились, попытался встать.
Охранник Хасан снова ударил.
Дубинкой в висок…
13
Меня учили, что физическая боль помогает справиться с моральными страданиями. Может и помогает, но не мне.
Лежал на кушетке в холле у Ламьи и страдал от вины. Казалось, в мире нет человека, перед которым я не был виноват… В такой ситуации либо переделаться в женщину и отдаться в сексуальное рабство самому невежественному и кровожадному африканскому племени, либо застрелиться…
Внезапная мысль поразила. Если они станут рыться в вещах и найдут пистолет, мне крышка.
– Где мои вещи? – спросил, превозмогая разрывающую голову боль.
– В прихожей, – сказала Ламья. – Их вышвырнули вместе с тобой. Твое счастье, что обошлось без полиции.
Принес чемодан.
– Мне надо побыть одному.
Ламья пожала плечами и вышла из комнаты.
Достал из штанов ключ и отпер замок. Я никогда не оставлял чемодан не запертым. Даже во времена совместной жизни с Наташей.
Немного одежды, туалетные принадлежности, несколько дорогих сердцу вещей: конверт с детскими фотографиями, потертый дневник, сборник стихов Константина Симонова, любимого поэта отца. Сухой лист подорожника между страниц с его могилы. Это талисман. Я повсюду возил его, еще с Афгана.
Пистолет оказался на месте. Холодный темный ствол было приятно прижимать к раскаленному лбу. Проверил предохранитель и положил пистолет обратно. Достал чистую рубашку и белье, запер чемодан.
Ламья принесла поднос с чашкой горячего куриного бульона, пирожками и белым сыром.
– Поешь, – сказала она. – И все пройдет. Тебя осмотрел врач. Легкое сотрясение мозга.
– Где Наташа?
– Дениз увез. Она была очень пьяна. Лезла драться с Хасаном, грозила взорвать за тебя Мимозу. По вашей милости мою программу, закрыли.
– Куда увез?
– Не знаю.
Позвонил Жале домой. Никто не ответил. Тогда позвонил Денизу, но телефон был отключен.
В агентстве трубку сняла Шермин.
– Дениза нет и не будет. Сегодня ночью он устраивает традиционный праздник – Ночь Любви. Заказан катер…
– Все же я еще позвоню.
– Позвони, Дениз всегда рад тебе. Ты же знаешь, он тебя любит…
– Поешь, пожалуйста, – попросила Ламья.
– Скажи, только честно, зачем тебе понадобилось втягивать во все это дерьмо Наташу?
– Тебе не понравился номер?
– Отвечай.
Ламья подошла к окну. Ее темный силуэт едва вырисовывался на сером фоне погасшего неба.
– Не знаю, – наконец сказала она.
– Это не ответ.
– Честно, не знаю. Когда ты ушел, я подумала, жизнь кончилась. Да, Никита, я такая дура!
Села в машину, поехала на море, на мое любимое место. Мы гуляли там с тобой…
Мне было одиноко! Хоть вешайся. Еще этот маяк. И корабль на горизонте…
Ничего не изменилось. Как будто прошло лишь мгновение! Одно мгновение, за которое мы прожили целую жизнь. И эта жизнь отняла тебя у меня. Но ведь ты не исчез. Где-то ходил в это время, разговаривал, на кого-то обращал внимание, о ком-то думал…
Я захотела увидеть Наташу. Меня потянуло к ней, как к тебе, как к части тебя. Или, наоборот, как будто это я была частью тебя…
Мне кажется, я потеряла себя. Что смотришь? Жалеешь? Не надо.
Иногда я счастлива, как тебе и не снилось. Так бывало и раньше. Очень часто. Приходила в восторг от своего тела, от того, как оно чувствует. Но с появлением тебя что-то сломалось. Поначалу считала, во всем виновата Наташа. Ты слишком привязан к ней, чтобы целиком принадлежать мне. Потом поняла – дело не в тебе.
С тобой я стала другой. Мне стало хотеться быть сильной. Не смотри так. Ты хороший, мне было очень хорошо с тобой! Просто однажды позавидовала тебе. Вдруг подумала, это счастье – обладать женщиной. У меня никогда такого не было. Вот и потянуло к Наташе.
Я люблю тебя. Но ты не свободен. Не от Наташи. От самого себя. А я свободна. И мне нужен такой же свободный человек. Чтобы он был мужчиной только, когда я этого хочу. А если мне нужна женщина, чтобы он был со мной женщиной.
Если бы ты мог понять!
И измениться…
Я протянул руку и нащупал выключатель. В комнате стало светло.
В темноте разговаривать легче. Но опаснее.
– Послушай, – сказал я. – Можешь оказать мне еще одну услугу? Отвези к Денизу. Наташа там, я чувствую.
– Тебе надо лежать. Так сказал врач. После сотрясения, и с таким лицом.
– Ты же не станешь возить меня головой по лестницам и заставлять целовать ступени. Поехали, милая, поехали!
Мы напрасно потратили время. В квартире Дениза никого не было.
– Уплыли, – сказал портье. – Час назад.
Вернулись домой.
Ламья постелила мне в холле. Принял душ, лег и погасил свет.
Заснуть не удавалось.
Где-то капала вода.
Тяжелые капли гулко ударялись о беспокойную, сотрясающую весь дом поверхность.
Возможно, это были мои собственные барабанные перепонки.
Время, подумал я.
Когда люди засыпают, то превращаются в животных и птиц, в рыб и деревья, в небо, море и землю.
В себя, растущих или, умирающих.
В других людей.
Это их Время.
Когда хорошие и дурные сны клубятся над городом, перемешиваясь в облаках тумана и тепла, становится слышно, как Время ходит по комнатам и смотрит на тебя из темноты…
Ламья сходила на кухню и завернула кран.
Время исчезло.
Вернее, спряталось.
– Ты не спишь? – спросила она.
– Нет.
– Можно лечь с тобой?
– Ложись.
Она принесла подушку, легла и прижалась ко мне.
– Спокойной ночи, – прошептала она.
Но я этого уже не слышал.
14
Решили искать Наташу порознь. Я остался дома. Нужно было обзвонить друзей и знакомых. Вполне вероятно, Наташа находилась у кого-то из них. А Ламья отправилась на Буюкодар. Шла неделя Байрана,[30]30
Мусульманский праздник.
[Закрыть] и компания Дениза могла задержаться на острове.
Позвонил Жале.
– Наташи не было уже три дня, – холодно сказала она. – А еще я хочу тебе сказать, Никита, – мне стыдно, что я приютила такого человека, как ты.
– Мне тоже есть что сказать, Жале, – сказал я. – Прекрасно понимаю, чем вызвано такое отношение ко мне. Это, конечно, касается маленького инцидента в баре.
– Ты называешь это маленьким инцидентом?
– Не совсем правильно выразился. Безусловно, это был позорнейший факт в моей биографии, пятно на всю оставшуюся жизнь! И прошу прощения.
– Хорошо хоть, что ты осознаешь, – сказала Жале таким тоном, что я подумал, уж не примеряет ли она там епитрахиль.
– Да, Жале. Но я буду тренироваться. И тебе не будет больше стыдно за меня. В следующий раз я так уделаю этого турецкого Бормана, что он забудет, в каком месте у него находятся мозги, если, конечно, он и так это знает. Привет Эсре!
У Жана дома работал автоответчик. Я наговорил на него все, что хотел спросить у Жана.
Дениз не отвечал.
Куда еще позвонить?
Около трех телефон зазвонил сам. Схватил трубку и услышал пьяный голос Дениза.
– Ты разыскиваешь меня, милый? – слащаво спросил он. – Очень рад. Как наши боевые шрамы?
– Где Наташа?
– А почему тебя это беспокоит? Вы же расстались. У тебя теперь другая женщина, вернее, возлюбленная, ха-ха!
– Где Наташа?
– Видишь ли, милый, она очень хорошая девушка, – ворковал Дениз, растягивая слова. – И характер у нее покладистый. Не то, что у некоторых. Что ты там делаешь? Занят, наверное. Стаканчики протираешь? А то присоединяйся к нашей славной небольшой компании. Пока не поздно.
– Она у тебя?
– Кто? Ах, да. А что?
– Да или нет?
На другом конце провода я услышал возню и голос Ламьи.
– Ее здесь нет, Никита, – взволнованно сказала она. – Полно мужиков и ни одной девушки. Приеду, и мы что-нибудь придумаем.
Прошло время.
Ламьи не было.
Начал волноваться. По моим расчетам ей давно следовало вернуться. Подождав еще час, решил отправиться за ней.
У пристани в Бещикташе пыхтел одинокий кораблик. Он лениво болтал под водой ластами, планируя вот-вот отплыть. Это был последний рейс. Я успел как раз вовремя.
Причалили к Буюкодару.
– Мы отправимся в обратный путь через полчаса, – сказал матрос у трапа. Он зажег сигарету, жадно затянулся и, не рассчитав, обиженно закашлялся. – Если хотите вернуться назад, пожалуйста, не опаздывайте.
Он говорил, глотая окончания слов и пряча прокопченное лицо в клубах табачного дыма.
Вернуться назад невозможно, подумал я. Но надо.
На портовой площади легко нашел свободный экипаж. Когда брал, казалось, получится быстрее. Ошибся.
Еле плелись. Надо было то и дело просить кучера, чтобы всыпал засыпающей лошади. Он что-то бормотал, изображал рвение, прикладывал бедолагу. Но через минуту засыпал сам. Тогда приходилось просить лошадь приложить кучера…
Времени оставалось в обрез.
Спрыгнул и побежал.
В голове звенело.
Каждый шаг больно отзывался в затылке. Как будто там бежал еще один Никита, размером с воробья. И на ногах у него были свинцовые ботинки.
Примерно помнил виллу, где праздновали Новый год. Но где ожидал ее найти, стоял дом, похожий на дом с привидениями. Только вместо привидений притулилась почта.
Нужный дом, оказался в другом месте, значительно дальше от пристани. Как будто его переставили. Или он сам переполз, как улитка.
Ворота были заперты.
Перелез через забор, прошелся по двору, заглянул в бассейн, спустился к причалу.
Угли в мангале еще теплые.
По газону разбросаны пустые бутылки.
На шезлонге ритуальные женские трусики.
Я приехал слишком поздно.
До отхода корабля пять минут.
Перемахнул через забор и побежал назад.
Кораблик был уже метрах в ста. На прощание дал два дразнящих длинных гудка.
Я отдышался, присев на чугунную цепь и наблюдая, как он нелепо удаляются.
Вдали пьяно долбили по роялю и капризно распевали по-турецки битлов.
Побрел по главной улице, не имея определенной цели.
Светились окна.
Вкусные запахи пищи пересекали улицу и плавно впадали в запах весны.
Весна чувствовалась повсюду.
За оградами домов цвели большие белые цветы. Они как будто вслушивались в ночь, расточительно расходуя аромат, крепкий, как ожог.
В зарослях происходило тайное движение, шевеление, брожение. Словно земные духи, устав от зимнего томления в холодной темноте невидимого мира, выбрались и выцыганивали у птиц ветки для гнезд, полуночных песнопений и любовных утех.
Одиноким окошком светилась часовенка.
Вошел и остановился перед алтарем. Никола Угодник был окружен сиянием, сделанным из серебра. И Святая дева Мария тоже. Их лица были темны и едва различимы в блестящем обрамлении. Зато Иисус, въезжающий в Иерусалим, был нарисован обычными красками и выглядел просто, как человек, решивший прокатиться на осле. Люди вокруг смотрели на него с удивлением, лица у них тоже были самые обыкновенные. Наверное, в тот момент они отличались от меня лишь тем, что были нарисованы.
В углу стоял стул. Сел, прислонился головой к стене. Голова болела, но вскоре прошла. Как будто выпил таблетку.
«Что же делать? – думал я. – Как выскочить из круга неудач и потерь. Когда, наконец, можно будет порадоваться, что жить хорошо, что люди вокруг значительно лучше, чем о них думал, и сам тоже?» Кто-то гладил меня по голове, рука была теплая и родная. «Мой хороший, – шептала Наташа. – Мой хороший мальчик. Устал?» Наташа несла меня куда-то на руках. Я хотел встать. Не потому, что Наташе тяжело. Боялся, что уронит. И не смотрел вниз.
Внизу простиралась пропасть. Оттуда звали незнакомые люди. Размахивали руками – мы видели бесконечное число рук. А лиц не видели.
«Почему ты называешь меня Наташей?» – спросила Наташа. Я посмотрел на нее и вдруг понял, что это Ламья несет меня в своих сильных мужских руках. Она улыбалась и говорила одними губами. «Что? – переспрашивал я. – Не слышу». Ламья смеялась и снова беззвучно говорила. Вдруг я почувствовал, что Ламья вовсе не женщина.
– Почему? – удивленно закричал я. – Ты же уверяла меня… – И не услышал собственного крика. Тем временем Ламья сильней и сильней сжимала меня. Понимал – вот-вот произойдет что-то страшное, непоправимое. Но вырваться не мог. Хасан держал меня. Охранник Хасан…
Сквозь сон я чувствовал, как холод берет в жестокие клещи, забирая тепло. Но не просыпался, понимая, что, если проснусь, то не засну. Тогда придется бродить по острову, и, как физкультурник, размахивать руками, чтобы согреться.
Кажется, дурные сны в церкви – недобрый знак. Церковь должна оберегать от кошмаров. Но злых духов собралось так много вокруг, что маленькая христианская часовенка просто была не в силах сдержать их натиск.
Только под утро приснился хороший сон. Приснился отец. Он провожал в дорогу, как будто я, мальчишка, куда-то впервые уезжал – то ли в поход с одноклассниками, то ли в пионерский лагерь. Отец просил быть осторожней. А я тем временем думал, как выложить из рюкзака половину вещей. «Зачем мне пять трусов? И пять пар носков? И два свитера? – думал я. – Всего же этого достаточно в одном экземпляре!»
От сна осталось тепло. Человеку нужно, чтоб о нем заботились. Пусть ему это иногда не нравится, и он даже сердится. Только если его этого лишить, он сразу осиротеет. Конечно, он постарается это скрывать. Особенно мужчина. Все мужчины внушают окружающим, что они сильны и независимы. И что принимают заботу только из одолжения. Но временами без этой заботы они чувствуют себя самыми несчастными в мире.
Я думал об этом, возвращаясь утром в Стамбул. В окна катамарана заглядывало солнце. Оно как будто улыбалось. И хотелось улыбнуться в ответ.
Все будет хорошо.
Я найду Наташу и все объясню.
Или она заглянет мне в глаза и сама все поймет.
Приму Наташу любую.
Я же люблю ее.
А для любящего нет в мире вещи, которую нельзя простить.
Ни одной.
Дело только во времени.
И в крепости твоего сердца.
15
Ламьи дома не оказалось. Я был уверен, что разминулся с ней.
Позвонил Жану.
Голос в трубке был кислый.
– Ребята меня надули. Взяли деньги на холсты и краски и сбежали. Я их так любил…
Жан ничего не знал.
Я растянулся на диване и не заметил, как уснул.
Когда открыл глаза, за окном темнело. Было без четверти шесть.
– Ламья!
Она лежала в спальне лицом в подушку.
– Что случилось?
– Не надо, – пробормотала она.
Принес воды.
Она привстала на локте и взяла стакан.
Я едва узнал ее.
Избитое, распухшее лицо.
Сплошной синяк.
Юбка изорвана в клочья, кофточка перепачкана грязью и кровью.
Колени разодраны, как будто таскали по асфальту.
– Кто?
Она не ответила.
Я взял ее за плечи:
– Одно лишь слово, прошу.
Ламья уткнулась мне в плечо и задохнулась в рыданиях.
– Дениз?
– И Дениз тоже.
У меня не было доверенности на машину.
Проскочить мост.
Дальше ерунда.
Под вечер у мостов над Босфором полиция останавливала машины и проверяла документы. Из-за взрывоопасной международной обстановки.
Всемирный терроризм по ночам не спит. Загрузив багажники взрывчаткой, он отправляется в дорогу. Из беспризорной Азии в страдающую авитаминозом Европу. По мостам через Босфор.
Проезжая мимо полицейского поста, я мысленно надел шапку-невидимку.
Детский прием, но в горах помогало.
Светящийся жезл в руке человека в форме сделал угрожающее движение вверх.
Я увидел ледяные зрачки автоматов и вспомнил, как замахивался гранатой.
Жезл поразмыслил и разумно уткнулся в лобовое стекло в потоке за мной.
Граната на глазах превратилась в гранат.
Повезло!
Дверь открыл Хасан.
– Ты что здесь делаешь, приятель? – спросил я, как ни в чем не бывало.
Хасан расплылся в мерзкой гримасе.
– Работаю. И отдыхаю немножко. Нельзя же только работать, правда? Как здоровье, русский?
Хасан приблизил рожу к моему лицу.
Пахнуло винным перегаром, потом и чесноком. Правильно. Если бы от моего друга распространялся запах гладиолусов или парного молока, я, пожалуй, каждый божий день чистил бы ему ботинки и рассказывал на ночь сказки всей его семье.
Мы вошли в квартиру.
Хасан остался у двери.
Дениз сидел в халате на голое тело и пил. На журнальном столике выделялась бутылка виски. Рядом сидел знакомый субъект в очках – Тольга. На сей раз пиджака с капюшоном не было, а была красная рубашка в клетку и голубые джинсы. Может, пиджак с капюшоном и стоял теперь недопитым на столе. У них ведь бывает – вилла есть, а выпить не на что. Тольга мирно спал в кресле, запрокинув голову и разинув пасть, словно собирался ловить нечто, висящее под потолком.
– Очень мило, что заехал навестить, – слащаво промурлыкал Дениз. – Хоть и без приглашения.
– Как же без приглашения, Дениз, когда ты меня вчера зазывал? – Я подошел к свободному креслу и сел, спиной к двери.
– Ах, ну да, я и забыл. Столько воды утекло за это время, столько всего произошло!
Дениз кокетливо заглядывал мне в глаза, словно там были экраны, на которых негры пердожопили негров.[31]31
Авторский неологизм, сгенерированный из сленговых слов – пердолить, т. е. заниматься энергичным сексом, и зажопить, т. е. застать за совершением чего-то негативного.
[Закрыть]
– Как она? – спросил Дениз, как ни в чем не бывало. – Или он? Даже не знаю, как лучше. Были жалобы? Блефует. На самом деле это обычно нравится.
– Она не жаловалась, – тихо сказал я.
– И правильно. А ты молодец. Ты ей так все… разработал, ха-ха! Ну не переживай, дружок. Все, что тебе надо, мы оставили на месте. Только немножко еще углубили, да, Хасан?
Живое приспособление для сноса небоскребов довольно зафыркало у меня за спиной, подражая веселому гулу воды в унитазе.
– Кстати, тебе не кажется, что искусственные сиськи лучше? – продолжал Дениз, смакуя впечатление, которое, по его мнению, он производил. – Эти силиконовые сиськи не отвисают и такие красивые! Кстати, если сравнить сиськи некоторых наших знакомых, то у Ламьи они самые классные, ты не находишь? Иногда мне хочется, чтобы и у меня были такие. А тебе, малыш, не хочется, ха-ха? Тебе они бы очень пошли, к твоему личику.
Я молча разглядывал пепельницу.
Он переспал с Наташей?
Врет.
Или…?
– Следует тебя проучить, но не кулаками, – мрачно сказал Дениз. – Ты распустился. Так и быть, дадим тебе еще одну попытку. Подумай, как жить дальше, если решил остаться в моем городе. Помни, если бы я захотел, ты давно бы назывался не Ники́та, а Никита́! А твоя девушка не кривлялась перед фотографами, а занималась приличным честным делом – продавалась по тридцать долларов в час в одном из наших «пансионов» на южном берегу. И благодарила судьбу, что жива. Это подарок для юных искательниц приключений, как по-твоему, Хасан?
Я взял стакан, налил виски.
– Извини, что не предложил, – сказал Дениз. – Выпьем за нашу дружбу, за ее углубление… Где мой виски?
– Вот он, – сказал я и на мгновение превратился в Марусю.
Дениз сморщился, заскрипел зубами, принялся растирать глаза.
В то же мгновение металлические пальцы Хасана схватили меня за волосы.
Я был готов.
Получай, верзила!
Бутылка вдребезги разлетелась, словно ударилась не о голову, а о кирпич или о стену.
Хасан схватился за лоб.
Фонтаном брызнула кровь.
Ошарашенный очкарик открыл глаза и с трудом воспринимал происходящее, не врубаясь до конца, наяву это или во сне, но на всякий пожарный делая вид, что он часть обивки кресла.
– Дерьмо! – прорычал Хасан, бросаясь с ножом.
Я выстрелил, целясь в лицо.
Хасан мешком рухнул на пол.
Минуты три он пускал пузыри в луже собственной крови.
Я повернулся к Денизу.
– Смотри, его больше нет. Ты остался без друга.
Дениз дрожал.
Подражая его неповторимой интонации, я попросил:
– Разденься пожалуйста, малыш.
Лицо передернула гримаса, как будто он зацепился глазом за невидимый крюк.
Он засеменил в спальню, на ходу снимая халат.
– За стол! – приказал я. – Пиши: «Я убил моего любовника Хасана за то, что он…»
– Не буду писать! – взвизгнул Дениз.
Стукнул его кулаком.
– «… убил Хасана за то, что он…, – написал? – … постоянно изменял мне с коровами, свиньями, лошадьми… Кошками, собаками… Хомяками… – Что остановился? Пиши!! – Хомяками. Последних он заставлял плясать, как дервиши, у себя в заднице под включенный на полную турецкий гимн… Высокие моральные принципы, непоправимо оскорбленный патриотизм и неизлечимое чувство вины перед замученными грызунами не позволяют мне жить дальше…»
– Бред! Неправда! Ты больной! Извращенец! Тебе надо в психушку!!! – завопил Дениз. – Не буду этого писать!!!
– Еще как будешь…
Замахнулся, чтобы снова ударить его.
В прихожей хлопнула дверь. Я рванулся к выходу, но было поздно. Очкарик сбежал.
– А ну-ка руки вверх! – раздалось за спиной. – Бросай пистолет, русская сволочь!
Поднял руки и медленно повернулся. Дениз стоял голый с пистолетом в дрожащей руке. «Если он не тренируется в тире, при выстреле рука прыгнет вверх», – подумал я, кладя оружие на ковер.
– Сесть в кресло! – крикнул Дениз, подбирая мой пистолет.
Замешкался, подыскивая, чем связать меня.
Я метнулся в сторону кухни.
Выстрел!
Со стены посыпалась штукатурка.
– Шайтан! Выходи! Выходи, сука!
Я взял хлебный нож, присел на корточки и, на долю мгновения показавшись из-за угла, где Дениз не ожидал, метнул.
Нож угодил рукояткой в глаз.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































