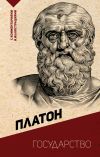Автор книги: Михаил Маяцкий
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
3. Платоновский опус Зингера
Книга состоит из трех частей. Главы пронумерованы внутри частей. Названия глав даются только в оглавлении, что довольно неудобно (но удобство для читателя – это ведь мещанская ценность). Уже вовсе неудобно, что примечания вынесены в конец и никак не отмечены в тексте. Читателю предлагается отсчитывать строки сверху или снизу, чтобы найти, к чему относится то или иное примечание. Первая часть книги посвящена Сократу и «сократическому» периоду включая «Пир» и «Федон». Вторая – разбирает «Политик», а третья – на фоне описания сицилийских приключений дает анализ остальных диалогов.
Какому читателю адресована книга? Какую задачу она ставит перед собой? Книга не предполагает никакого знакомства с Платоном и не знакомит с Платоном. Приглашает ли она читать диалоги? Нет. Знакомому с Платоном читателю Зингер сообщает, какой смысл или смыслы следует придать диалогам. При этом он не опускается до доказательств или обоснований, аргументируя исключительно к «целому», которое он постиг и которое ускользает от бесчисленных частичных интерпретаторов. Если же кто-то начнет знакомство с Платоном с книги Зингера, то будет удивлен, перейдя к текстам диалогов. Он обнаружит прежде всего колоссальную разницу в интонации. Книга выполнена в аподиктичном, царственном, часто высокомерном тоне, который воспринимается как стилистическая маска, имитирующая Платона, чтобы приблизиться к нему. Очевидно, однако, что регистр и диалогов, и отдельных персонажей (особенно Сократа) не имеет с таким тоном никакого сходства. Книга Зингера, по сути и независимо от осознанных и эксплицитных целей, стремится заменить Платона. Ибо первым врагом этого «целостного» прочтения окажется… сам текст Платона – поливалентный, пестрый, озадачивающий. Особое внимание Зингер уделяет мифам, которые с удовольствием и умело пересказывает. Как мифы склонен он толковать и вполне философские пассажи диалогов. Удивление вызовет и потрясающая разница в распределении акцентов. Зингеровский Платон предстает прежде всего евгеником тела и духа, обеспокоенным больше всего на свете происхождением и чистотой крови.
Если Зингер начинает свою книгу о Платоне (в которой «речь идет только о существенном» (25)) с напоминания, что «смысл и цель античного человека определялись не его целью, но и не произведением и не миссией, а происхождением» (3), то не для того, чтобы воспроизвести вслед за Виламовицем всю известную генеалогию и перечислить всю родню Платона, а для того, чтобы в противовес Виламовицу указать на «мифическую действительность высшего порядка» (4), состоящую в его царской и божественной, от Посейдона и Аполлона идущей, родословной. Платон стоял ближе, чем кто-либо другой, к богам, именно поэтому изгнанные из полиса «беспамятной толпой» (то есть демократией) боги находят прибежище у очага, хранимого для них Платоном, их потомком и основателем духовного царства (9), стать которым он был предназначен к тому же всем своим складом. Ему были чужды и чисто теоретический интерес к миру (свойственный Демокриту, Аристотелю), и деятельность любой ценой: благородное заключается в прекрасном досуге, который может быть прерван только во имя великого и особого свершения. Для него, однако, в Афинах было мало места. Наоборот, росло всеобщее смешение и неразбериха. Платон стал собирать друзей, убежденный, что нужно начинать с основания. Круговерти распада Платон противопоставил мифически представленный образ-гештальт Сократа и героический разрыв с властями этого мира. Зингер не скрывает своего антидемократизма, предка и основателя которого он находит в Платоне. Он с огорчением пишет о смещении тридцати тиранов «серой узколобой демократией» (5), а умудренного опытом, сплоченного кровью и обычаем ареопага – массовидной и лишенной памяти булэ (7). Античность постоянно отсылает в книге к современности и наоборот. В перикловых Афинах
происходит не тот распад, который обозначился с начала XIX века: там не абстракции и аппараты порабощают обескровленное существование, а из плотного сцепления сил в духе божественной нормы вырываются отдельные и отдельное со злобой голого позыва, с безграничностью голой мысли, питаемые еще плотской страстью к войне и агону, ревностью и завистью, ныне выродившимися в звериное. Одновременно иссякает благороднейшее достояние греческой жизни, высокая поэзия, и старые песни и праздники превращаются в бледные украшения и сентенции. […] Возникает то, что составит предмет зависти потомков, гордость современности: сама по себе музыка, сама по себе политика, само по себе исследование, сама по себе речь, ибо потерю единого, великого, хорошего должно восполнить обильное, пестрое, возбуждающее во всё убыстряющемся обновлении (8).
Платон не может не возлагать на Перикла ответственности за сползание полиса в кощунство и упадок. Именно из-за него сытость и безопасность превратились в конечные цели человека, а афиняне – в трусливый и болтливый сброд (отметим сходство с обычными антидемократическими инвективами в Веймарской республике). Перикл увлекся материальным, тогда как «Платон запрещал себе отделять управление государством от управления совокупным духом, как то кажется правильным, приемлемым и удобным людям Нового времени, и что противоречило греческому классическому духу. Nomos был одновременно государственным порядком и нормой ведения жизни, законодатель – мастером правильной жизни, а глава государства – ответственным образцом» (13–14).
Но это осталось бы благим пожеланием, не существуй воплощенного примера – Сократа. «Ничто фактическое не может породить действительно-истинное [ein Gültiges]. Но и никакая истинность не может войти в живое порождая и управляя, если она не воплощена в высоком образе» (15). По Аристотелю, Сократ вернул философию с неба на землю. Неверно: это уже сделали софисты. Его отличает от физиологов и софистов «не новое содержание мысли, а новый гештальт жизни. Все другие распутывают и проясняют, он один связывает и дает меру». В эпоху, когда порода и величие слывут тем, чему можно научиться, когда всё призывается к ответу перед лицом разума и рассудка, надо уметь пользоваться оружием противника «и это вполне относится к сократовской иронии: он постоянно говорит о мышлении, он, который занят только человеческим бытием» (22–23). Прием, к которому прибегает здесь Зингер, не нов и свойствен далеко не только георгеанцам: что не помещается в нужную нам формулу Сократа, то объявляется иронией!
Интересно, что основным «беспокойством» сократового духа Зингер считает противоречие между доблестью как знанием и учением о методическом незнании. От отчаяния и путаницы Сократа спасает «сила его крови» (32), – хотя до этого Зингер пространно обсуждал «безродность» Сократа, правда, с лихвой искупаемую тем, что он полагал себя «сыном Законов».
Зингер, как и все георгеанцы, считает диалектику не очень существенным элементом сократовского учения, сильно преувеличенным научной и университетской традицией (38). Поскольку ее центральное место в диалогах, прежде всего ранних, надо все же как-то объяснить, он не без остроумия встраивает ее в сократовскую педагогику. Диалектика закаливает инстинкты у тех, у кого они имеются, а слабых, неблагородных и лишенных инстинктов устраняет из словесно-эротического агона. Ибо только подлинный воин способен не просто действовать, а «отдавать отчет» (logoi didonai) в действии (37).
Подобно другим георгеанцам, но, пожалуй, даже с большим успехом, Зингер стремится придать своему исследованию торжественно-гимническую форму, заботясь об афористичности формул. Например, в «Лизисе»
мы вступаем в интимнейший круг образа Сократа, в круг культового посвящения и преобразования в мифе. В «Пире» на полуночном праздненстве Сократ угадывается в образе Эроса; «Федон» показывает его, просветленного, в час расставания как провозвестника очищения; «Федр» празднует полноту и воспитание души, зачатие и рождение, упоение и сон, тьму и свет, эрос и логос в пылко-строгом подъеме, превосходя сократовы пределы, памятуя о сократовом образе (39).
Зингер не собирался выяснять какой-то истины о Сократе в документально-археологическом смысле слова. Его Сократ должен был стать – вполне в монументальном духе scienza nuova – образом, достойным прообраза, и вместе с тем образом, сообщающим своему прообразу всю суггестивную силу образца: «Мифический образ тем и отличается от протоколов научного исследования, что он вечен и не может быть поколеблен никаким последующим развитием знания». Пьянящее волшебство произведению Платона придает то, что оно есть памятник творческой встречи очеловечившегося демона и ставшего богом человека (40–41).
Как возвещает уже название книги, центром ее выступает «Полития», «основывающее произведение» [das Werk der Gründung] (65) по преимуществу. В несравнимо более высокой степени, чем до него Залин, Зингер мифизирует, мистифицирует этот платоновский труд, ни за что не желая уступить его всерасчленяющему веку филологического триумфа. Пусть стилометры доказывают, что первая часть сочинения возникла в юности; от этого единство «Политий» лишь выигрывает, так как становится ясно, в какой степени мысль Платона была свободна от «становления» (67). Тема этого труда – что такое человек и ему прирожденная норма. Ответ выражается не в силлогизмах, а в мифе, к которому приводит диалектика (68). В ходе разворачивания «Политий» Сократ преобразуется из героического вопрошателя в обладателя божественного знания, в основателя, направляющего свой взгляд на праобраз подлинного сообщества [Gemeinwesen] (76). Полис укоренен в необходимом, в нужде, и путь к высокому проходит через разрушение старого и отжившего. Всё великое неотрывно от кощунства [Frevel] и избавления от него. Схема строится поэтому триадически (78):
священный город сытый город очищенный город
мера кощунство спасение
воины стражники философы
Конечно, речь идет не о реальных условиях возникновения государства в реальном времени (кого интересуют взгляды Платона на эти материи, должен обратиться к «Законам»), и триаду нельзя рассматривать как исторические фазы. Эти кайротические (а не хронологические) типы коренятся один в другом, и переход от одного к другому вызван не какой-то внешней нуждой, а необходимостью самого государствообразующего духа, его самопонимания и самоочищения (79).
Особую важность для георгеанца Зингера приобретает вопрос о судьбе искусства в полисе. Как объяснить изгнание из него поэтов и художников? Не начинается ли уже с Платона христианская переоценка античных ценностей, возмущение чистого духа против плотского и плотью питаемого искусства, моральное восстание рабов? Новому времени верхом и воплощением греческого духа представляется гомеровский мир, поэтому в платоновском учении об искусстве оно находило не восхождение, а обеднение, реакцию моралиста на свободу. По этой причине платоновская критика искусства не воспринимается нами – на исходе долгой Wirkungsgeschichte – как сама собой разумеющаяся, а остается причудливой философемой великого мыслителя. По Зингеру, Платон изгоняет искусство и Гомера во имя возвращения к догомеровской, еще единой с культом, пластике (80–84). Когда распадается это единство, возникают объяснительный миф, рационализация ритуала, сказка, безжизненная статуя и прочее искусство, порожденное индивидуальным капризом художника, а затем этика, логика, политика… Платоновскую философию, его учение об идеях, его полисооснование можно понять только из воли вернуться из этого состояния мира к тому, в котором были рождены и действовали греческие боги. Его теория идей – это не просто некая система ценностей, но путь, ведущий из овеществленного и обезверенного мира к всечеловеческой действительности. Его политика – это попытка дать божественному безопасное место среди человеческого сообщества, уберечь его от враждебных сил Я и материи. Платон не отвергает поэзию, которую называет «божественной». Но нужда в спасении Единого такова, что он запрещает себе чистую мечту и требует снова чуда. Произведение искусства помогает воплотить бога или не имеет места в его империи. Иными словами, искусство не только не изгоняется, но наделяется прерогативами, неизвестными ни предшественникам, ни потомкам вплоть до современных, начала XX века, эстетов (85–87).
Так отчетливо выраженная у Платона идея единства музических и политических законов (настолько, что невозможно менять одни, не меняя и другие) не свойственна только ему и предстает общегреческим достоянием (89). О политических взглядах Платона было сказано немало глупостей. Например, в запрете на частную собственность видели начало коммунизма, тогда как на деле речь шла о критерии, видит ли данное конкретное лицо в своей руководящей роли в городе повод для как можно полного осуществления своего гедонистико-эгоистического счастья или же, наоборот, готов к великому отречению (90–91). В нем следует видеть символ самопожертвования частей по отношению к целому (тогда как части патологически склонны, напротив, к бунту против целого). Добродетель справедливости (четвертую в ряду с мудростью, мужеством и благоразумием) нужно толковать прежде всего как осознание человеком своего места и своего дела и непосягание на иное и большее (95–98). Здесь следует принять точку зрения царствующего и обозревать целое с его перспективы (100). Не то в Новое время, когда изменения государства стали ждать не от правителей, а от подданных (129).
От читателей Нового времени, занятого исключительно третьим сословием, может ускользнуть, что в «Политий» под видом общезначимого и всех касающегося послания закодирована теория, касающаяся только кучки избранных [nur einer kleinen Schar Erwählter] (105), на которых лежит миссия воспитания, образования: всё, что говорится в «Политий» об идеях, говорится ради правильного формирования человека и государства, а не ради истины (111). Диалектика здесь – не доступная каждому наука о понятиях, а способ общения этих избранных: это «учение о том, как отдавать себе и друзьям отчет в правомочности каждого шага созерцающей мысли» (115). Этим определяется демоническая роль философа, связующего этот и тот мир (108); другим посредником и незыблемой священной сердцевиной Новой Империи остаются Дельфы (93). До Платона философ созерцал, понимал, объяснял и удивлялся. Платоновский философ всем нутром устремлен к государству: он правит, ведет, дает закон, основывает, удерживает в бытии (107). Человек, государство и вселенная – это для него концентрические сферы (108).
Зингер настолько увлечен идеей гармонии и всеобщей связи руководства и подчинения, что объявляет платоновский принцип познания подобного подобным – универсально греческим (109–110), то есть попросту игнорирует Аристотеля. Однако не всё греческое совпадает с платоновским или совместимо с ним. Как раз то, что специфично для греков – тяга к агону, страсть с созерцанию, радость аргументации, конструирования, доказательства – всё это Платон стремится обуздать. Тяге к агону он указывает новую великую цель, Высшее Благо, а награду в борьбе полагает в самой Благой Жизни. Ограничение простого взирания – постоянная забота законодателя. Только когда исполнена служба государству и воспитание себе подобных, можно предаться теоретической жизни (123–124). После греков и римлян только немцам дано преодолеть в себе узкоспецифично национальное[250]250
Зингер употребляет слово 'völkisch' в очень нетрадиционном смысле: как то, что немцам следует преодолеть в себе!
[Закрыть], найти новое единство, стать основателями чего-то большего, чем просто их национальное государство (125–126).
После того как новое основано, надо его сохранить. Но позицию Платона так же глупо назвать консервативной, как и коммунистической. Это Новое время не может жить, не становясь постоянно другим, не меняясь, не прогрессируя, и ему странно обнаружить в «Политий» совсем иное воззрение. Однако здесь нет и покоя как антипода движения. К покою стремятся египтяне или индусы; «Полития» восходит от прекрасного к более прекрасному (127). «Полития» есть миф, а миф говорит не о некогда-бывшем, но о вечно-сущем (128). Уже даже Аристотель не понимал, что это не одно из возможных государств, а норма всех действительных (137). Это нормативно-совершенное государство основывается в мысли (вот, оказывается, в каком смысле нужно толковать и название книги Зингера) как прообраз всех конституций государственных и индивидуально-душевных. Вопрос о том, осуществилась ли уже или осуществится ли когда-либо такая конституция в действительности, для философа не имеет значения (146). Сам Платон ясно осознавал некайротичность момента, в котором ему выпало жить (158): «Полития» завершается не какими-то афоризмами житейской мудрости, а уплотнением духа, сужением круга, чисткой сообщества, ожесточением воли к формированию (148). Ибо формирование (гештальтирование, Gestaltung) человека есть наивысшая прерогатива правителей, и примитивные народы с задворок ойкумены, возлагающие на правителей ответственность за ветер, урожай, победу или военное поражение, понимают больше, чем трусливые прогрессивные, которые видят в правителях легальных исполнителей профессиональных действий или носителей личных амбиций (155–156). В целом буржуазно-пролетарское просвещение неспособно понять Платона, так как понять дух может только конгениальный дух (158).
Что же делать царственному духу в несвоевременную эпоху? Мирный путь софистов и риторов Платон считал ниже своего достоинства. Путь насильственный он хотя и не отвергал в принципе (скорее терпеть зло, чем его причинять – было принципом Сократа, а не его и не большинства греков (176)), но демон подсказывал ему, что физическое истребление врагов и очищение полиса от скверны было применять уже поздно; он считал себя позднорожденным («V Письмо»). Поэтому провидя на века вперед, вплоть до рыцарских орденов и капиталистического общества, он направил всю свою деятельную силу на узкий круг Академии (159–162). Даже и в Сицилии целью его было не изменение режима, а воспитание мужей (165–166). Конкретной его задачей была борьба против софистов и риторов, стремившихся к приватизации духовной жизни, к разложению полиса на агрегат индивидов и интересов (169–171). Поэтому Дион под платоновским руководством был одним из последних политиков, кто ставил строительство государства и империи выше отдельной души и ее спасения (200). В провале своих идей Платон увидел дело богов и почтил его. Он понял и принял, что греческая кровь (Blut – самое частое слово в книге Зингера) в его эпоху уже была слаба и неспособна к образованию гештальта (206).
Рассматривая георгеанские фавориты, «Федр» и «Пир», Зингер вполне ожиданно настаивает на доксе Круга: «На воплощении бога и обожествлении плоти покоится всё греческое существо» (190). Тот же принцип обожествленной плоти должен руководить и нашим чтением диалогов: в них «чувственное не отсылает к духовному, не делает его наглядным, не поясняет его, но чувственное и духовное родились из одного мира, из одного бытия, несущего в себе свой смысл». Здесь не иносказание, самосказание (Gleichnis versus Selbnis, 193). Философия была для Платона чем-то неизмеримо большим, чем диалектическая способность, чем доступные каждому методы и проблемы (197). Соответственно в разборе диалогов Зингер, как правило, не входит в логические и эпистемические рассуждения (даже, скажем, в «Теэтете» и «Пармениде»), рассматривая их как школьные упражнения, либо – в случае «Тимея» – как признак старческой воли к округлению, завершению картины (213).
4. Реакции на книгу
Книга была замечена и в платоноведческих кругах, и достаточно широкой читательской публикой[251]251
Глава «Сократ и Платон» была опубликована в воскресном приложении «Welt und Werk» к берлинской «Deutsche Allgemeine Zeitung» от 15.05.1927.
[Закрыть]. Несмотря на отсутствие прямого одобрения Мастера, Круг вынужден был признать книгу «своей». Вильгельм Андреэ (напомним: античник и экономист, близкий к Вольтерсу и Хильдебрандту) в своей рецензии на две книги, швейцарского пастора Германа Куттера и Курта Зингера, посвященные Платону, обрушивается с издевательской критикой на модернизирующий подход Куттера и позитивно противопоставляет ему Зингера,
книга которого стоит на совсем другом уровне и – по крайней мере по своему устремлению – даже на наивысшем, которого сегодня может достичь наше время. […] Ей предшествовала прежде всего работа Генриха Фридемана, которую сам автор упоминает с почтением и благодарностью, и которую сегодня признаёт эпохальной для нового способа рассмотрения даже цеховое исследование Платона в филологии и философии. Конечно, Зингер не достиг уровня фридемановского образца, но он – и это уже немало – действительно равнялся на него[252]252
Andreae, 1928–1929, 203.
[Закрыть].
Маловероятно, что такое высокомерно-снисходительное одобрение было высказано без ведома Хильдебрандта (а возможно, и самого Георге; у нас нет для обеих гипотез никаких письменных оснований), зато очевидно, что для «нидершёнхаузенцев» гундольфианец Зингер был лишь наполовину своим. Далее Андреэ адресует Зингеру упреки в загадочности, зашифрованности, которые тот чрезмерно приписывает Платону. «Конечно, сегодня снова и снова становится насущной задачей указать на то, что мифическое[253]253
На георгеанском языке это означало отнюдь не 'мнимое', а достигающее мощи мифа.
[Закрыть] величие основателя духовной империи остается равно недоступным представителям как историцизма, так и логицизма, и что скорее люди родственной жизни в своем преданном почитании могут угадать и прозреть в космической власти таких натур»[254]254
Andreae, 1928–1929, 204.
[Закрыть], но у Зингера выполнение этой нужной задачи не подкреплено достаточным числом новых содержательных результатов.
Рецензенты «со стороны» отмечали недостаточную ясность высказывания, избыточность риторических арабесок, утомительные повторы одних и тех же идей (которые, правда, придают книге несомненное единство), но другие выходцы из той же среды вокруг поэта Георге достигают его менее навязчивыми средствами[255]255
Dahmen, 1929, 331–332. Ганц Дамен, литературовед (книга о Э.Т.А. Гоффмане) и теолог.
[Закрыть]. Другой рецензент (Конрад Вандре, литературовед, биограф Теодора Фонтане) сочувственно отмечает, что Зингер не опирается на наличную платоноведческую литературу, поскольку руководствуется «в созерцании сущности директивами, которые находит в самом предмете», то есть Платоне. При этом он достигает такой близости к предмету, что если читатель Зингера захочет сверить его толкование с диалогами, ему не понадобится «никакое снижение уровня» [keine Niveau-Senkung]. Однако сомнение прокрадывается в душу читателя, когда он замечает «перехлесты», в которые автор то и дело впадает. Но главная особенность книги, вышедшей из георгеанского окружения, состоит в том, что она констатирует потрясающее сходство исторических и творческих ситуаций Платона и Георге. Оба они пытались осуществить свое внутреннее видение; оба действовали среди чужих (Сицилия и, соответственно, Париж и Рим); оба борются с нивелирующим воздействием своего времени; оба вынуждены в своем воздействии довольствоваться узким кругом единомышленников; оба уповают на фигуру вождя; оба строят свои идеальные государства вокруг священных фигур (Сократ, Максимин – рано умерший любимец Георге), противостоя скептическому отношению среды (к Академии, к Кругу Георге). Однако автор несколько злоупотребляет этим неоспоримым сходством, неоправданно придавая Платону чуждые ему, застывшие черты[256]256
Wandrey, 1927.
[Закрыть].
В своей пространной статье-рецензии, красноречиво озаглавленной «Штефан Георге, истолкованный через "Платона" Курта Зингера», теолог и историк идей Иоганн Б. Шёман отталкивается как раз от рецензии Вандре и иронизирует над чудесными совпадениями между Платоном и Георге. А что удивительного, если смотреть на Платона глазами Георге? Опосредующее звено Шёман находит в книге Ф. Гундольфа «Георге», в которой (само)стилизация поэта под древнего философа становится очевидной. Она позволяет Георге-Гундольфу вчитывать в Платона что угодно[257]257
Schoemann, 1929.
[Закрыть].
Реакция античников была неоднородной. Цюрихский классический филолог Эрнст Ховальд считает «книгу Зингера, вышедшую из Круга Георге, очень значимой, возможно, лучшей из имеющихся»[258]258
Howald, 1930.
[Закрыть], а также исправляет оценку Брехта в книге 1929 года, сильно переоценивавшего зависимость Зингера от Фридемана. На это письмо Зингер счел нужным пространно ответить (в «Neue Zürcher Zeitung», 3.02.1930) в том смысле, что он хотя и «не зависит» от Фридемана, но всё же многим ему обязан.
Ганс Ляйзеганг в своей известной небольшой книге о новых толкованиях Платона 1929 года едко отзывается о георгеанцах, и в частности о Зингере. Буйство красивых фраз, которое по замыслу таит в себе глубочайший смысл, оборачивается парой банальностей, подходящих к тому же больше гностикам, чем Платону. В дебатах по поводу «VII письма» и позднего неписаного учения Зингер категоричен и отметает эти гипотезы высомерно-пренебрежительным жестом: всё учение в диалогах. Такая позиция, считает Ляйзеганг,
содержит обоснованное предупреждение по поводу чрезмерной оценки так называемой поздней философии Платона, от открытия которой многие ждут сегодня какого-то особенного откровения; но она содержит также и хорошо замаскированный отказ от винограда, которой объявляется кислым только потому, что висит слишком высоко для тех, которые не прошли филологическую выучку и вынуждены довольствоваться тем, что поставляется им в переводах для общего употребления и злоупотребления презренными чернорабочими науки[259]259
Leisegang, 1929,51.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.